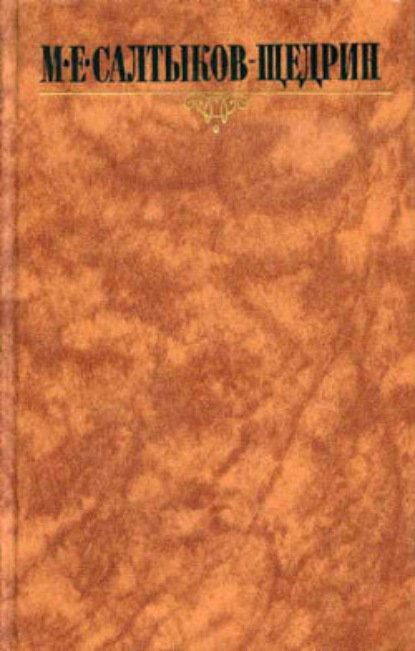По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В больнице для умалишенных
Жанр
Серия
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Меньше полутораста – ни-ни!
– Послушай! кому же ты, наконец, это говоришь! А я тебе повторяю: хочешь на пари сто рублей! Из них я пятьдесят отдаю по принадлежности и представляю ясные доказательства выигрыша, на остальные пятьдесят – дюжину! Подснежников! да уверь же хоть ты наконец этого наивного человека!
В четвертом углу:
– Покуда не будет ангажирована Эмма – я в цирк ни ногой! En voila une femme – quelle croupe! Вот женщина – какой круп! A то, помилуй, двухголового соловья выписывают! Ну, черта ли мне в нем, спрашиваю я вас!
– А я так, право, не знаю: как будто только и света в окне, что Эмма! По-моему, Пальмира была лучше… au moins, elle avait des cuisses, celle-la! по крайней мере, у ней были такие ляжки! A то что ж! круп да круп – и ничего больше!
– Ты потому так говоришь, что ты только любитель, а не знаток, mon cher! Настоящий знаток что ценит в женщине? – он ценит посадку и устой! Главное, чтоб устой был хорош: широкий, крепкий, как вылитый! А то нашел: «les cuisses»! Ну что такое твоя Пальмира? Разве это наездница! разве это настоящая наездница?
– Однако ж и в то время бывали знатоки, которые…
– Какие тогда были знатоки? Настоящий, заправский знаток народился только теперь, а тогда были amateurs de cuisses любители ляжек. – и больше ничего. Laissez-moi en paix avec vos «cuisses», mon cher! C'est pitoyable! Оставьте меня в покое с вашими «ляжками», мой милый! Вы достойны сожаления!
По временам Вани обращались ко мне, называя меня «cher intrus» или «aimable provincial» «милый пролаза», «любезный провинциал», я отшучивался, как мог, лежа в дыму, чувствуя, как немеют мои бока, но совершенно гордый сознанием, что столько добрых малых так добры, что и меня включают в число добрых малых…
Пролежав таким образом до семи часов, я выпил множество рюмок, наглотался всякого сырья и съел из настоящей пищи только отбивную котлетку, принесенную от кухмистера Саламатова, тут же, через двор. Котлетка лежала на захватанной пальцами, отпотевшей от холоду тарелке и плавала в бульоне, покрытом кружками застывшего жира. При этом я вытирал себе губы салфеткой, которою, наверно, вытиралось не меньше трех-четырех поколений корнетов.
В семь часов – в цирк.
Что было в цирке и после цирка – я не помню. Помню только, что я снимал шубу и опять надевал, потом вновь снимал и вновь надевал…
На другой день, едва успел я ощутить страстную потребность хватить рюмку коньяку, как уже в двери моего номера стучался «молодец» из лавки и от имени Вани извещал, что «господа» собрались.
На третий и на четвертый день то же. На пятый я спохватился и велел сказать, что не приду. На столе у меня лежали газеты за четыре дня и письмо от Менандра. «Амедей отказался! Я еду в Испанию узнать, что и как. Мартос, Фигверас, – Кастелляр – какое сцепление! Вопрос: что скажет Олоцага? Надеюсь, что в мое отсутствие ты твердо выскажешься за едиУйую и нераздельную республику, если, впрочем, не предпочитаешь ей республику федеральную. Прощай; спешу в Мадрид!
Амедей отказался! О, превратность судеб! О, тщета величия! И все это случилось в те четыре дня, которые я провел в закусочной!
Но всякое явление имеет и худую и хорошую сторону. Жаль Амедея – слова нет, но сколько передовых статей можно нашгсать по его поводу – этого ни в сказках сказать, ни пером описать! Таков закон судеб: валится сильный мира а бедному человеку, смотришь, что-нибудь да и выпало! Сейчас же бегу к Мелье, и завтра же, с божьего помощью, настрочу статью. В этой статье будет огненными чертами изображено: „с одной стороны, должно сознаться, что отказ Амедея был новою неожиданностью в ряду бесчисленных неожиданностей, которыми изобилует современная история; но с другой стороны, нельзя не признаться, что ежели взглянуть на дело пристальнее, то окажется, что отказ этот подготовлялся издалека и мог казаться неожиданностью лишь для тех, которые слишком поверхностно смотрят на неизбежный ход исторических событий. Все связано в этом мире“…
Но в ту минуту, как я, надевая калоши, распланировывал мою будущую статью, вошел Ваня. Он был видимо взволнован и даже слегка рассержен.
– Вы, дядя, может быть, пренебрегаете нашим обществом? – сухо спросил он, глядя на меня в упор. – У вас, может быть, есть более умные занятия?.. ведь вы, кажется, ученый, mon oncle… n'est-ce pas? дядюшка… не правда ли?
– Нисколько, мой друг! Я сейчас… я только вот хотел… можно ли так истолковывать мои действия! Кстати: ты знаешь, конечно, что Амедей отказался!
– Какой еще Амедей! Que me dites-vous la! Что вы говорите!
– Амедей, испанский король, мой друг. Он отказался, и я хочу…
– То есть, вы хотите сказать, что теперь вас занимает Амедей… Согласитесь, однако ж, что это только отговорка, дядя! И притом, отговорка совсем неловкая, потому что кому же, наконец, не известно, что в Испании Isabeau, a совсем не Амедей!
– Христос с тобой, душа моя! Isabeau давным-давно…
– Treve de mistiiications, mon oncle! Бросьте мистификации, дядюшка! Вы не с ребенком говорите. Я спрашиваю вас совершенно серьезное хотите ли вы провести день с нами, как вчера, и третьего дня? Ежели хотите, то надевайте шубу, и идем; ежели же не хотите, те я жду объяснения, что именно заставляет вас выказывать такое пренебрежение к нам?
– Но клянусь же, друг мой… право, я с удовольствием. Я хотел только узнать, как это Амедей… после двухлетнего, почти блестящего…
– En bien, vous nous raconterez tout cela chez nous Хорошо, вы нам расскажете все это у нас., в нашей закусочной. Я знаю, что вы „ученый“, mon oncle, и уже рассказал это всем. Послушайте! ведь если Амедей уж отказался j'espere que c'est une raison de plus pour ne pas s'en inquieter! надеюсь, это еще одна причина, чтобы не беспокоиться о нем.
Затем он пошел вперед, а я последовал за ним.
В этот день я рассказывал Ваням об Амедее. Что он был добрый, что он полюбил новое отечество совершенно так, как будто оно было старое, и что теперь ему предстоит полюбить старое отечество совершенно так, как будто оно новое. Потом, я в кратких словах упомянул о Дон-Карлосе, об Изабелле и матери ее Христине, о непреоборимо преданном Марфори, о герцоге Монпансьерском и в заключение выразил надежду, что гидра будет подавлена и Марфори восторжествует.
– Ну-с, а теперь ложитесь, mon oncle! Подснежников уступает вам свой диван! Vous serez notre president! Вы будете нашим председателем!
Недоразумение на этот раз улеглось, но черная кошка уже пробежала между нами. Я сделал очень важную ошибку, высказав разом столько познаний по части испанской истории, потому что с тех пор меня уже не называли иначе как „профессором“ и „ученым“. И как мне показалось, названия эти были употребляемы не в прямом смысле, а в ироническом.
Дни проходили за днями, требуя новых и новых компромиссов. Я все посещал закусочную и с невероятною быстротой устремлялся в бездну. Я давно забыл об Амедее и помнил только одно: что мне предстоит выпить в день от двадцати до тридцати рюмок коньяку и заесть их котлеткой от Саламатова.
Наконец, в одно прекрасное утро, я имел удовольствие услышать, как меня в глаза назвали нигилистом.
– Любезнейший нигилист! Правда ли, что вы статеечки пописываете? бесцеремонно обратился ко мне Ваня Поскребышев.
Это было тем более обидно, что Поскребышев был простой феидрих, который просто-напросто думал, что „нигилист“ значит „мормон“ или что-нибудь в этом роде. На этот раз я счел долгом даже протестовать, но-о, ужас! – по мере того как я приводил это намерение в исполнение, мой протест, незаметно для меня самого, постепенно превращался в самое заискивающее ласкательство! Это до того поощрило моих новых друзей, что один из них тут же потихоньку насыпал мне в рюмку пеплу от сигары.
Так длился целый месяц. Я не раз порывался бежать, но с меня уже не спускали глаз, так что я, совершенно незаметно, очутился в положении арестанта. У меня отняли даже возможность протестовать, потому что эти люди обладали каким-то дьявольским тактом в деле пакостей. Они устраивали пакость таким образом, что она, будучи пакостью в самом обширном значении этого слова, не переставала в то же время иметь вид шутки в несколько размашистом русском тоне. Они выдергивали из-под меня стул и тут же обнимали меня; они щипали меня за обе щеки – и тут же целовали.
– Обиделся! – говорил Ваня Подснежников, – ну, помиримся! Согласись сам, чем же я виноват, что у тебя такие пухлые щеки! Нигилист! душка! ну, позволь же! позволь еще раз ущипнуть! Не хочет! жестокий! Господа! нигилист обиделся! надо утешить его! возьмем его на руки и станем качать!
И меня брали на руки и высоко взбрасывали, рискуя разбить о потолок мою голову. Мне кажется, что, ежели бы они сразу меня искалечили, я был бы счастлив, потому что это избавило бы меня от них…
Наконец меня объял ужас. Но вместо того чтоб бежать от моих друзей на край света, я, как и все слабохарактерные, только усложнил свое положение. Я скрылся не на край света, а в безвестный ресторанчик на Вознесенской, куда по моим расчетам ни один из Ваней не имел основания заглянуть.
Я забирался туда с раннего утра, когда заспанные гарсоны еще не начинали уборки комнат, пропитанных промозглым табачным дымом, когда заплеванные и заслякощенные полы были буквально покрыты окурками папирос и сигар, когда в двери ресторана робко выглядывали нищие и выпрашивали вчерашних черствых пирогов. Я уходил в дальную комнату, пил кофе и читал газеты. Затем ресторан наполнялся завсегдатаями, я завтракал, смотрел, как играют в биллиард, обедал и оставался до той минуты, когда ресторан запирался окончательно. Через неделю я сделался тут „своим“; игроки в биллиард спрашивали у меня советов, гарсоны – слегка заигрывали.
В одно прекрасное утро я углубился в созерцание биллиардных шаров и ничего не ждал. И вдруг чувствую, что ктрто тронул меня по плечу. Обертываюсь: передо мной Ваня, который, возвращаясь с ученья, заехал в ресторанчик выпить рюмку коньяку…
Он ничего не сказал мне, а только поманил пальнем…
Это было до того странно, что многие тут же выразили уверенность, что я „скрывался“, что меня „накрыли“ и повели теперь к судебному следователю.
Мы ехали молча; наконец сани остановились у знакомого подъезда „закусочной“. Мы прошли мимо бочек с миндалем и орехами, сопровождаемые приветливыми улыбками „молодцов“, и вступили в преисподнюю. Все Вани были в сборе.
– Decidement, mon oncle, vous nous meprisez?! В самом деле, дядюшка, вы нас презираете?! – не то вопросительно, не то утвердительно обратился ко мне Ваня.
– Какой вздор! можно ли предполагать…
– Treve de subterfuges, mon oncle! Je vous demande, si vous nous meprisez, oui ou non? Бросьте увертки, дядюшка! Я спрашиваю, презираете вы нас? Да или нет?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И он взял с первого попавшегося под руку блюда за хвост селедку и слегка потрепал ее по моему носу.
– Vous etes un coeur d'or, Jean! Вы золотое сердце, Жан! – раздалось где-то, но так как-то смутно, что я не мог даже разобрать, один ли голос выразил эту похвалу или много.
В глазах у меня завертелись зеленые круги, во рту вдруг высохло. Я не знал, на что мне решиться: броситься ли на моего обидчика или самому себе разбить голову. Но, должно быть, я бросился вперед, потому что в эту минуту раздался неистовый взрыв хохота.
– Послушай! кому же ты, наконец, это говоришь! А я тебе повторяю: хочешь на пари сто рублей! Из них я пятьдесят отдаю по принадлежности и представляю ясные доказательства выигрыша, на остальные пятьдесят – дюжину! Подснежников! да уверь же хоть ты наконец этого наивного человека!
В четвертом углу:
– Покуда не будет ангажирована Эмма – я в цирк ни ногой! En voila une femme – quelle croupe! Вот женщина – какой круп! A то, помилуй, двухголового соловья выписывают! Ну, черта ли мне в нем, спрашиваю я вас!
– А я так, право, не знаю: как будто только и света в окне, что Эмма! По-моему, Пальмира была лучше… au moins, elle avait des cuisses, celle-la! по крайней мере, у ней были такие ляжки! A то что ж! круп да круп – и ничего больше!
– Ты потому так говоришь, что ты только любитель, а не знаток, mon cher! Настоящий знаток что ценит в женщине? – он ценит посадку и устой! Главное, чтоб устой был хорош: широкий, крепкий, как вылитый! А то нашел: «les cuisses»! Ну что такое твоя Пальмира? Разве это наездница! разве это настоящая наездница?
– Однако ж и в то время бывали знатоки, которые…
– Какие тогда были знатоки? Настоящий, заправский знаток народился только теперь, а тогда были amateurs de cuisses любители ляжек. – и больше ничего. Laissez-moi en paix avec vos «cuisses», mon cher! C'est pitoyable! Оставьте меня в покое с вашими «ляжками», мой милый! Вы достойны сожаления!
По временам Вани обращались ко мне, называя меня «cher intrus» или «aimable provincial» «милый пролаза», «любезный провинциал», я отшучивался, как мог, лежа в дыму, чувствуя, как немеют мои бока, но совершенно гордый сознанием, что столько добрых малых так добры, что и меня включают в число добрых малых…
Пролежав таким образом до семи часов, я выпил множество рюмок, наглотался всякого сырья и съел из настоящей пищи только отбивную котлетку, принесенную от кухмистера Саламатова, тут же, через двор. Котлетка лежала на захватанной пальцами, отпотевшей от холоду тарелке и плавала в бульоне, покрытом кружками застывшего жира. При этом я вытирал себе губы салфеткой, которою, наверно, вытиралось не меньше трех-четырех поколений корнетов.
В семь часов – в цирк.
Что было в цирке и после цирка – я не помню. Помню только, что я снимал шубу и опять надевал, потом вновь снимал и вновь надевал…
На другой день, едва успел я ощутить страстную потребность хватить рюмку коньяку, как уже в двери моего номера стучался «молодец» из лавки и от имени Вани извещал, что «господа» собрались.
На третий и на четвертый день то же. На пятый я спохватился и велел сказать, что не приду. На столе у меня лежали газеты за четыре дня и письмо от Менандра. «Амедей отказался! Я еду в Испанию узнать, что и как. Мартос, Фигверас, – Кастелляр – какое сцепление! Вопрос: что скажет Олоцага? Надеюсь, что в мое отсутствие ты твердо выскажешься за едиУйую и нераздельную республику, если, впрочем, не предпочитаешь ей республику федеральную. Прощай; спешу в Мадрид!
Амедей отказался! О, превратность судеб! О, тщета величия! И все это случилось в те четыре дня, которые я провел в закусочной!
Но всякое явление имеет и худую и хорошую сторону. Жаль Амедея – слова нет, но сколько передовых статей можно нашгсать по его поводу – этого ни в сказках сказать, ни пером описать! Таков закон судеб: валится сильный мира а бедному человеку, смотришь, что-нибудь да и выпало! Сейчас же бегу к Мелье, и завтра же, с божьего помощью, настрочу статью. В этой статье будет огненными чертами изображено: „с одной стороны, должно сознаться, что отказ Амедея был новою неожиданностью в ряду бесчисленных неожиданностей, которыми изобилует современная история; но с другой стороны, нельзя не признаться, что ежели взглянуть на дело пристальнее, то окажется, что отказ этот подготовлялся издалека и мог казаться неожиданностью лишь для тех, которые слишком поверхностно смотрят на неизбежный ход исторических событий. Все связано в этом мире“…
Но в ту минуту, как я, надевая калоши, распланировывал мою будущую статью, вошел Ваня. Он был видимо взволнован и даже слегка рассержен.
– Вы, дядя, может быть, пренебрегаете нашим обществом? – сухо спросил он, глядя на меня в упор. – У вас, может быть, есть более умные занятия?.. ведь вы, кажется, ученый, mon oncle… n'est-ce pas? дядюшка… не правда ли?
– Нисколько, мой друг! Я сейчас… я только вот хотел… можно ли так истолковывать мои действия! Кстати: ты знаешь, конечно, что Амедей отказался!
– Какой еще Амедей! Que me dites-vous la! Что вы говорите!
– Амедей, испанский король, мой друг. Он отказался, и я хочу…
– То есть, вы хотите сказать, что теперь вас занимает Амедей… Согласитесь, однако ж, что это только отговорка, дядя! И притом, отговорка совсем неловкая, потому что кому же, наконец, не известно, что в Испании Isabeau, a совсем не Амедей!
– Христос с тобой, душа моя! Isabeau давным-давно…
– Treve de mistiiications, mon oncle! Бросьте мистификации, дядюшка! Вы не с ребенком говорите. Я спрашиваю вас совершенно серьезное хотите ли вы провести день с нами, как вчера, и третьего дня? Ежели хотите, то надевайте шубу, и идем; ежели же не хотите, те я жду объяснения, что именно заставляет вас выказывать такое пренебрежение к нам?
– Но клянусь же, друг мой… право, я с удовольствием. Я хотел только узнать, как это Амедей… после двухлетнего, почти блестящего…
– En bien, vous nous raconterez tout cela chez nous Хорошо, вы нам расскажете все это у нас., в нашей закусочной. Я знаю, что вы „ученый“, mon oncle, и уже рассказал это всем. Послушайте! ведь если Амедей уж отказался j'espere que c'est une raison de plus pour ne pas s'en inquieter! надеюсь, это еще одна причина, чтобы не беспокоиться о нем.
Затем он пошел вперед, а я последовал за ним.
В этот день я рассказывал Ваням об Амедее. Что он был добрый, что он полюбил новое отечество совершенно так, как будто оно было старое, и что теперь ему предстоит полюбить старое отечество совершенно так, как будто оно новое. Потом, я в кратких словах упомянул о Дон-Карлосе, об Изабелле и матери ее Христине, о непреоборимо преданном Марфори, о герцоге Монпансьерском и в заключение выразил надежду, что гидра будет подавлена и Марфори восторжествует.
– Ну-с, а теперь ложитесь, mon oncle! Подснежников уступает вам свой диван! Vous serez notre president! Вы будете нашим председателем!
Недоразумение на этот раз улеглось, но черная кошка уже пробежала между нами. Я сделал очень важную ошибку, высказав разом столько познаний по части испанской истории, потому что с тех пор меня уже не называли иначе как „профессором“ и „ученым“. И как мне показалось, названия эти были употребляемы не в прямом смысле, а в ироническом.
Дни проходили за днями, требуя новых и новых компромиссов. Я все посещал закусочную и с невероятною быстротой устремлялся в бездну. Я давно забыл об Амедее и помнил только одно: что мне предстоит выпить в день от двадцати до тридцати рюмок коньяку и заесть их котлеткой от Саламатова.
Наконец, в одно прекрасное утро, я имел удовольствие услышать, как меня в глаза назвали нигилистом.
– Любезнейший нигилист! Правда ли, что вы статеечки пописываете? бесцеремонно обратился ко мне Ваня Поскребышев.
Это было тем более обидно, что Поскребышев был простой феидрих, который просто-напросто думал, что „нигилист“ значит „мормон“ или что-нибудь в этом роде. На этот раз я счел долгом даже протестовать, но-о, ужас! – по мере того как я приводил это намерение в исполнение, мой протест, незаметно для меня самого, постепенно превращался в самое заискивающее ласкательство! Это до того поощрило моих новых друзей, что один из них тут же потихоньку насыпал мне в рюмку пеплу от сигары.
Так длился целый месяц. Я не раз порывался бежать, но с меня уже не спускали глаз, так что я, совершенно незаметно, очутился в положении арестанта. У меня отняли даже возможность протестовать, потому что эти люди обладали каким-то дьявольским тактом в деле пакостей. Они устраивали пакость таким образом, что она, будучи пакостью в самом обширном значении этого слова, не переставала в то же время иметь вид шутки в несколько размашистом русском тоне. Они выдергивали из-под меня стул и тут же обнимали меня; они щипали меня за обе щеки – и тут же целовали.
– Обиделся! – говорил Ваня Подснежников, – ну, помиримся! Согласись сам, чем же я виноват, что у тебя такие пухлые щеки! Нигилист! душка! ну, позволь же! позволь еще раз ущипнуть! Не хочет! жестокий! Господа! нигилист обиделся! надо утешить его! возьмем его на руки и станем качать!
И меня брали на руки и высоко взбрасывали, рискуя разбить о потолок мою голову. Мне кажется, что, ежели бы они сразу меня искалечили, я был бы счастлив, потому что это избавило бы меня от них…
Наконец меня объял ужас. Но вместо того чтоб бежать от моих друзей на край света, я, как и все слабохарактерные, только усложнил свое положение. Я скрылся не на край света, а в безвестный ресторанчик на Вознесенской, куда по моим расчетам ни один из Ваней не имел основания заглянуть.
Я забирался туда с раннего утра, когда заспанные гарсоны еще не начинали уборки комнат, пропитанных промозглым табачным дымом, когда заплеванные и заслякощенные полы были буквально покрыты окурками папирос и сигар, когда в двери ресторана робко выглядывали нищие и выпрашивали вчерашних черствых пирогов. Я уходил в дальную комнату, пил кофе и читал газеты. Затем ресторан наполнялся завсегдатаями, я завтракал, смотрел, как играют в биллиард, обедал и оставался до той минуты, когда ресторан запирался окончательно. Через неделю я сделался тут „своим“; игроки в биллиард спрашивали у меня советов, гарсоны – слегка заигрывали.
В одно прекрасное утро я углубился в созерцание биллиардных шаров и ничего не ждал. И вдруг чувствую, что ктрто тронул меня по плечу. Обертываюсь: передо мной Ваня, который, возвращаясь с ученья, заехал в ресторанчик выпить рюмку коньяку…
Он ничего не сказал мне, а только поманил пальнем…
Это было до того странно, что многие тут же выразили уверенность, что я „скрывался“, что меня „накрыли“ и повели теперь к судебному следователю.
Мы ехали молча; наконец сани остановились у знакомого подъезда „закусочной“. Мы прошли мимо бочек с миндалем и орехами, сопровождаемые приветливыми улыбками „молодцов“, и вступили в преисподнюю. Все Вани были в сборе.
– Decidement, mon oncle, vous nous meprisez?! В самом деле, дядюшка, вы нас презираете?! – не то вопросительно, не то утвердительно обратился ко мне Ваня.
– Какой вздор! можно ли предполагать…
– Treve de subterfuges, mon oncle! Je vous demande, si vous nous meprisez, oui ou non? Бросьте увертки, дядюшка! Я спрашиваю, презираете вы нас? Да или нет?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И он взял с первого попавшегося под руку блюда за хвост селедку и слегка потрепал ее по моему носу.
– Vous etes un coeur d'or, Jean! Вы золотое сердце, Жан! – раздалось где-то, но так как-то смутно, что я не мог даже разобрать, один ли голос выразил эту похвалу или много.
В глазах у меня завертелись зеленые круги, во рту вдруг высохло. Я не знал, на что мне решиться: броситься ли на моего обидчика или самому себе разбить голову. Но, должно быть, я бросился вперед, потому что в эту минуту раздался неистовый взрыв хохота.