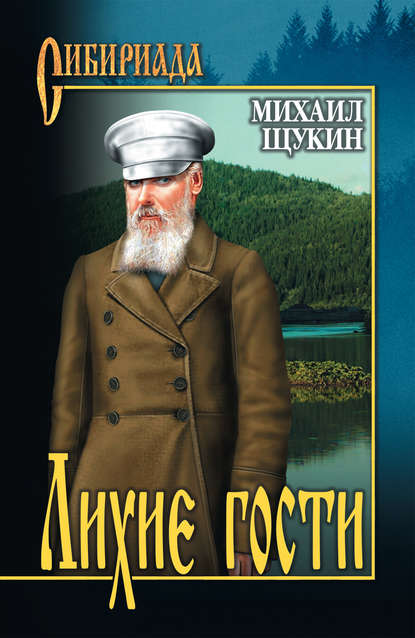По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лихие гости
Автор
Серия
Год написания книги
2012
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зима между тем на вторую половину переваливала, а благословения парням все не было. Прошло еще время и стало ясно, что его не будет вовсе. Какая охота, когда на солнечной стороне ударила с крыш первая капель…
У Егорки – новая работа. Долбить большими кусками лед на речке. Куски эти на волокушах тащили в деревню и спускали в погреба, чтобы там все лето было холодно и молоко, квас, мясо и прочий продукт не прокисал. Егорка старательно долбил лед, набивая черенком тяжелой пешни костяные мозоли на ладонях. Дух перевел, когда навалилось тепло, а по бокам узкой и плотно притоптанной за зиму дороги осел снег, покрывшись хрусткой коркой. До самого выгона стада на луг Егорку больше ни в какую работу не впрягали, и он наводил порядок в своей избе: обмазывал печку, мыл стены, закоптившиеся за долгую зиму, старым березовым веником скоблил полы и так старательно обиходил свое жилище, что узнать его не мог – светло, просторно, будто сама изба раздвинулась.
И еще слаще показалась Егорке жизнь у староверов.
Обломилась же она одним махом.
Не иначе как снова бес за левым плечом постарался.
В начале лета, в тихий и светлый вечер, явились в избу Мирон с Никифором и сообщили, что призывает их к себе Евлампий, в сей же час, без промедления. Так они к нему и прибыли – бегом. Толкая друг друга в тесном дверном проеме, перешагнули через порог и встали, отвесив поясной поклон.
За зиму Евлампий еще больше усох, кожа на руках потемнела, как листы в старых книгах, но острый взгляд пронизывал, как и раньше, насквозь, а нос, похожий на клюв, торчал из белой бороды по-прежнему грозно. В избе властвовал все тот же кисловатый, застоялый запах. Евлампий сидел на лавке и опирался двумя руками на тонкую палочку, словно боялся без этой опоры завалиться на бок. Рядом с ним лежал большой лоскут кожи, свернутый в трубку и перевязанный залоснившимися веревочками. Евлампий, не отрывая взгляда от парней, стоявших у порога, нашарил вздрагивающей рукой кожаный свиток и, помолчав, сказал:
– Мирон, подойди, прими чертеж.
Мирон почтительно приблизился, взял двумя руками свиток и замер, не зная, куда ему следует шагнуть.
– Садись, – показал на лавку Евлампий, – и вы присаживайтесь. Через два дня в дорогу отправитесь. Идти вам следует в конец долины, до озера, – Мирон и Никифор быстро и тревожно переглянулись, Евлампий заметил этот тревожный перегляд парней и продолжил: – Знаю, что никогда в той стороне не были, потому и чертеж вручаю, там все проходы указаны. Чертеж пуще глаза берегите. Беда будет, коли он в чужие руки попадет. Доберетесь – оглядите все и разузнайте. Пришлые люди объявились. Откуда они и кто такие – неведомо. И вы перед ними не раскрывайтесь и не показывайтесь. Со стороны посмотрите, украдкой послушайте и обратно возвращайтесь. Если ненароком схватят вас, молчите каменно, намертво молчите. Вижу я, сердцем вижу: худые люди к нам в соседи пожаловали. Благословляю вас, детушки…
Евлампий тяжело поднялся на тонких вздрагивающих ногах, выпрямился, горделиво вскинув голову, и осенил всех троих, не исключая Егорку, двуперстием. А когда снова опустился на лавку, коротко добавил:
– За старшего Мирон будет. Послушаться ему, как мне. Теперь ступайте. На сборы вам два дня будет.
Через два дня, рано утром, когда солнце из-за горы еще не поднялось, а только окрасило острую макушку розовым светом, они выехали из деревни. Под каждым был добрый конь, еще одного, на котором уложили большие переметные сумы, вели в поводу. Все три всадника – при ружьях, в доброй дорожной одежде – основательно, без суеты собирались в долгий и нелегкий путь, ничего не забыли, даже чистые тряпицы лежали в сумах, на тот случай, если потребуется рану перевязать.
Миновали луг, на котором еще недавно Егорка пас коров, втянулись в густой ельник, лежащий у подножия кряжа, и скрылись в его темно-зеленой глубине, будто растаяли!
16
– Голову пригни! Пригни! – Мирон махнул рукой, оборачиваясь назад, и сам сник над конской гривой, натягивая узду и поворачивая своего каурого жеребца в обратную сторону.
Никифор и Егорка тоже припали к шеям своих лошадей и стали спускаться следом за ним с невысокой горушки, увенчанной большущим каменным валуном, на которую они только что въехали, чтобы осмотреться. Тревога всадников передалась лошадям, и они ставили копыта чутко и неслышно. Под горушкой, в неглубокой низине, обметанной с двух сторон густым кустарником, Мирон спрыгнул со своего жеребца и сообщил шепотом, быстро озираясь по сторонам:
– Люди там. Много людей. Ты, Никифор, оставайся с конями, а мы с Егорием наверх поднимемся, посмотрим. Пошли, Егорий.
Сторожась, оглядываясь по сторонам и выбирая извилистый путь по склону, где трава была выше и гуще, они ящерицами проползли на горушку и залегли возле каменного валуна. От него, расположенного на самом солнцепеке, пыхало жаром, словно от печки. Егорка полежал не двигаясь, смахнул со лба пот и осторожно выглянул, прислонив ладонь козырьком ко лбу – солнце слепило прямо в глаза.
Вот, оказывается, ради чего ломались они в тяжелом пути, одолевая каменные осыпи, опасные подъемы и спуски, продираясь через густые заросли кустарника и высокой, в рост, травы. Для того чтобы полюбоваться на картину, которая открылась перед ними под ярким и жгучим солнцем во всей своей четкости: два мужика косили сено на небольшом лужке возле круглого, как блюдце, озера. А сбоку от озера, примыкая к нему вплотную, тянулся полукругом глухой и высокий заплот, сложенный из толстых пластин. За заплотом видны были длинные и приземистые строения: избы не избы и казармы не казармы, а что-то непонятное. И только приглядевшись, можно было догадаться, что строения, поставленные почти впритык друг к другу, образовывали своего рода укрепление. Вместо окон во внешних стенах были прорезаны маленькие бойницы. Деревянная крепость, да и только.
Возле строений шла жизнь. Сновали люди, издали похожие на муравьев, занимались, как в любом большом хозяйстве, обыденными, простыми делами: пилили и кололи дрова, складывая их в длинную поленницу, метали в стога сено, подтаскивая его с луга прямо в копнах, вкапывали в землю высокие столбы, соединяли их поперечными бревнами, и нетрудно было догадаться, что возводится караульная вышка.
Нехорошее предчувствие ворохнулось у Егорки под сердцем. Не верил он мирной картине, которую видел перед собой. Караульную вышку зря ставить не будут…
– Егорий, слышишь меня? – шепотом позвал его Мирон.
– Слышу, – также шепотом отозвался Егорка.
– Уводите с Никифором коней к ручью, там, где кусты погуще. Помнишь, ручей переезжали? И ждите меня. Я до вечера здесь погляжу, а как стемнеет, попробуем ближе подобраться – может, чего услышим…
Егорка отполз от валуна и по старому следу стал спускаться к изножью горушки. И спустился уже, выпрямился во весь рост, чтобы скользнуть к кустам, в которых сидел Никифор с конями, шагнул и – не достал земли, будто ее вышибли из-под ног. В одно мгновение руки оказались завернутыми за спину, в рот влетел кляп, смотанный из жесткого конского волоса, а голову накрыла плотная, вонючая тряпка, будто в старый мешок сунули, в котором раньше гнилье лежало. Так это быстро и без единого звука произошло, что Егорка не успел даже охнуть. Только кряхтел, чувствуя себя в крепких и жестких руках, словно в кандалах, а еще догадывался, что его куда-то торопливо, наверное, бегом, несут, встряхивая время от времени и перехватывая еще крепче.
Кажется, донесли. Опустили на землю, поставили на колени и сдернули с головы тряпку. Егорка ошалело вскинул голову: стояли вокруг него с десяток мужиков. Все, как на подбор, бородатые, широкой кости, и все с той особой печатью на лицах, которая проявляется после тюремных и каторжных отсидок. Глаз у Егорки был наметан, он сразу догадался – какая такая почтенная публика его стреножила.
И точно.
– Елочки-метелочки, палочки точеные! Да это же, ребята, Таракан попался! Собственной персоной! Здорово, любезный! Ты откуда приполз?
Егорка моргнул маленькими своими глазками и увидел: растопырив длинные руки, двигался к нему, припадая сразу на обе ноги, высокий, сутулый мужик с рыжей, клочковатой бородой. Над левым глазом у него дергалась лохматая, кривая бровь, пересеченная глубоким шрамом. Эту дергающуюся бровь, которая наводила страх и ужас на всех сидельцев в Тюменском тюремном замке, Егорка на всю жизнь запомнил. Ванька Петля – вот кто шел, растопыривая руки и загребая песок носками кривых ног, тот самый Ванька Петля, про которого говорили: мамку родную зарежет и не поморщится, только бровью подмигнет.
– Ну, здорово, Таракан, – Ванька присел перед ним на корточки, вытянул длинную клешнястую руку и положил ее Егорке на плечо. Рука была тяжелая и цепкая.
– Здорово, Ваня.
– Какими ветрами к нам занесло?
– Попутными.
– Ладно, попутными так попутными… Смотри, Таракан, как бы тебя эти ветерки не продули. Кровяными соплями чихать будешь, если с худым умыслом здесь объявился.
– Да я, Ваня, не по своей воле, с каторги я утек, – заторопился, скороговоркой произнося слова, Егорка, но Петля его оборвал:
– Не сикоти, под нож тебя еще не поставили, – обернулся, отрывисто спросил: – Цезарю сказали?
– Сказали, – доложил кто-то из мужиков, – велено в темную запереть.
– Тогда веди.
Егорку вздернули с земли, утвердили на ногах и повели к одному из строений. Послушно и торопливо шагая, Егорка успел еще услышать голос Петли:
– А тех двоих взяли?
– Взяли, едва одолели, здоровые, как быки, – ответил кто-то Петле и стал говорить дальше, видно, рассказывал обстоятельней, но Егорка уже не расслышал. Перед ним раскрыли тяжелую дверь, одним взмахом ножа рассекли веревку на руках и втолкнули в темную, без окон, каморку. Дверь за ним глухо стукнула, и звонко лязгнул железный запор.
– Поганое ведро в углу, – пробасил кто-то хриплым голосом, – сам найдешь. А не найдешь – в портки клади.
И захохотал.
Прислонясь спиной к стене, Егорка опустился на корточки, стянул с рук остатки веревки. Затекшие ладони будто десятки иголок пронзили. Он сцепил пальцы в замок и в отчаянии начал стучать себя в лоб. Это надо же так вляпаться! Словно в кучу дерьма задом сел! Прости-прощай теперь спокойная, сытая жизнь, и добрые коровки на цветистом лугу прощайте. Ничего хорошего от людей, среди которых был Ванька Петля, он не ожидал. О Мироне с Никифором не думал – своя судьба и своя шкура заботили. Егорка опустил руки и лег ничком на сухой, шершавый пол, но тут же вскинулся и пополз вдоль стены, лихорадочно ее ощупывая: может, какая щелка… Но бревенчатые стены стояли – намертво. И пол, сбитый, похоже, из толстых плах, был сколочен на совесть – не то что щелки, даже малого зазора не имелось. Только и нашел Егорка деревянное ведро, из которого воняло, как из нужника. Тогда он вытянулся на спине, затих и сам не заметил, как уснул.
Разбудил громкий стук в дверь. Егорка, вырываясь из сна, поднял голову, прислушался. Из-за двери донесся голос Петли:
– Таракан, чего не отзываешься? Помер или живой?
– Живой, – Егорка подвинулся ближе к двери.
– Слушай меня, если дальше жить хочешь. Скоро тебя к главному здесь поведут. Будет про староверов спрашивать. Рассказывай, как есть. И не вздумай перечить, у него рука легкая, легше моей – смахнет головенку саблюкой, и никуда ты, Таракан, не уползешь. Смекай. Я по старому знакомству предупредил, а ты смекай.
Звук шаркающих по земле шагов отдалился, замер. Егорка снова лег на пол, и его снова мгновенно одолел тяжелый сон. Вот напасть! Ему бы горькие думки думать, волосы на голове рвать, а он – как маковой воды опился, дрыхнет и видит один и тот же, бесконечно длинный сон: цветистый луг, а по нему коровки ходят. Тихие, смирные, и важно так ходят, словно плывут поверх травы и цветов…
У Егорки – новая работа. Долбить большими кусками лед на речке. Куски эти на волокушах тащили в деревню и спускали в погреба, чтобы там все лето было холодно и молоко, квас, мясо и прочий продукт не прокисал. Егорка старательно долбил лед, набивая черенком тяжелой пешни костяные мозоли на ладонях. Дух перевел, когда навалилось тепло, а по бокам узкой и плотно притоптанной за зиму дороги осел снег, покрывшись хрусткой коркой. До самого выгона стада на луг Егорку больше ни в какую работу не впрягали, и он наводил порядок в своей избе: обмазывал печку, мыл стены, закоптившиеся за долгую зиму, старым березовым веником скоблил полы и так старательно обиходил свое жилище, что узнать его не мог – светло, просторно, будто сама изба раздвинулась.
И еще слаще показалась Егорке жизнь у староверов.
Обломилась же она одним махом.
Не иначе как снова бес за левым плечом постарался.
В начале лета, в тихий и светлый вечер, явились в избу Мирон с Никифором и сообщили, что призывает их к себе Евлампий, в сей же час, без промедления. Так они к нему и прибыли – бегом. Толкая друг друга в тесном дверном проеме, перешагнули через порог и встали, отвесив поясной поклон.
За зиму Евлампий еще больше усох, кожа на руках потемнела, как листы в старых книгах, но острый взгляд пронизывал, как и раньше, насквозь, а нос, похожий на клюв, торчал из белой бороды по-прежнему грозно. В избе властвовал все тот же кисловатый, застоялый запах. Евлампий сидел на лавке и опирался двумя руками на тонкую палочку, словно боялся без этой опоры завалиться на бок. Рядом с ним лежал большой лоскут кожи, свернутый в трубку и перевязанный залоснившимися веревочками. Евлампий, не отрывая взгляда от парней, стоявших у порога, нашарил вздрагивающей рукой кожаный свиток и, помолчав, сказал:
– Мирон, подойди, прими чертеж.
Мирон почтительно приблизился, взял двумя руками свиток и замер, не зная, куда ему следует шагнуть.
– Садись, – показал на лавку Евлампий, – и вы присаживайтесь. Через два дня в дорогу отправитесь. Идти вам следует в конец долины, до озера, – Мирон и Никифор быстро и тревожно переглянулись, Евлампий заметил этот тревожный перегляд парней и продолжил: – Знаю, что никогда в той стороне не были, потому и чертеж вручаю, там все проходы указаны. Чертеж пуще глаза берегите. Беда будет, коли он в чужие руки попадет. Доберетесь – оглядите все и разузнайте. Пришлые люди объявились. Откуда они и кто такие – неведомо. И вы перед ними не раскрывайтесь и не показывайтесь. Со стороны посмотрите, украдкой послушайте и обратно возвращайтесь. Если ненароком схватят вас, молчите каменно, намертво молчите. Вижу я, сердцем вижу: худые люди к нам в соседи пожаловали. Благословляю вас, детушки…
Евлампий тяжело поднялся на тонких вздрагивающих ногах, выпрямился, горделиво вскинув голову, и осенил всех троих, не исключая Егорку, двуперстием. А когда снова опустился на лавку, коротко добавил:
– За старшего Мирон будет. Послушаться ему, как мне. Теперь ступайте. На сборы вам два дня будет.
Через два дня, рано утром, когда солнце из-за горы еще не поднялось, а только окрасило острую макушку розовым светом, они выехали из деревни. Под каждым был добрый конь, еще одного, на котором уложили большие переметные сумы, вели в поводу. Все три всадника – при ружьях, в доброй дорожной одежде – основательно, без суеты собирались в долгий и нелегкий путь, ничего не забыли, даже чистые тряпицы лежали в сумах, на тот случай, если потребуется рану перевязать.
Миновали луг, на котором еще недавно Егорка пас коров, втянулись в густой ельник, лежащий у подножия кряжа, и скрылись в его темно-зеленой глубине, будто растаяли!
16
– Голову пригни! Пригни! – Мирон махнул рукой, оборачиваясь назад, и сам сник над конской гривой, натягивая узду и поворачивая своего каурого жеребца в обратную сторону.
Никифор и Егорка тоже припали к шеям своих лошадей и стали спускаться следом за ним с невысокой горушки, увенчанной большущим каменным валуном, на которую они только что въехали, чтобы осмотреться. Тревога всадников передалась лошадям, и они ставили копыта чутко и неслышно. Под горушкой, в неглубокой низине, обметанной с двух сторон густым кустарником, Мирон спрыгнул со своего жеребца и сообщил шепотом, быстро озираясь по сторонам:
– Люди там. Много людей. Ты, Никифор, оставайся с конями, а мы с Егорием наверх поднимемся, посмотрим. Пошли, Егорий.
Сторожась, оглядываясь по сторонам и выбирая извилистый путь по склону, где трава была выше и гуще, они ящерицами проползли на горушку и залегли возле каменного валуна. От него, расположенного на самом солнцепеке, пыхало жаром, словно от печки. Егорка полежал не двигаясь, смахнул со лба пот и осторожно выглянул, прислонив ладонь козырьком ко лбу – солнце слепило прямо в глаза.
Вот, оказывается, ради чего ломались они в тяжелом пути, одолевая каменные осыпи, опасные подъемы и спуски, продираясь через густые заросли кустарника и высокой, в рост, травы. Для того чтобы полюбоваться на картину, которая открылась перед ними под ярким и жгучим солнцем во всей своей четкости: два мужика косили сено на небольшом лужке возле круглого, как блюдце, озера. А сбоку от озера, примыкая к нему вплотную, тянулся полукругом глухой и высокий заплот, сложенный из толстых пластин. За заплотом видны были длинные и приземистые строения: избы не избы и казармы не казармы, а что-то непонятное. И только приглядевшись, можно было догадаться, что строения, поставленные почти впритык друг к другу, образовывали своего рода укрепление. Вместо окон во внешних стенах были прорезаны маленькие бойницы. Деревянная крепость, да и только.
Возле строений шла жизнь. Сновали люди, издали похожие на муравьев, занимались, как в любом большом хозяйстве, обыденными, простыми делами: пилили и кололи дрова, складывая их в длинную поленницу, метали в стога сено, подтаскивая его с луга прямо в копнах, вкапывали в землю высокие столбы, соединяли их поперечными бревнами, и нетрудно было догадаться, что возводится караульная вышка.
Нехорошее предчувствие ворохнулось у Егорки под сердцем. Не верил он мирной картине, которую видел перед собой. Караульную вышку зря ставить не будут…
– Егорий, слышишь меня? – шепотом позвал его Мирон.
– Слышу, – также шепотом отозвался Егорка.
– Уводите с Никифором коней к ручью, там, где кусты погуще. Помнишь, ручей переезжали? И ждите меня. Я до вечера здесь погляжу, а как стемнеет, попробуем ближе подобраться – может, чего услышим…
Егорка отполз от валуна и по старому следу стал спускаться к изножью горушки. И спустился уже, выпрямился во весь рост, чтобы скользнуть к кустам, в которых сидел Никифор с конями, шагнул и – не достал земли, будто ее вышибли из-под ног. В одно мгновение руки оказались завернутыми за спину, в рот влетел кляп, смотанный из жесткого конского волоса, а голову накрыла плотная, вонючая тряпка, будто в старый мешок сунули, в котором раньше гнилье лежало. Так это быстро и без единого звука произошло, что Егорка не успел даже охнуть. Только кряхтел, чувствуя себя в крепких и жестких руках, словно в кандалах, а еще догадывался, что его куда-то торопливо, наверное, бегом, несут, встряхивая время от времени и перехватывая еще крепче.
Кажется, донесли. Опустили на землю, поставили на колени и сдернули с головы тряпку. Егорка ошалело вскинул голову: стояли вокруг него с десяток мужиков. Все, как на подбор, бородатые, широкой кости, и все с той особой печатью на лицах, которая проявляется после тюремных и каторжных отсидок. Глаз у Егорки был наметан, он сразу догадался – какая такая почтенная публика его стреножила.
И точно.
– Елочки-метелочки, палочки точеные! Да это же, ребята, Таракан попался! Собственной персоной! Здорово, любезный! Ты откуда приполз?
Егорка моргнул маленькими своими глазками и увидел: растопырив длинные руки, двигался к нему, припадая сразу на обе ноги, высокий, сутулый мужик с рыжей, клочковатой бородой. Над левым глазом у него дергалась лохматая, кривая бровь, пересеченная глубоким шрамом. Эту дергающуюся бровь, которая наводила страх и ужас на всех сидельцев в Тюменском тюремном замке, Егорка на всю жизнь запомнил. Ванька Петля – вот кто шел, растопыривая руки и загребая песок носками кривых ног, тот самый Ванька Петля, про которого говорили: мамку родную зарежет и не поморщится, только бровью подмигнет.
– Ну, здорово, Таракан, – Ванька присел перед ним на корточки, вытянул длинную клешнястую руку и положил ее Егорке на плечо. Рука была тяжелая и цепкая.
– Здорово, Ваня.
– Какими ветрами к нам занесло?
– Попутными.
– Ладно, попутными так попутными… Смотри, Таракан, как бы тебя эти ветерки не продули. Кровяными соплями чихать будешь, если с худым умыслом здесь объявился.
– Да я, Ваня, не по своей воле, с каторги я утек, – заторопился, скороговоркой произнося слова, Егорка, но Петля его оборвал:
– Не сикоти, под нож тебя еще не поставили, – обернулся, отрывисто спросил: – Цезарю сказали?
– Сказали, – доложил кто-то из мужиков, – велено в темную запереть.
– Тогда веди.
Егорку вздернули с земли, утвердили на ногах и повели к одному из строений. Послушно и торопливо шагая, Егорка успел еще услышать голос Петли:
– А тех двоих взяли?
– Взяли, едва одолели, здоровые, как быки, – ответил кто-то Петле и стал говорить дальше, видно, рассказывал обстоятельней, но Егорка уже не расслышал. Перед ним раскрыли тяжелую дверь, одним взмахом ножа рассекли веревку на руках и втолкнули в темную, без окон, каморку. Дверь за ним глухо стукнула, и звонко лязгнул железный запор.
– Поганое ведро в углу, – пробасил кто-то хриплым голосом, – сам найдешь. А не найдешь – в портки клади.
И захохотал.
Прислонясь спиной к стене, Егорка опустился на корточки, стянул с рук остатки веревки. Затекшие ладони будто десятки иголок пронзили. Он сцепил пальцы в замок и в отчаянии начал стучать себя в лоб. Это надо же так вляпаться! Словно в кучу дерьма задом сел! Прости-прощай теперь спокойная, сытая жизнь, и добрые коровки на цветистом лугу прощайте. Ничего хорошего от людей, среди которых был Ванька Петля, он не ожидал. О Мироне с Никифором не думал – своя судьба и своя шкура заботили. Егорка опустил руки и лег ничком на сухой, шершавый пол, но тут же вскинулся и пополз вдоль стены, лихорадочно ее ощупывая: может, какая щелка… Но бревенчатые стены стояли – намертво. И пол, сбитый, похоже, из толстых плах, был сколочен на совесть – не то что щелки, даже малого зазора не имелось. Только и нашел Егорка деревянное ведро, из которого воняло, как из нужника. Тогда он вытянулся на спине, затих и сам не заметил, как уснул.
Разбудил громкий стук в дверь. Егорка, вырываясь из сна, поднял голову, прислушался. Из-за двери донесся голос Петли:
– Таракан, чего не отзываешься? Помер или живой?
– Живой, – Егорка подвинулся ближе к двери.
– Слушай меня, если дальше жить хочешь. Скоро тебя к главному здесь поведут. Будет про староверов спрашивать. Рассказывай, как есть. И не вздумай перечить, у него рука легкая, легше моей – смахнет головенку саблюкой, и никуда ты, Таракан, не уползешь. Смекай. Я по старому знакомству предупредил, а ты смекай.
Звук шаркающих по земле шагов отдалился, замер. Егорка снова лег на пол, и его снова мгновенно одолел тяжелый сон. Вот напасть! Ему бы горькие думки думать, волосы на голове рвать, а он – как маковой воды опился, дрыхнет и видит один и тот же, бесконечно длинный сон: цветистый луг, а по нему коровки ходят. Тихие, смирные, и важно так ходят, словно плывут поверх травы и цветов…