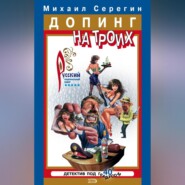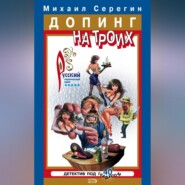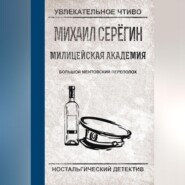По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Палач в белом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, тебе виднее! – сказал Хоменко. – Так ты едешь? Степаныч уже готов.
Я кивнул и вышел из диспетчерской. Слова Хоменко смутили меня. Интерес, проявленный ко мне элегантным и добрейшим Игорем Станиславовичем, предстал теперь совсем в ином свете. До сих пор мне не доводилось вплотную сталкиваться с проблемой сексуальных меньшинств, но надо признаться, что сочувствия у меня они не вызывали. Если сообщение Хоменко окажется правдой, в терапевтическом отделении меня ждут самые непредвиденные осложнения. Правда, сплетня – это наш национальный вид спорта, и все мои опасения могли оказаться совершенно пустыми. Подумаешь, не женат! Я тоже до сих пор не женат. Просто не готов пока взять на себя ответственность. Может быть, Макаров тоже пока не готов. Так или иначе, я решил выбросить до поры до времени все это из головы. У меня еще была впереди масса проблем с несчастным Зелепукиным.
Как обычно, никакого определенного сценария у меня не было. Я намеревался действовать по обстоятельствам. Никаких особенных результатов от своей поездки я не ожидал – если бы я застал Зелепукина в живых, это вполне бы меня удовлетворило. Пожалуй, я все-таки постарался бы припугнуть хозяйку оглаской. Дальше моя фантазия не простиралась.
Однако меня ожидал неприятный сюрприз. На двенадцатом этаже высотки, где располагалась квартира Зелепукина, меня встретила пожилая опрятная и внимательная женщина, в которой я узнал домработницу. Приоткрыв тяжелую дубовую дверь, она встревоженно и недоверчиво уставилась на мой белый халат.
– А-а... вы к кому? – неуверенно спросила она.
– Я к Федору Никодимовичу, – деловито объяснил я. – Или к его жене. Как хотите.
Домработница сделала движение, будто глотала застрявший в горле кусок.
– Лидии Сергеевны нет сейчас дома, – тихо ответила она. – А Федора Никодимовича... вы разве не знаете... мы вчера схоронили...
– Вот как! – озадаченно сказал я. – Какое несчастье! Нет, я ничего об этом не знал. Как он умер?
– Обыкновенно, – вздохнула домработница. – Лидия Сергеевна вышла на кухню по хозяйству... Завтрак сготовить... У меня-то в тот день как раз выходной был... А когда в спальную вернулась – он уж не дышит. Ну, отмучился, слава богу!
На лице ее было написано искреннее сожаление.
– Выходной... В день смерти вас здесь не было? – пробормотал я. – А еще кто-нибудь был в доме, кроме Лидии Сергеевны?
– Никого, – покачала головой домработница. – Одна она, бедняжка!.. А вы, значит, по ошибке приехали? Или, может, раньше договаривались?
– Получается, по ошибке, – ответил я. – Извините за беспокойство... А вообще Лидия Сергеевна когда теперь будет?
Домработница сокрушенно покачала головой.
– Уж и не знаю, что вам сказать. Она меня в свои дела не очень-то посвящает – считает ниже своего достоинства... Но, как я понимаю, – переезжает она. Квартира теперь другим людям достанется. Мне место искать придется, наверное...
– Что же с собой она вас не берет? – сочувственно спросил я.
– Куда? – таинственно приглушенным голосом произнесла женщина. – Она ведь за границу уезжает. За кордон! Там таких, как я...
Она безнадежно махнула рукой.
Итак, круг замкнулся. Своей ли смертью умер несчастливый Зелепукин, или Лидии Сергеевне удалось воплотить в жизнь свои зловещие планы – выяснить теперь не представлялось никакой возможности. Не требовать же, в самом деле, эксгумации покойника! На основании чего – моих ничем не подкрепленных подозрений? Дело, конечно, было нечисто – я был в этом уверен. И решительный отъезд Лидии Сергеевны за кордон косвенно подтверждал это. Но исправить свою ошибку мне было уже не суждено. И даже потревожить совесть железной леди Зелепукиной мне напоследок не удалось. Судьба распорядилась по-своему. Крайне недовольный собой, я распрощался и покинул злополучное место.
* * *
Всю ночь сквозь распахнутое окно в комнату вползал одуряющий зной. И только под утро, когда чуть-чуть побледнело небо, подул почти неуловимый ветерок, намекающий на спасительную прохладу. Роман Ильич, не сомкнувший глаз, в очередной раз повернулся на своей одинокой постели и, вытянув руку, нашарил на столике будильник. Поднеся его к глазам, Роман Ильич убедился, что мучиться еще долго – стрелки показывали половину четвертого. Он вернул будильник на место и, вытянувшись во весь рост, крепко зажмурил глаза. Методично и бесстрастно он принялся повторять про себя формулы аутогенной тренировки, пытаясь силой воли вызвать хоть полчаса сна.
Его настойчивость была вознаграждена: раздражение улеглось, и утомленный мозг начал погружаться в бархатную черную пучину, какие-то бесплотные туманные образы каруселью завертелись перед внутренним взором, но в этот момент предательский настойчивый звон комариных крыльев возник ниоткуда и впился в самое ухо. Сна как не бывало.
Четыкин открыл глаза и с ненавистью посмотрел на белесое пятно потолка, призрачно светившееся в полумраке. Проклятый комар исчез без следа, но дело свое он сделал. Роман Ильич понял, что теперь уснуть ему уже не удастся. «Нужно обязательно проверить сетку, – мимоходом подумал он. – Возможно, в ней появились отдельные прорехи». Устанавливая ее, он с присущей ему тщательностью и педантизмом заделывал все щели, но ничто не вечно под луной. Совсем не открывать окно было невозможно – лето в Москве выдалось убийственное, палящее, удушающее. Без сетки же в окна набивались всякие твари, отравляющие жизнь.
А жизнь у Четыкина и без того была нелегкой. Двадцать лет назад он окончил мединститут и, полный радужных надежд, начал свой трудовой путь. Реальность быстро не оставила от этих надежд даже мокрого места. Ничего особенного Роману Ильичу добиться не удалось. Он был усерден, но не более. Ни его средние способности, ни замкнутый характер, ни весьма заурядная внешность не сулили ему никаких перспектив. Он всегда оставался исполнительным, дисциплинированным, надежным и педантичным. Но этого было слишком мало для карьеры. Он пытался сходиться с нужными людьми, пытался угождать начальству, но особых выгод для себя не извлек.
В конце концов все оборачивалось против него – и исполнительность, и педантичность, и невыразительная внешность. Его бесстрастное лицо, изрытое шрамами от старых угрей, неподвижные рыбьи глаза, размеренный голос и абсолютное отсутствие чувства юмора отпугивали всех, кто имел с Романом Ильичом дело. Услуги принимали, но его самого старались держать от себя подальше, подозревая в нем некую скрытую угрозу. Единственное, чего ему удалось добиться, – это устроиться в престижную больницу, расположенную в одном из переулков между Тверской и Большой Никитской.
Работал он в отделении «Скорой помощи». Помощь была хотя и скорой, но платной, и клиентура у Романа Ильича весьма специфическая – бизнесмены, крупные чиновники, военные, артисты. Он выезжал по вызову в престижные районы, в элитные квартиры, в загородные особняки – и чужая обеспеченная жизнь вызывала в Четыкине глухую неутолимую зависть. Сам-то он жил в старом пятиэтажном доме на Варшавском шоссе, в однокомнатной квартире с кухней и санузлом на двух хозяев. Комната досталась ему от покойной матушки, которая в одиночку растила и воспитывала его. Роман Ильич еще пытался строить какие-то планы относительно нового жилья, делать накопления, но после «черного августа» все эти планы пошли к черту, накопления разлетелись в один момент, и все нужно было начинать с нуля.
Однако зарплата его, хотя и была несколько выше, чем в обычных учреждениях медицины, не позволяла уйти слишком далеко от этой круглой цифры. Нелепость и несправедливость такого положения угнетали Романа Ильича. Он вспоминал, что слышал о врачах на Западе – об их высоких гонорарах, счетах в банках, собственных клиниках и личных яхтах.
Да что там на Западе! И здесь, в России, врачи жили когда-то как люди – достаточно почитать того же Чехова! Врач имел дом – непременно большой, каменный, – собственный выезд, то есть лошадей и карету, а по нынешним меркам это будет не меньше, чем «Мерседес». Врач был человеком независимым и уважаемым.
И всего этого Роман Ильич был по непонятным причинам лишен. Какая-то неведомая, но непреклонная сила отобрала у него саму возможность достойной, насыщенной жизни, а взамен подсунула бесполезный диплом советского врача, дающий право лишь на полунищенское существование безо всяких намеков на перемены. Сознание своей беспомощности и неудачливости наполняло сердце Романа Ильича ядом отчаяния. Не складывалась у него и так называемая личная жизнь. И здесь срабатывал тот же эффект отчуждения. Его непреклонное, замкнутое лицо, изрытое шрамами, точно изъеденное червями, отпугивало от Четыкина любых женщин, даже дурнушек. И даже проститутки, услугами которых он иногда пользовался, несмотря на свой профессионализм, с трудом скрывали неприязнь, которую вызывал у них этот странный, сдержанный и скучный человек.
Будто в насмешку судьба подсунула Роману Ильичу в соседи юную профессиональную баскетболистку с карамельным именем Лариса. Несмотря на юный возраст, Лариса была совершенно самостоятельной и беспардонной особой. Она совершенно спокойно разгуливала по квартире в трусах, туго обтягивающих мощные бедра, и в спортивной желтой майке, которую сзади украшала огромная цифра «пять», а спереди – призывно торчащие девичьи соски. Четыкин всегда обмирал, видя перед собой эти два метра жаркой плоти, пухлые губы и соломенного цвета волосы, стянутые в хвост на затылке. Он испытывал к девушке сложное чувство, состоящее наполовину из ненависти, а наполовину из вожделения. Он перестал оставлять в ванной свои гигиенические принадлежности, потому что Лариса без зазрения совести могла в любую минуту воспользоваться его полотенцем, зубной пастой и даже бритвенными лезвиями, чтобы выбрить себе подмышки. Романа Ильича это коробило – ко всему прочему он был еще и необыкновенно брезглив. Никакие замечания и нравоучения на Ларису не действовали – она воспринимала Романа Ильича как пигмея и не прислушивалась к его словам. Ни ледяной тон, ни пристальный взгляд рыбьих глаз Роману Ильичу не помогали – его просто игнорировали, – и это причиняло ему дополнительные страдания.
Особенно туго ему приходилось, когда к Ларисе заваливались ее подруги – такие же огромные и бесстыжие баскетболистки в кроссовках невиданных размеров и со спортивными сумками через плечо.
После них на кухне оставалась грязь и горы окурков, испачканных розовой помадой. Но хуже всего было, когда приходили мужчины. Они менялись, но всегда это были непременно спортсмены – едва не задевавшие коротко стриженной головой потолок, с узлами мускулов на длинных руках и с беспощадными гладиаторскими глазами. Иногда кто-то из них оставался на ночь, и тогда из Ларискиной комнаты неслись такие страстные и неистовые звуки, что, слушая их, Роман Ильич едва не терял рассудок. Спасало его только то, что Лариса большую часть времени пропадала на сборах, соревнованиях, в заграничных вояжах, и тогда он становился единственным хозяином квартиры и немного восстанавливал душевное равновесие.
Но в целом положение свое Четыкин считал нестерпимым, и голова его постоянно была занята одним – он хотел срочно разбогатеть. Однако способов разбогатеть Роман Ильич не знал. Он умел только одно – лечить людей. За это ему платили умеренную зарплату, и никто не предлагал ни копейки больше. К способностям и желаниям Романа Ильича все были до странности равнодушны.
На работу он часто приходил разбитым и больным. Это всегда случалось, когда со сборов возвращалась его соседка Лариса. Возвращалась не одна, а с целым табором шальных баскетболисток. Они веселились всю ночь напролет. Четыкин не мог сомкнуть глаз. Прекратить бардак у него не хватало духу. От обилия мощных потных женских тел в маленькой квартире ему делалось по-настоящему жутко. Это был какой-то мистический, первобытный страх, справиться с которым Роман Ильич был не в силах.
На дежурстве он то и дело засыпал. Его тревожили, только если поступал вызов. По другим поводам коллеги предпочитали с ним не общаться, что, впрочем, вполне Романа Ильича устраивало. Ничего путного он от коллег не ждал. Как, впрочем, и от жизни.
* * *
Алексей Виноградов проснулся в семь утра. Он ежедневно просыпался в это время, так как за многие годы у него уже выработалась устойчивая привычка. Проснувшись, Виноградов некоторое время еще полежал в постели, потом встал и первым делом выпил стакан апельсинового сока.
Сделав зарядку, Виноградов надел шорты и футболку и вышел на улицу, направляясь в сторону парка, находящегося прямо напротив его дома. Пройдя через ворота, Алексей дошел до своей любимой аллеи и уже по ней побежал, разгоняясь, легкой трусцой...
Этот ритуал он совершал каждый день на протяжении многих лет. Исключения составляли лишь те утра, когда врач престижной частной клиники Алексей Викторович Виноградов возвращался утром с ночного дежурства. Но тогда он наверстывал упущенное вечером, после того как отсыпался.
Виноградову было тридцать два года. Это был высокий, стройный шатен с ясными голубыми глазами. Внешность его была яркой, неординарной и весьма привлекательной в глазах женщин. Он пользовался у них колоссальным успехом, но тем не менее никогда не был женат.
Он и сам не знал почему. Нет, не потому, что был убежденным холостяком. Просто так складывалось, что ни одну из своих многочисленных приятельниц он не представлял в роли жены.
На Виноградова трудно было угодить. Само собой, его будущая жена должна была обладать абсолютными внешними данными. Более того, Алексей предпочитал женщин из «высшего света». К тому же Виноградову нужна была женщина, с которой ему всегда было бы интересно. А часто выходило так, что новая ослепительная подружка оказывалась при более близком знакомстве не менее скучной, чем муляж. Так что долгих и прочных связей с женщинами Алексей не имел, хотя посвящал им немалую часть своей жизни.
Он появлялся с ними на светских мероприятиях, которые часто и охотно посещал. Благодаря работе в престижной больнице, общительности натуры Алексей имел много друзей и приятелей в разных кругах, но в основном из светской тусовки. Именно такая жизнь его всегда привлекала и манила. Рестораны, приемы, презентации, банкеты, литературные, кинематографические и прочие вечера – вот среда, в которой Алексей всегда хотел бы вращаться.
Конечно, подобный образ жизни требовал денег, и немалых. И в последнее время перед Алексеем эта проблема встала особенно остро. Тех денег, что он получал в клинике, ему явно не хватало. Приходилось залезать в долги, которые потом, естественно, непременно нужно было отдавать.
Алексей вырос в интеллигентной семье. Мать его была профессором-музыковедом, преподавателем музыки, отец – филологом-лингвистом, поэтому с детства было предопределено, что Леша выберет творческую профессию. И когда он объявил, что поступает в медицинский институт, члены его семьи хоть и поморщились, но не возражали и даже были и довольны: врач – вполне престижная профессия.
Учеба давалась Алексею легко. Будучи от природы очень одаренным человеком, обладая блестящей памятью, Алексей сдавал сессии, словно шутя. Однако, как это часто бывает при подобных данных, ему не хватало усидчивости. Он привык схватывать все на лету, а просиживать вечера и ночи за учебниками, грызя гранит науки, было скучно, неинтересно.
Окончив институт, он поработал врачом на «Скорой помощи», понял, что больших денег там не заработаешь, но зато приобрел практические навыки, после чего устроился в частную клинику – помогли мамины связи. Конечно, зарплата здесь была выше, чем на «Скорой», но все равно деньги таяли с катастрофической быстротой, не успевая за потребностями Алексея.
Не желая менять образ жизни, Алексей отчаянно искал дополнительный заработок. Но так как он был человеком честолюбивым, с амбициями, то и здесь его не могла устроить любая «шарашка». Пойти, например, подрабатывать грузчиком по вечерам он, конечно, не мог.
Пытался лечить знакомых своих знакомых, давал советы и разрабатывал собственные методики, но заработки эти не были стабильными, а также и высокими, поэтому не могли решить его проблем. А проблемы нависали тяжелым комом, готовым в любой момент обрушиться на буйную голову Виноградова.
Я кивнул и вышел из диспетчерской. Слова Хоменко смутили меня. Интерес, проявленный ко мне элегантным и добрейшим Игорем Станиславовичем, предстал теперь совсем в ином свете. До сих пор мне не доводилось вплотную сталкиваться с проблемой сексуальных меньшинств, но надо признаться, что сочувствия у меня они не вызывали. Если сообщение Хоменко окажется правдой, в терапевтическом отделении меня ждут самые непредвиденные осложнения. Правда, сплетня – это наш национальный вид спорта, и все мои опасения могли оказаться совершенно пустыми. Подумаешь, не женат! Я тоже до сих пор не женат. Просто не готов пока взять на себя ответственность. Может быть, Макаров тоже пока не готов. Так или иначе, я решил выбросить до поры до времени все это из головы. У меня еще была впереди масса проблем с несчастным Зелепукиным.
Как обычно, никакого определенного сценария у меня не было. Я намеревался действовать по обстоятельствам. Никаких особенных результатов от своей поездки я не ожидал – если бы я застал Зелепукина в живых, это вполне бы меня удовлетворило. Пожалуй, я все-таки постарался бы припугнуть хозяйку оглаской. Дальше моя фантазия не простиралась.
Однако меня ожидал неприятный сюрприз. На двенадцатом этаже высотки, где располагалась квартира Зелепукина, меня встретила пожилая опрятная и внимательная женщина, в которой я узнал домработницу. Приоткрыв тяжелую дубовую дверь, она встревоженно и недоверчиво уставилась на мой белый халат.
– А-а... вы к кому? – неуверенно спросила она.
– Я к Федору Никодимовичу, – деловито объяснил я. – Или к его жене. Как хотите.
Домработница сделала движение, будто глотала застрявший в горле кусок.
– Лидии Сергеевны нет сейчас дома, – тихо ответила она. – А Федора Никодимовича... вы разве не знаете... мы вчера схоронили...
– Вот как! – озадаченно сказал я. – Какое несчастье! Нет, я ничего об этом не знал. Как он умер?
– Обыкновенно, – вздохнула домработница. – Лидия Сергеевна вышла на кухню по хозяйству... Завтрак сготовить... У меня-то в тот день как раз выходной был... А когда в спальную вернулась – он уж не дышит. Ну, отмучился, слава богу!
На лице ее было написано искреннее сожаление.
– Выходной... В день смерти вас здесь не было? – пробормотал я. – А еще кто-нибудь был в доме, кроме Лидии Сергеевны?
– Никого, – покачала головой домработница. – Одна она, бедняжка!.. А вы, значит, по ошибке приехали? Или, может, раньше договаривались?
– Получается, по ошибке, – ответил я. – Извините за беспокойство... А вообще Лидия Сергеевна когда теперь будет?
Домработница сокрушенно покачала головой.
– Уж и не знаю, что вам сказать. Она меня в свои дела не очень-то посвящает – считает ниже своего достоинства... Но, как я понимаю, – переезжает она. Квартира теперь другим людям достанется. Мне место искать придется, наверное...
– Что же с собой она вас не берет? – сочувственно спросил я.
– Куда? – таинственно приглушенным голосом произнесла женщина. – Она ведь за границу уезжает. За кордон! Там таких, как я...
Она безнадежно махнула рукой.
Итак, круг замкнулся. Своей ли смертью умер несчастливый Зелепукин, или Лидии Сергеевне удалось воплотить в жизнь свои зловещие планы – выяснить теперь не представлялось никакой возможности. Не требовать же, в самом деле, эксгумации покойника! На основании чего – моих ничем не подкрепленных подозрений? Дело, конечно, было нечисто – я был в этом уверен. И решительный отъезд Лидии Сергеевны за кордон косвенно подтверждал это. Но исправить свою ошибку мне было уже не суждено. И даже потревожить совесть железной леди Зелепукиной мне напоследок не удалось. Судьба распорядилась по-своему. Крайне недовольный собой, я распрощался и покинул злополучное место.
* * *
Всю ночь сквозь распахнутое окно в комнату вползал одуряющий зной. И только под утро, когда чуть-чуть побледнело небо, подул почти неуловимый ветерок, намекающий на спасительную прохладу. Роман Ильич, не сомкнувший глаз, в очередной раз повернулся на своей одинокой постели и, вытянув руку, нашарил на столике будильник. Поднеся его к глазам, Роман Ильич убедился, что мучиться еще долго – стрелки показывали половину четвертого. Он вернул будильник на место и, вытянувшись во весь рост, крепко зажмурил глаза. Методично и бесстрастно он принялся повторять про себя формулы аутогенной тренировки, пытаясь силой воли вызвать хоть полчаса сна.
Его настойчивость была вознаграждена: раздражение улеглось, и утомленный мозг начал погружаться в бархатную черную пучину, какие-то бесплотные туманные образы каруселью завертелись перед внутренним взором, но в этот момент предательский настойчивый звон комариных крыльев возник ниоткуда и впился в самое ухо. Сна как не бывало.
Четыкин открыл глаза и с ненавистью посмотрел на белесое пятно потолка, призрачно светившееся в полумраке. Проклятый комар исчез без следа, но дело свое он сделал. Роман Ильич понял, что теперь уснуть ему уже не удастся. «Нужно обязательно проверить сетку, – мимоходом подумал он. – Возможно, в ней появились отдельные прорехи». Устанавливая ее, он с присущей ему тщательностью и педантизмом заделывал все щели, но ничто не вечно под луной. Совсем не открывать окно было невозможно – лето в Москве выдалось убийственное, палящее, удушающее. Без сетки же в окна набивались всякие твари, отравляющие жизнь.
А жизнь у Четыкина и без того была нелегкой. Двадцать лет назад он окончил мединститут и, полный радужных надежд, начал свой трудовой путь. Реальность быстро не оставила от этих надежд даже мокрого места. Ничего особенного Роману Ильичу добиться не удалось. Он был усерден, но не более. Ни его средние способности, ни замкнутый характер, ни весьма заурядная внешность не сулили ему никаких перспектив. Он всегда оставался исполнительным, дисциплинированным, надежным и педантичным. Но этого было слишком мало для карьеры. Он пытался сходиться с нужными людьми, пытался угождать начальству, но особых выгод для себя не извлек.
В конце концов все оборачивалось против него – и исполнительность, и педантичность, и невыразительная внешность. Его бесстрастное лицо, изрытое шрамами от старых угрей, неподвижные рыбьи глаза, размеренный голос и абсолютное отсутствие чувства юмора отпугивали всех, кто имел с Романом Ильичом дело. Услуги принимали, но его самого старались держать от себя подальше, подозревая в нем некую скрытую угрозу. Единственное, чего ему удалось добиться, – это устроиться в престижную больницу, расположенную в одном из переулков между Тверской и Большой Никитской.
Работал он в отделении «Скорой помощи». Помощь была хотя и скорой, но платной, и клиентура у Романа Ильича весьма специфическая – бизнесмены, крупные чиновники, военные, артисты. Он выезжал по вызову в престижные районы, в элитные квартиры, в загородные особняки – и чужая обеспеченная жизнь вызывала в Четыкине глухую неутолимую зависть. Сам-то он жил в старом пятиэтажном доме на Варшавском шоссе, в однокомнатной квартире с кухней и санузлом на двух хозяев. Комната досталась ему от покойной матушки, которая в одиночку растила и воспитывала его. Роман Ильич еще пытался строить какие-то планы относительно нового жилья, делать накопления, но после «черного августа» все эти планы пошли к черту, накопления разлетелись в один момент, и все нужно было начинать с нуля.
Однако зарплата его, хотя и была несколько выше, чем в обычных учреждениях медицины, не позволяла уйти слишком далеко от этой круглой цифры. Нелепость и несправедливость такого положения угнетали Романа Ильича. Он вспоминал, что слышал о врачах на Западе – об их высоких гонорарах, счетах в банках, собственных клиниках и личных яхтах.
Да что там на Западе! И здесь, в России, врачи жили когда-то как люди – достаточно почитать того же Чехова! Врач имел дом – непременно большой, каменный, – собственный выезд, то есть лошадей и карету, а по нынешним меркам это будет не меньше, чем «Мерседес». Врач был человеком независимым и уважаемым.
И всего этого Роман Ильич был по непонятным причинам лишен. Какая-то неведомая, но непреклонная сила отобрала у него саму возможность достойной, насыщенной жизни, а взамен подсунула бесполезный диплом советского врача, дающий право лишь на полунищенское существование безо всяких намеков на перемены. Сознание своей беспомощности и неудачливости наполняло сердце Романа Ильича ядом отчаяния. Не складывалась у него и так называемая личная жизнь. И здесь срабатывал тот же эффект отчуждения. Его непреклонное, замкнутое лицо, изрытое шрамами, точно изъеденное червями, отпугивало от Четыкина любых женщин, даже дурнушек. И даже проститутки, услугами которых он иногда пользовался, несмотря на свой профессионализм, с трудом скрывали неприязнь, которую вызывал у них этот странный, сдержанный и скучный человек.
Будто в насмешку судьба подсунула Роману Ильичу в соседи юную профессиональную баскетболистку с карамельным именем Лариса. Несмотря на юный возраст, Лариса была совершенно самостоятельной и беспардонной особой. Она совершенно спокойно разгуливала по квартире в трусах, туго обтягивающих мощные бедра, и в спортивной желтой майке, которую сзади украшала огромная цифра «пять», а спереди – призывно торчащие девичьи соски. Четыкин всегда обмирал, видя перед собой эти два метра жаркой плоти, пухлые губы и соломенного цвета волосы, стянутые в хвост на затылке. Он испытывал к девушке сложное чувство, состоящее наполовину из ненависти, а наполовину из вожделения. Он перестал оставлять в ванной свои гигиенические принадлежности, потому что Лариса без зазрения совести могла в любую минуту воспользоваться его полотенцем, зубной пастой и даже бритвенными лезвиями, чтобы выбрить себе подмышки. Романа Ильича это коробило – ко всему прочему он был еще и необыкновенно брезглив. Никакие замечания и нравоучения на Ларису не действовали – она воспринимала Романа Ильича как пигмея и не прислушивалась к его словам. Ни ледяной тон, ни пристальный взгляд рыбьих глаз Роману Ильичу не помогали – его просто игнорировали, – и это причиняло ему дополнительные страдания.
Особенно туго ему приходилось, когда к Ларисе заваливались ее подруги – такие же огромные и бесстыжие баскетболистки в кроссовках невиданных размеров и со спортивными сумками через плечо.
После них на кухне оставалась грязь и горы окурков, испачканных розовой помадой. Но хуже всего было, когда приходили мужчины. Они менялись, но всегда это были непременно спортсмены – едва не задевавшие коротко стриженной головой потолок, с узлами мускулов на длинных руках и с беспощадными гладиаторскими глазами. Иногда кто-то из них оставался на ночь, и тогда из Ларискиной комнаты неслись такие страстные и неистовые звуки, что, слушая их, Роман Ильич едва не терял рассудок. Спасало его только то, что Лариса большую часть времени пропадала на сборах, соревнованиях, в заграничных вояжах, и тогда он становился единственным хозяином квартиры и немного восстанавливал душевное равновесие.
Но в целом положение свое Четыкин считал нестерпимым, и голова его постоянно была занята одним – он хотел срочно разбогатеть. Однако способов разбогатеть Роман Ильич не знал. Он умел только одно – лечить людей. За это ему платили умеренную зарплату, и никто не предлагал ни копейки больше. К способностям и желаниям Романа Ильича все были до странности равнодушны.
На работу он часто приходил разбитым и больным. Это всегда случалось, когда со сборов возвращалась его соседка Лариса. Возвращалась не одна, а с целым табором шальных баскетболисток. Они веселились всю ночь напролет. Четыкин не мог сомкнуть глаз. Прекратить бардак у него не хватало духу. От обилия мощных потных женских тел в маленькой квартире ему делалось по-настоящему жутко. Это был какой-то мистический, первобытный страх, справиться с которым Роман Ильич был не в силах.
На дежурстве он то и дело засыпал. Его тревожили, только если поступал вызов. По другим поводам коллеги предпочитали с ним не общаться, что, впрочем, вполне Романа Ильича устраивало. Ничего путного он от коллег не ждал. Как, впрочем, и от жизни.
* * *
Алексей Виноградов проснулся в семь утра. Он ежедневно просыпался в это время, так как за многие годы у него уже выработалась устойчивая привычка. Проснувшись, Виноградов некоторое время еще полежал в постели, потом встал и первым делом выпил стакан апельсинового сока.
Сделав зарядку, Виноградов надел шорты и футболку и вышел на улицу, направляясь в сторону парка, находящегося прямо напротив его дома. Пройдя через ворота, Алексей дошел до своей любимой аллеи и уже по ней побежал, разгоняясь, легкой трусцой...
Этот ритуал он совершал каждый день на протяжении многих лет. Исключения составляли лишь те утра, когда врач престижной частной клиники Алексей Викторович Виноградов возвращался утром с ночного дежурства. Но тогда он наверстывал упущенное вечером, после того как отсыпался.
Виноградову было тридцать два года. Это был высокий, стройный шатен с ясными голубыми глазами. Внешность его была яркой, неординарной и весьма привлекательной в глазах женщин. Он пользовался у них колоссальным успехом, но тем не менее никогда не был женат.
Он и сам не знал почему. Нет, не потому, что был убежденным холостяком. Просто так складывалось, что ни одну из своих многочисленных приятельниц он не представлял в роли жены.
На Виноградова трудно было угодить. Само собой, его будущая жена должна была обладать абсолютными внешними данными. Более того, Алексей предпочитал женщин из «высшего света». К тому же Виноградову нужна была женщина, с которой ему всегда было бы интересно. А часто выходило так, что новая ослепительная подружка оказывалась при более близком знакомстве не менее скучной, чем муляж. Так что долгих и прочных связей с женщинами Алексей не имел, хотя посвящал им немалую часть своей жизни.
Он появлялся с ними на светских мероприятиях, которые часто и охотно посещал. Благодаря работе в престижной больнице, общительности натуры Алексей имел много друзей и приятелей в разных кругах, но в основном из светской тусовки. Именно такая жизнь его всегда привлекала и манила. Рестораны, приемы, презентации, банкеты, литературные, кинематографические и прочие вечера – вот среда, в которой Алексей всегда хотел бы вращаться.
Конечно, подобный образ жизни требовал денег, и немалых. И в последнее время перед Алексеем эта проблема встала особенно остро. Тех денег, что он получал в клинике, ему явно не хватало. Приходилось залезать в долги, которые потом, естественно, непременно нужно было отдавать.
Алексей вырос в интеллигентной семье. Мать его была профессором-музыковедом, преподавателем музыки, отец – филологом-лингвистом, поэтому с детства было предопределено, что Леша выберет творческую профессию. И когда он объявил, что поступает в медицинский институт, члены его семьи хоть и поморщились, но не возражали и даже были и довольны: врач – вполне престижная профессия.
Учеба давалась Алексею легко. Будучи от природы очень одаренным человеком, обладая блестящей памятью, Алексей сдавал сессии, словно шутя. Однако, как это часто бывает при подобных данных, ему не хватало усидчивости. Он привык схватывать все на лету, а просиживать вечера и ночи за учебниками, грызя гранит науки, было скучно, неинтересно.
Окончив институт, он поработал врачом на «Скорой помощи», понял, что больших денег там не заработаешь, но зато приобрел практические навыки, после чего устроился в частную клинику – помогли мамины связи. Конечно, зарплата здесь была выше, чем на «Скорой», но все равно деньги таяли с катастрофической быстротой, не успевая за потребностями Алексея.
Не желая менять образ жизни, Алексей отчаянно искал дополнительный заработок. Но так как он был человеком честолюбивым, с амбициями, то и здесь его не могла устроить любая «шарашка». Пойти, например, подрабатывать грузчиком по вечерам он, конечно, не мог.
Пытался лечить знакомых своих знакомых, давал советы и разрабатывал собственные методики, но заработки эти не были стабильными, а также и высокими, поэтому не могли решить его проблем. А проблемы нависали тяжелым комом, готовым в любой момент обрушиться на буйную голову Виноградова.