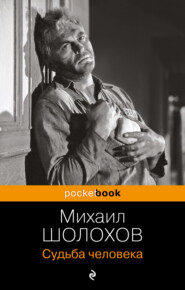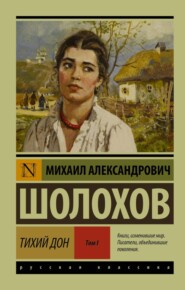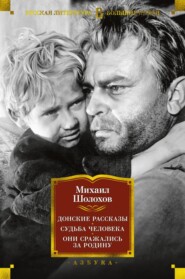По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тихий Дон. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По дороге на Сингин ехали шесть конников. Лошади бежали рысцой. Рядом с Кошевым трясся в драгунском седле Штокман. Высокий гнедой донец под ним все время взыгрывал, ловчился укусить всадника за колено. Штокман с невозмутимым видом рассказывал какую-то смешную историю, а Мишка, припадая к луке, смеялся детским, заливчатым смехом, захлебываясь и икая, и все норовил заглянуть под башлык Штокману, в его суровые стерегущие глаза.
Тщательный обыск на Сингином не дал никаких результатов.
XXVI
Григория заставили из Боковской ехать в Чернышевскую. Вернулся он через полторы недели. А за два дня до его приезда арестовали отца. Пантелей Прокофьевич только что начал ходить после тифа. Встал еще больше поседевший, мослаковатый, как конский скелет. Серебристый каракуль волос лез, будто избитый молью, борода свалялась и была по краям сплошь намылена сединой.
Милиционер увел его, дав на сборы десять минут. Посадили Прокофьевича – перед отправкой в Вешенскую – в моховский подвал. Кроме него, в подвале, густо пропахшем анисовыми яблоками, сидели еще девять стариков и один почетный судья.
Петро сообщил эту новость Григорию и – не успел еще тот в ворота въехать – посоветовал:
– Ты, браток, поворачивай оглобли… Про тебя пытали, когда приедешь. Поди посогрейся, детишков повидай, а посля давай я тебя отвезу на Рыбный хутор, там прихоронишься и перегодишь время. Будут спрашивать, скажу – уехал на Сингин, к тетке. У нас ить семерых прислонили к стенке, слыхал? Как бы отцу такая линия не вышла… А про тебя и гутарить нечего!
Посидел Григорий в кухне с полчаса, а потом, оседлав своего коня, в ночь ускакал на Рыбный. Дальний родственник Мелеховых, радушный казак, спрятал Григория в прикладке кизяков. Там он и прожил двое суток, выползая из своего логова только по ночам.
XXVII
На второй день после приезда с Сингина Кошевой отправился в Вешенскую узнать, когда будет собрание комячейки. Он, Иван Алексеевич, Емельян, Давыдка и Филька решили оформить свою партийную принадлежность.
Мишка вез с собой последнюю партию сданного казаками оружия, найденный в школьном дворе пулемет и письмо Штокмана председателю окружного ревкома. На пути в Вешенскую в займище поднимали зайцев. За годы войны столько развелось их и так много набрело кочевых, что попадались они на каждом шагу. Как желтый султан куги – так и заячье кобло. От скрипа саней вскочит серый с белым подпузником заяц и, мигая отороченным черной опушкой хвостом, пойдет щелкать целиной. Емельян, правивший конями, бросал вожжи, люто орал:
– Бей! А ну, резани его!
Мишка прыгал с саней, с колена выпускал вслед серому катучему комку обойму, разочарованно смотрел, как пули схватывали вокруг него белое крошево снега, а комок наддавал ходу, с разлету обивал с бурьяна снежный покров и скрывался в чаще.
…В ревкоме шла бестолковая сутолочь. Люди потревоженно бегали, подъезжали верховые нарочные, улицы поражали малолюдьем. Мишка, не понимавший причины беспокойной суетни, был удивлен. Письмо Штокмана заместитель председателя рассеянно сунул в карман, на вопрос, будет ли ответ, сурово буркнул:
– Отвяжись, ну тебя к черту! Не до вас!
По площади сновали красноармейцы караульной роты. Проехала, пыхая дымком, полевая кухня. На площади запахло говядиной и лавровым листом.
Кошевой зашел в Ревтрибунал к знакомым ребятам покурить, спросил:
– Чего у вас томаха идет?
Ему неохотно ответил один из следователей по местным делам, Громов:
– В Казанской чтой-то неспокойно. Не то белые прорвались, не то казаки восстали. Вчера бой там шел, по слухам. Телефонная связь-то порватая.
– Верхового кинули б туда.
– Послали. Не вернулся. А нынче в Еланскую пошла рота. И там что-то нехорошо.
Они сидели у окна, курили. За стеклами осанистого купеческого дома, занятого трибуналом, порошил снежок.
Выстрелы глухо захлопали где-то за станицей, около сосен, в направлении на Черную. Мишка побелел, выронил папиросу. Все бывшие в доме кинулись во двор. Выстрелы гремели уже полнозвучно и веско. Возраставшую пачечную стрельбу задавил залп, завизжали пули, заклацали, вгрызаясь в обшивку сараев, в ворота. Во дворе ранило красноармейца. На площадь, комкая и засовывая в карманы бумаги, выбежал Громов. Около ревкома строились остатки караульной роты. Командир в куцей дубленке челноком шнырял меж красноармейцев. Колонной, на рысях, повел он роту на спуск к Дону. Началась гибельная паника. По площади забегали люди. Задрав голову, намётом прошла оседланная, без всадника лошадь.
Ошарашенный Кошевой сам не помнил, как очутился на площади. Он видел, как Фомин, в бурке, черным вихрем вырвался из-за церкви. К хвосту его рослого коня был привязан пулемет. Колесики не успевали крутиться, пулемет волочился боком, его трепал из стороны в сторону шедший карьером конь. Фомин, припавший к луке, скрылся под горой, оставив за собой серебряный дымок снежной пыли.
«К лошадям!» – было первой мыслью Мишки. Он, пригибаясь, перебегал перекрестки, ни разу не передохнул. Сердце зашлось, пока добежал до квартиры. Емельян запряг лошадей, с испугу не мог нацепить постромки.
– Чтой-то, Михаил? Что такое? – лепетал он, выбивая дробь зубами. Запряг – потерял вожжи. Начал вожжать – на хомуте, у левой, развязалась супонь.
Двор, где они стали на квартиру, выходил в степь. Мишка посматривал на сосны, но оттуда не показывались цепи пехоты, не шла лавой конница. Где-то стреляли, улицы были пусты, все было обыденно и скучно. И в то же время творилось страшное: переворот вступал в права.
Пока Емельян возился с лошадьми, Мишка глаз не сводил со степи. Он видел, как из-за часовенки, мимо места, где сгорела в декабре радиостанция, побежал человек в черном пальто. Он мчался изо всех сил, низко клонясь вперед, прижав к груди руки. По пальто Кошевой узнал следователя Громова. И еще успел увидеть он, как из-за плетня мелькнула фигура конного. И его узнал Мишка. Это был вешенский казак Черничкин, молодой отъявленный белогвардеец. Отделенный от Черничкина расстоянием в сто саженей, Громов на бегу оглянулся раз и два, достал из кармана револьвер. Хлопнул выстрел, другой. Громов выскочил на вершину песчаного буруна, бил из нагана. С лошади Черничкин прыгнул на ходу; придерживая повод, снял винтовку, прилег под сугроб. После первого выстрела Громов пошел боком, хватая левой рукой ветви хвороста. Околесив бурун, он лег лицом в снег. «Убил!» – Мишка похолодел. Был Черничкин лучшим стрелком и из принесенного с германской войны австрийского карабина без промаха низал любую на любом расстоянии цель. Уже в санях, выскочив за ворота, Мишка видел, как Черничкин, подскакав к буруну, рубил шашкой черное пальто, косо распростертое на снегу.
Скакать через Дон на Базки было опасно. На белом просторе Дона лошади и седоки стали бы прекрасной мишенью.
Там уже легли двое красноармейцев караульной роты, срезанные пулями. И поэтому Емельян повернул через озеро в лес. На льду стоял наслуз[8 - Наслуз – снеговой покров на льду, пропитанный водой.], из-под конских копыт, шипя, летели брызги и комья, подреза полозьев чертили глубокие борозды. До хутора скакали бешено. Но на переезде Емельян натянул вожжи, повернул опаленное ветром лицо к Кошевому:
– Что делать? А если и у нас такая заваруха?
Мишка затосковал глазами. Оглядел хутор. По крайней к Дону улице проскакали двое верховых. Показалось, видно, Кошевому, что это милиционеры.
– Гони в хутор. Больше нам некуда деваться! – решительно сказал он.
Емельян с великой неохотой тронул лошадей. Дон переехали. Поднялись на выезд. Навстречу им бежали Антип Брехович и еще двое стариков с верхнего края.
– Ох, Мишка! – Емельян, увидев в руках Антипа винтовку, задернул лошадей, круто повернул назад.
– Стой!
Выстрел. Емельян, не роняя из рук вожжей, упал. Лошади скоком воткнулись в плетень. Кошевой спрыгнул с саней. Подбегая к нему, скользя ногами, обутыми в чирики, Антип качнулся, стал, кинул к плечу винтовку. Падая на плетень, Мишка заметил в руках у одного старика белые зубья вил-тройчаток.
– Бей его!
От ожога в плече Кошевой без крика упал вниз, ладонями закрыл глаза. Человек нагнулся над ним с тяжким дыхом, пырнул его вилами.
– Вставай, сука!
Дальше Кошевой помнил все как во сне. На него, рыдая, кидался, хватал за грудки Антип:
– Отца моего смерти предал… Пустите, добрые люди! Дайте я над ним сердце отведу!
Его оттягивали. Собралась толпа. Чей-то урезонивающий голос простудно басил:
– Пустите парня! Что вы, креста не имеете, что ли? Брось, Антип! В отца жизню не вдунешь, а человека загубишь… Разойдитесь, братцы! Там вон, на складе, сахар делют. Ступайте…
Очнулся Мишка вечером под тем же плетнем. Жарко пощипывал тронутый вилами бок. Зубья, пробив полушубок и теплушку, неглубоко вошли в тело. Но разрывы болели, на них комками запеклась кровь. Мишка встал на ноги, прислушался. По хутору, видно, ходили повстанческие патрули. Редкие гукали выстрелы. Брехали собаки. Издали слышался приближающийся говор. Пошел Мишка скотиньей стежкой вдоль Дона. Выбрался на яр и полз под плетнями, шаря руками по черствой корке снега, обрываясь и падая. Он не узнавал места, полз наобум. Холод бил дрожью тело, замораживал руки. Холод и загнал Кошевого в чьи-то воротца. Мишка открыл калитку, прикляченную хворостом, вошел на задний баз. Налево виднелась половня. В нее забрался было он, но сейчас же заслышал шаги и кашель.
Кто-то шел в половню, поскрипывая валенками. «Добьют зараз», – безразлично, как о постороннем, подумал Кошевой. Человек стал в темном просторе дверей.
– Кто тут такой?
Голос был слаб и словно испуган.
Мишка шагнул за стенку.
Тщательный обыск на Сингином не дал никаких результатов.
XXVI
Григория заставили из Боковской ехать в Чернышевскую. Вернулся он через полторы недели. А за два дня до его приезда арестовали отца. Пантелей Прокофьевич только что начал ходить после тифа. Встал еще больше поседевший, мослаковатый, как конский скелет. Серебристый каракуль волос лез, будто избитый молью, борода свалялась и была по краям сплошь намылена сединой.
Милиционер увел его, дав на сборы десять минут. Посадили Прокофьевича – перед отправкой в Вешенскую – в моховский подвал. Кроме него, в подвале, густо пропахшем анисовыми яблоками, сидели еще девять стариков и один почетный судья.
Петро сообщил эту новость Григорию и – не успел еще тот в ворота въехать – посоветовал:
– Ты, браток, поворачивай оглобли… Про тебя пытали, когда приедешь. Поди посогрейся, детишков повидай, а посля давай я тебя отвезу на Рыбный хутор, там прихоронишься и перегодишь время. Будут спрашивать, скажу – уехал на Сингин, к тетке. У нас ить семерых прислонили к стенке, слыхал? Как бы отцу такая линия не вышла… А про тебя и гутарить нечего!
Посидел Григорий в кухне с полчаса, а потом, оседлав своего коня, в ночь ускакал на Рыбный. Дальний родственник Мелеховых, радушный казак, спрятал Григория в прикладке кизяков. Там он и прожил двое суток, выползая из своего логова только по ночам.
XXVII
На второй день после приезда с Сингина Кошевой отправился в Вешенскую узнать, когда будет собрание комячейки. Он, Иван Алексеевич, Емельян, Давыдка и Филька решили оформить свою партийную принадлежность.
Мишка вез с собой последнюю партию сданного казаками оружия, найденный в школьном дворе пулемет и письмо Штокмана председателю окружного ревкома. На пути в Вешенскую в займище поднимали зайцев. За годы войны столько развелось их и так много набрело кочевых, что попадались они на каждом шагу. Как желтый султан куги – так и заячье кобло. От скрипа саней вскочит серый с белым подпузником заяц и, мигая отороченным черной опушкой хвостом, пойдет щелкать целиной. Емельян, правивший конями, бросал вожжи, люто орал:
– Бей! А ну, резани его!
Мишка прыгал с саней, с колена выпускал вслед серому катучему комку обойму, разочарованно смотрел, как пули схватывали вокруг него белое крошево снега, а комок наддавал ходу, с разлету обивал с бурьяна снежный покров и скрывался в чаще.
…В ревкоме шла бестолковая сутолочь. Люди потревоженно бегали, подъезжали верховые нарочные, улицы поражали малолюдьем. Мишка, не понимавший причины беспокойной суетни, был удивлен. Письмо Штокмана заместитель председателя рассеянно сунул в карман, на вопрос, будет ли ответ, сурово буркнул:
– Отвяжись, ну тебя к черту! Не до вас!
По площади сновали красноармейцы караульной роты. Проехала, пыхая дымком, полевая кухня. На площади запахло говядиной и лавровым листом.
Кошевой зашел в Ревтрибунал к знакомым ребятам покурить, спросил:
– Чего у вас томаха идет?
Ему неохотно ответил один из следователей по местным делам, Громов:
– В Казанской чтой-то неспокойно. Не то белые прорвались, не то казаки восстали. Вчера бой там шел, по слухам. Телефонная связь-то порватая.
– Верхового кинули б туда.
– Послали. Не вернулся. А нынче в Еланскую пошла рота. И там что-то нехорошо.
Они сидели у окна, курили. За стеклами осанистого купеческого дома, занятого трибуналом, порошил снежок.
Выстрелы глухо захлопали где-то за станицей, около сосен, в направлении на Черную. Мишка побелел, выронил папиросу. Все бывшие в доме кинулись во двор. Выстрелы гремели уже полнозвучно и веско. Возраставшую пачечную стрельбу задавил залп, завизжали пули, заклацали, вгрызаясь в обшивку сараев, в ворота. Во дворе ранило красноармейца. На площадь, комкая и засовывая в карманы бумаги, выбежал Громов. Около ревкома строились остатки караульной роты. Командир в куцей дубленке челноком шнырял меж красноармейцев. Колонной, на рысях, повел он роту на спуск к Дону. Началась гибельная паника. По площади забегали люди. Задрав голову, намётом прошла оседланная, без всадника лошадь.
Ошарашенный Кошевой сам не помнил, как очутился на площади. Он видел, как Фомин, в бурке, черным вихрем вырвался из-за церкви. К хвосту его рослого коня был привязан пулемет. Колесики не успевали крутиться, пулемет волочился боком, его трепал из стороны в сторону шедший карьером конь. Фомин, припавший к луке, скрылся под горой, оставив за собой серебряный дымок снежной пыли.
«К лошадям!» – было первой мыслью Мишки. Он, пригибаясь, перебегал перекрестки, ни разу не передохнул. Сердце зашлось, пока добежал до квартиры. Емельян запряг лошадей, с испугу не мог нацепить постромки.
– Чтой-то, Михаил? Что такое? – лепетал он, выбивая дробь зубами. Запряг – потерял вожжи. Начал вожжать – на хомуте, у левой, развязалась супонь.
Двор, где они стали на квартиру, выходил в степь. Мишка посматривал на сосны, но оттуда не показывались цепи пехоты, не шла лавой конница. Где-то стреляли, улицы были пусты, все было обыденно и скучно. И в то же время творилось страшное: переворот вступал в права.
Пока Емельян возился с лошадьми, Мишка глаз не сводил со степи. Он видел, как из-за часовенки, мимо места, где сгорела в декабре радиостанция, побежал человек в черном пальто. Он мчался изо всех сил, низко клонясь вперед, прижав к груди руки. По пальто Кошевой узнал следователя Громова. И еще успел увидеть он, как из-за плетня мелькнула фигура конного. И его узнал Мишка. Это был вешенский казак Черничкин, молодой отъявленный белогвардеец. Отделенный от Черничкина расстоянием в сто саженей, Громов на бегу оглянулся раз и два, достал из кармана револьвер. Хлопнул выстрел, другой. Громов выскочил на вершину песчаного буруна, бил из нагана. С лошади Черничкин прыгнул на ходу; придерживая повод, снял винтовку, прилег под сугроб. После первого выстрела Громов пошел боком, хватая левой рукой ветви хвороста. Околесив бурун, он лег лицом в снег. «Убил!» – Мишка похолодел. Был Черничкин лучшим стрелком и из принесенного с германской войны австрийского карабина без промаха низал любую на любом расстоянии цель. Уже в санях, выскочив за ворота, Мишка видел, как Черничкин, подскакав к буруну, рубил шашкой черное пальто, косо распростертое на снегу.
Скакать через Дон на Базки было опасно. На белом просторе Дона лошади и седоки стали бы прекрасной мишенью.
Там уже легли двое красноармейцев караульной роты, срезанные пулями. И поэтому Емельян повернул через озеро в лес. На льду стоял наслуз[8 - Наслуз – снеговой покров на льду, пропитанный водой.], из-под конских копыт, шипя, летели брызги и комья, подреза полозьев чертили глубокие борозды. До хутора скакали бешено. Но на переезде Емельян натянул вожжи, повернул опаленное ветром лицо к Кошевому:
– Что делать? А если и у нас такая заваруха?
Мишка затосковал глазами. Оглядел хутор. По крайней к Дону улице проскакали двое верховых. Показалось, видно, Кошевому, что это милиционеры.
– Гони в хутор. Больше нам некуда деваться! – решительно сказал он.
Емельян с великой неохотой тронул лошадей. Дон переехали. Поднялись на выезд. Навстречу им бежали Антип Брехович и еще двое стариков с верхнего края.
– Ох, Мишка! – Емельян, увидев в руках Антипа винтовку, задернул лошадей, круто повернул назад.
– Стой!
Выстрел. Емельян, не роняя из рук вожжей, упал. Лошади скоком воткнулись в плетень. Кошевой спрыгнул с саней. Подбегая к нему, скользя ногами, обутыми в чирики, Антип качнулся, стал, кинул к плечу винтовку. Падая на плетень, Мишка заметил в руках у одного старика белые зубья вил-тройчаток.
– Бей его!
От ожога в плече Кошевой без крика упал вниз, ладонями закрыл глаза. Человек нагнулся над ним с тяжким дыхом, пырнул его вилами.
– Вставай, сука!
Дальше Кошевой помнил все как во сне. На него, рыдая, кидался, хватал за грудки Антип:
– Отца моего смерти предал… Пустите, добрые люди! Дайте я над ним сердце отведу!
Его оттягивали. Собралась толпа. Чей-то урезонивающий голос простудно басил:
– Пустите парня! Что вы, креста не имеете, что ли? Брось, Антип! В отца жизню не вдунешь, а человека загубишь… Разойдитесь, братцы! Там вон, на складе, сахар делют. Ступайте…
Очнулся Мишка вечером под тем же плетнем. Жарко пощипывал тронутый вилами бок. Зубья, пробив полушубок и теплушку, неглубоко вошли в тело. Но разрывы болели, на них комками запеклась кровь. Мишка встал на ноги, прислушался. По хутору, видно, ходили повстанческие патрули. Редкие гукали выстрелы. Брехали собаки. Издали слышался приближающийся говор. Пошел Мишка скотиньей стежкой вдоль Дона. Выбрался на яр и полз под плетнями, шаря руками по черствой корке снега, обрываясь и падая. Он не узнавал места, полз наобум. Холод бил дрожью тело, замораживал руки. Холод и загнал Кошевого в чьи-то воротца. Мишка открыл калитку, прикляченную хворостом, вошел на задний баз. Налево виднелась половня. В нее забрался было он, но сейчас же заслышал шаги и кашель.
Кто-то шел в половню, поскрипывая валенками. «Добьют зараз», – безразлично, как о постороннем, подумал Кошевой. Человек стал в темном просторе дверей.
– Кто тут такой?
Голос был слаб и словно испуган.
Мишка шагнул за стенку.