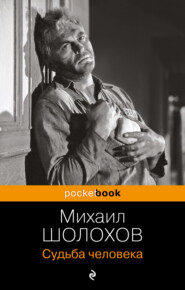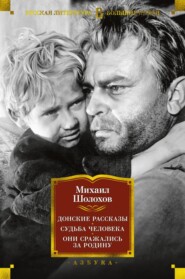По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тихий Дон. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За Натальиным имуществом поехали Митька с Гетьком. Украинец в рассеянности сшиб санями не успевшего убраться с дороги поросенка, думая про свое: «Мабуть, за цим дилом забудэ хозяин об кобыли?» И радовался, ослаблял вожжи.
«Такий вредный чертяка, як раз забудэ!..» – настигала мысль, и Гетько, хмурясь, кривил губы:
– Прыгай, чортобис!.. Ось я тоби! – и сосредоточенно норовил щелкнуть кнутом вороного под то самое место, где ёкала селезенка.
XIV
Сотник Евгений Листницкий служил в лейб-гвардии Атаманском полку. На офицерских скачках разбился, переломил в предплечье левую руку. После лазарета взял отпуск и уехал в Ягодное к отцу на полтора месяца.
Старый, давно овдовевший генерал жил в Ягодном одиноко. Жену он потерял в предместье Варшавы в восьмидесятых годах прошлого столетия. Стреляли в казачьего генерала, попали в генеральскую жену и кучера, изрешетили во многих местах коляску, но генерал уцелел. От жены остался двухлетний тогда Евгений. Вскоре после этого генерал подал в отставку, перебрался в Ягодное (земля его – четыре тысячи десятин, – нарезанная еще прадеду за участие в Отечественной войне 1812 года, находилась в Саратовской губернии) и зажил чернотелой, суровой жизнью.
Подросшего Евгения отдал в кадетский корпус, сам занялся хозяйством: развел племенной скот, с императорского завода купил на племя рысистых производителей и, скрещивая их с лучшими матками из Англии и с донского Провальского завода, добился своей породы. Держал на своей казачьей паевой и купленной земле табуны, сеял – чужими руками – хлеб, зимой и осенью охотился с борзыми, изредка, запираясь в белом зале, пил неделями. Точила его злая желудочная болезнь, и по строжайшему запрету врачей не мог он глотать пережеванную пищу; жевал, вытягивал соки, а жевки выплевывал на серебряную тарелочку, которую сбоку, на вытянутых руках, постоянно держал молодой, из мужиков, лакей Вениамин.
Был Вениамин придурковат, смугл, на круглой голове – не волосы, а черный плюш. Служил у пана Листницкого шесть лет. Вначале, когда припало стоять над генералом с серебряной тарелочкой, не мог без тошноты глядеть, как старик выплевывает серые, измочаленные зубами жевки, потом привык.
В имении из дворни, кроме Вениамина, жили: кухарка Лукерья, одряхлевший конюх Сашка, пастух Тихон, поступивший на должность кучера Григорий и Аксинья. Рыхлая, рябая, толстозадая Лукерья, похожая на желтый ком невсхожего теста, с первого же дня отшила Аксинью от печи.
– Стряпать будешь, когда рабочих на лето наймет пан, а сейчас я сама управлюсь.
На обязанности Аксиньи лежало три раза в неделю мыть в доме полы, кормить гурты птицы и содержать птичий двор в чистоте. Она ретиво взялась за службу, всем стараясь угодить, не исключая и Лукерьи. Григорий большую часть времени проводил в просторной рубленой конюшне вместе с конюхом Сашкой. До сплошных седин дожил старик, но Сашкой так и остался. Никто не баловал его отчеством, а фамилии, наверное, не знал и сам старый Листницкий, у которого жил Сашка больше двадцати лет. В молодости Сашка кучеровал, но под исход жизни, теряя силу и зрение, перешел в конюхи. Низенький, весь в зеленой седине (на руках и то рос седой волос), с носом, расплюснутым еще в детстве ударом чекмаря, вечно улыбался он голубой детской улыбкой, мигая на окружающее простодушными, в красных складках, глазами. Портили его апостольское лицо нос курносый, с веселинкой, да изуродованная стекающим книзу шрамом нижняя губа. Под пьянку в солдатчину (родом Сашка был из богучарских москалей) вместо простой водки хватил он из косухи «царской водки»: огненная струйка и пришила ему нижнюю губу к подбородку. Там, где пролилась эта струйка, остался не зарастающий волосом розовый и веселый косой шрам, будто неведомый зверек лизнул Сашку в бороду, положив след тонюсенького напильчатого языка. Сашка часто баловался водкой, в такие минуты бродил по двору имения – сам хозяин, – шпаклюя ногами, становился против окон панской спальни и хитро крутил пальцем перед веселым своим носом.
– Миколай Лексеич! А Миколай Лексеич? – звал он громко и строго.
Старый пан, если был в эту минуту в спальне, подходил к окну.
– Нажрался, пустяковая твоя душа? – гремел он из окна.
Сашка поддергивал спадавшие портки, подмигивал, шельмовато улыбался. Улыбка вытанцовывалась у него наискось через все лицо: от прижмуренного левого глаза до розового шрама, стекавшего из правого угла рта. Поперечная была улыбка, но приятная.
– Миколай Лексеич, ваше преподобие, я тебя зна-а-аю!.. – И Сашка, приплясывая, грозил торчмя поднятым, тонким и грязным пальцем.
– Поди проспись, – примиряюще улыбался из окна пан, всей обкуренной пятерней закручивая нависшие усы.
– Черт Сашку не ом-манет! – смеялся Сашка, подходя к палисаднику. – Миколай Лексеич, ты… как и я. Мы с тобой как рыба с водой. Рыба на дно, а мы… на гумно. Мы с тобой богатые, во!.. – Сашка, корячась, широко расплескивал руки. – Нас все знают, по всей Донской области. Мы… – голос Сашки становился печален и вкрадчив, – мы с тобой, ваше превосходительство, всем хороши, только вот носы у нас говенные!
– Чем же? – любопытствовал пан, сизея от смеха и шевеля усами и подусниками.
– Через водку, – отчеканивал Сашка, часто моргая и слизывая языком слюну, сползавшую по канальцу розового шрама. – Ты, Миколай Лексеич, не пей. А то вовзят пропадем мы с тобой! Проживем все дотла!..
– Поди вот, похмелись.
Пан кидал в окно двугривенный. Сашка ловил на лету, прятал за подкладку картуза.
– Ну, прощай, генерал, – вздыхал он, уходя.
– А лошадей-то поил? – заранее улыбаясь, спрашивал пан.
– Черт паршивый! Ать сукин сын! – багровея, орал Сашка ломким голосом. Гнев трепал его лихорадкой. – Сашка чтоб лошадей забыл напоить? А? Умру – и то приползу по цебарке кринишной дать, а он, ать, придумал!.. Тоже!..
Сашка уходил, облитый незаслуженной обидой, матерясь и грозя кулаками. Сходило ему все: и пьянка, и панибратское обращение с паном; оттого сходило, что был Сашка незаменимый конюх. Зиму и лето спал он в конюшне, в порожнем станке; никто лучше его не умел обращаться с лошадьми, был он и конюх и коновал: веснами в майском цветении рвал травы, выкапывал в степи, в суходолах и мокрых балках целебные корни. Высоко на стенках конюшни висели сушеные пучки разнолистной травы: яровик – от запала, змеиное око – от укуса гадюки, чернолист – от порчи ног, неприметная белая травка, растущая в левадах у корней верб, – от надрыва, и много других неведомых трав от разных лошадиных недугов и хвори.
В конюшне, в станке, где спал Сашка, зиму и лето паутинной занавесью висел тонкий, липнущий к горлу аромат. На дощатой кровати лежало прикрытое попоной, сбитое камнем сено и весь провонявший конским потом Сашкин зипун. Пожитков, кроме зипуна и дубленого полушубка, у Сашки не было.
Тихон, губатый, здоровенный и дурковатый казак, жил с Лукерьей, втихомолку беспричинно ревновал ее к Сашке. В месяц раз брал он Сашку за пуговицу просаленной рубахи и уводил на зады.
– Дед, ты на мою бабу не заглядывайся!
– Это как сказать… – Сашка многозначительно мигал.
– Отступись, дед! – просил Тихон.
– Я, дружок, рябых люблю. Мне шкалик не подноси, а рябую вынь да положь. Что ни дюжей ряба – дюжей нашего брата, шельма, любит.
– В твои годы, дед, совестно и грех… Эх ты, а ишо лекарь, лошадей пользуешь, святое слово знаешь…
– Я на все руки лекарь, – упорствовал Сашка.
– Отступись, дед! Нельзя так-то.
– Я, брат, эту Лукерью пристигну. Прощайся с ней, шельмой, отобью! Она – как пирог с изюмом. Только изюм-то повыковырянный, оттого будто ряба малость. Люблю таких!
– На вот… а под ноги не попадайся, а то убью, – говорил Тихон, вздыхая и вытягивая из кисета медяки.
Так каждый месяц.
В сонной одури плесневела в Ягодном жизнь. Глухое, вдали от проезжих шляхов, лежало по суходолу имение, с осени глохла связь со станицей и хуторами. Зимой на бугор, упиравшийся в леваду выпуклым песчаным мысом, ночами выходили волчьи выводки, зимовавшие в Черном лесу, выли, пугая лошадей. Тихон шел в леваду стрелять из панской двустволки, а Лукерья, кутая дерюжкой толстый – что печной заслон – зад, замирала, ожидая выстрела, всматриваясь в темноту заплывшими в жирных рябых щеках глазками. В это время представлялся ей дурной, плешивый Тихон красивым и отчаянно храбрым молодцом, и, когда хлопала дверь в людской, впуская дымящийся пар и Тихона, она теснилась на кровати и, воркуя, сладко обнимала назябшего сожителя.
Летом Ягодное допоздна гудело голосами рабочих. Сеял пан десятин сорок разного хлеба, рабочих нанимал убирать. Изредка летом наезжал в имение Евгений, ходил по саду и леваде, скучал. Утрами просиживал возле пруда с удочками. Был он невысок, полногруд. Носил чуб по-казачьи, зачесывая на правую сторону. Ловко обтягивал его офицерский сюртук.
Григорий в первые дни, как только поселился в имении с Аксиньей, часто бывал у молодого хозяина. В людскую приходил Вениамин; склоняя плюшевую голову, улыбался:
– Иди, Григорий, к молодому пану, велел позвать.
Григорий входил, становился у притолоки. Евгений Николаевич, щеря редкие широкие зубы, указывал рукой на стул:
– Садись.
Григорий садился на краешек.
– Как тебе нравятся наши лошади?
– Добрые кони. Серый дюже хорош.
– Ты его почаще проезжай. Смотри, намётом не гони.
– Мне дед Сашка толковал.
– А Крепыш как?