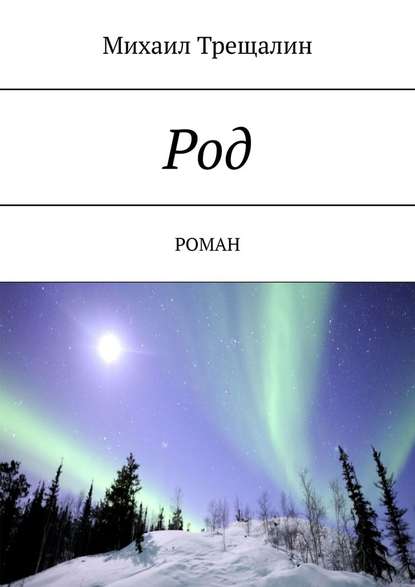По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Род. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Милая, румянощекая Лиза также продолжала рожать детей, кормить их грудью и тащить на своих плечах хозяйство. Ужасная теснота избушки еще больше усугубляла трудное положение семьи. Это понимал Алексей Федорович, нужен был новый дом.
И вот, наконец, дом построен. Он был очень большим и разделялся капитальными бревенчатыми перегородками на три части, в каждой из которых была своя печь: две изразцовые «голландки» и огромная русская, с подпечком и лежанкой. Между новым домом и старой избой, отгородив двор от чужих глаз, поднялись огромные трехметровые ворота с узкой калиткой, к которой была прилажена щеколда с большим кованым кольцом. Ворота всегда были крепко-накрепко заперты на толстенный засов. За избой вырос новый скотный двор и навес, перекрывавший все пространство между постройками. Сам двор вымостили половинками дубовых бревен. В общем, не дом, а настоящая крепость. За двором простирался большой сад, уходящий до самого оврага. Сад зарос владимирскими вишнями, яблонями и грушами.
К моменту, когда был построен новый дом, Лиза уже родила двенадцать детей. Правда, они много болели и часто умирали. Выживали только самые крепкие.
После освящения вслед за кошкой в жилище вошли Алексей Федорович, Лиза и пятеро детей: старший сын Николай и четверо девочек. Одна из них – Дуня, была больна туберкулезом, а младшая Маня родилась с сильной дисплазией, что в то время без участия врачей гарантировало ей хромоту на всю жизнь, но отца это вовсе не беспокоило. Гораздо больше он думал о том, как оборудует большую швейную мастерскую на восемь подмастерьев, причем трое из них работали лишь за харчи. Это были его сын и старшие дочери: Прасковья и Анисья.
В общем, нужно сказать, что дело мещанина Алексея Федоровича Вирейского – будет процветать и дальше.
Образование детей, которое считал необходимым дать отец, составлялось из четырех классов церковно-приходской школы, а затем в 10—12 летнем возрасте детей отдавали в ученье, где дети осваивали профессию портного со знанием, которого требовало хорошо поставленное отцовское дело.
Марию, как и всех старших детей, в одиннадцатилетнем возрасте отправили в Москву, в ученье портнихи Мурзалевской. Там она первые полгода только раздувала утюги и получала затрещины от мастериц. Потом ей доверили пришивать пуговицы. Этим она занималась еще два года. Правда, потом она довольно быстро освоила всю премудрость швейного мастерства и к восемнадцати годам стала хорошей портнихой.
Однако врожденная хромота, чрезвычайная строгость отца, постоянное унижение со стороны хозяйки сделали свое черное дело. Мария выросла злой и алчной, хотя и очень набожной.
Ей уже пора было возвращаться в родительский дом, чтобы начать работать там, но скоропостижно умер отец, и, воспользовавшись неожиданной свободой, она осталась работать у Мурзалевской и стала получать хорошее жалование.
Ее сестры вышли к тому времени замуж или просто так уехали на поиски счастья. В доме остались лишь мать да Дуня.
Шел 1905 беспокойный год. Москва бурлила революционными событиями. На Пресне стреляли. Стреляли казаки, стреляли рабочие, засевшие на баррикадах. Да и на Большой Дорогомиловской улице также было неспокойно. Бастовали рабочие Брянской железной дороги. Они присоединились к общей стачке железнодорожников Москвы. На площади Брянского вокзала патрулировали рабочие пикеты с красными повязками на рукавах и вооруженные ружьями. Они не пускали на вокзал штрейкбрехеров. Часто дружные колонны вооруженных рабочих проходили по улицам. Здесь и там вспыхивали летучие митинги.
Обыватели – мелкие московские лавочники, купчишки, мещане, в силу своей природной трусости, по большей части отсиживались в своих заведениях. Те из них, на окнах которых были ставни, закрывали их, а у кого ставней не было, задергивали плотнее шторы, надеясь отгородиться ото всего происходящего, как-нибудь пересидеть неспокойные времена. Они, конечно, чувствуя недоброе, стали мягче, снисходительнее относиться к подмастерьям, приказчикам и прочим своим работникам, стараясь по возможности изолировать их от волнений.
Доходы у этих мелких буржуа значительно сократились. Понятно: кому в голову придет ходить по трактирам, магазинам, заказывать одежду и обувь, когда на улицах стреляют.
Как-то в воскресенье в мастерской у мадам Мурзалевской произошло следующее: по Большой Дорогомиловской улице, куда выходили окна ее мастерской, двигалась колонна рабочих с семьями. Они несли лозунги и красные флаги, пели революционные песни. Мастерицы и подмастерья бросили шить и дружной стайкой собрались у окна. Трудно сказать, какими мыслями руководствовались при этом забитые, малограмотные женщины и девушки. Вряд ли это было вызвано солидарностью с рабочей колонной. Скорее всего, их влекло простое любопытство. Маша Вирейская, чтобы лучше рассмотреть и расслышать, взгромоздилась на подоконник и высунула голову в форточку. В этот момент в мастерскую вошла хозяйка.
– Это еще что за безобразие! – нервным, злым голосом закричала она, – сейчас же за работу!
Мастерицы быстро заняли свои места, а Маша замешкалась из-за того, что голова у нее застряла в форточке. Хозяйка подскочила к окну и с криком: «Я тебе покажу, бунтовщица, я тебе покажу», – принялась щипать ее за ляжки. Маша дергалась от боли и никак не могла вытащить голову из форточки, а хозяйка щипала и щипала ее. Марии каким-то чудом удалось освободиться, она прыгнула, свалив с ног хозяйку. За это Мурзалевская вычла из ее жалования пять рублей, выбив «революционный запал» из Машиной головы на всю оставшуюся жизнь.
В дальнейшем Маша Вирейская к событиям первой русской революции была непричастна.
Время шло, революционный подъем пятого года сменился тяжелой для рабочего класса реакцией. Ежедневно арестовывали все новых и новых людей, переполняя тюрьмы. Но это не слишком касалось обывателей. Разве что жаль было Маше голубоглазого, круглолицего юношу Семена – сына железнодорожника Марка Осиповича Шаповалова, которого арестовали прямо у нее на глазах, при этом очень сильно избили. Маша знала его еще мальчишкой, гонявшим голубей во дворе дома, где она жила все эти московские годы, но вскоре забыла о нем.
Несмотря на Машину хромоту, хозяйка довольно часто посылала ее сдавать работу, так как было принято готовую вещь примерять у заказчика в квартире и, если это требовалось, делать незначительную подгонку прямо тут же. Ходить пешком Маше было трудно, и хозяйка выдавала ей двугривенный на конку. Маша все равно шла пешком, а деньги экономила не потому, что очень нуждалась, а скорее по привычке, вбитой ей с детства, беречь копейку.
Однажды Мария несла готовый заказ куда-то в конец Новобасманной улицы. Переходя Садовую улицу у Красных ворот, она замешкалась и попала под лошадь. Маша сильно ушиблась и никак не могла встать. Из садика напротив, рискуя быть сбитой конкой, выбежала девочка лет восьми-девяти – худенькая, голубоглазая, пшеничноволосая, и подбежала к Маше.
– Тетенька, вы ушиблись, давайте я вам помогу, – тоненько закричала она, помогла Маше встать, перевела ее через улицу и усадила на скамейку в садике. – Может, вам доктора позвать? – спросила она.
– Нет, нет, мне уже лучше, – испуганно проговорила Маша, – как звать-то вас прикажете, молиться-то мне за кого?
– Меня зовут Аня Полиевктова, а молиться за меня не нужно, я ведь здорова. Это вы, тетенька, ушиблись, – Аня достала из кармана маленькую гуттаперчевую куколку-голыша. – Вот, возьмите на память, пожалуйста, будьте здоровы, – и она быстро побежала через садик и скрылась в парадном красивого особняка. Маша посидела еще немного и, сильно хромая, пошла на конку. «Благодарю тебя, господи, кажется, жива осталась», – проговорила она.
2
Стояло теплое московское лето 1913 года. Во дворах плавным нескончаемым танцем кружил тополиный пух. На Большой Садовой улице грохотали трамваи, по булыжной мостовой цокали копытами лошади, запряженные то в телегу, то в коляску. По тротуарам беспрерывной массой двигались, спешили куда-то, суетились люди.
Сад-Эрмитаж оглушал прохожих медной музыкой духового оркестра. Воскресный день клонился к вечеру. Маша по случаю именин – а ей исполнилось 22 года, достала из лубочной шкатулки трешницу и решила пышно кутнуть. Она вместе с мастерицей Клашей, тоже работавшей у мадам Мурзалевской, отправились вначале в крошечную кондитерскую на углу Садовой и Малой Бронной. Там они купили фунт шоколадного лома, баранок, чая и, посидев немного, пошли в сад-Эрмитаж покачаться на качелях. Маша незадолго до этого сшила на заказ ортопедические туфельки, да такие симпатичные на вид, а, главное, удобные в ходьбе и почти скрывающие ее хромоту.
Девушкам было весело, они качались на качелях и хохотали. Вверх – приближается к ним синее, с облачками, подрумяненными закатом, небо, вниз – несется на них сочная зелень сада, столики под зонтиками из полосатого тика, плетеные дачные кресла, занятые нарядными, улыбающимися людьми. Хорошо! Весело! Будто бы и нет, в самом деле, будничных забот.
– Ой, Машка, хватит, что-то голова закружилась, – смеясь, взмолилась Клаша.
– Ну, так прыгай, я еще покачаюсь.
– А мне разрешите с вами покачаться? – очень тактично спросил черноглазый брюнет с тонкими усиками, одетый в суконную черную тройку и хромовые сапоги, когда Клаша соскочила с качелей.
– Милости просим, – с кокетством пригласила Маша.
Они долго качались, пока Клаша сидела на скамейке под липами. Потом ее пригласил танцевать какой-то кавалер, и Маша потеряла ее из виду.
– Найдется, никуда не денется, – подумала она, но Клаша куда-то пропала в тот вечер.
Потом Маша с Тимошей, так звали молодого человека, сидели за столиком, и Тимофей угощал ее мороженым крем-брюле, несказанно вкусным. Он несколько раз приглашал Машу танцевать, но она все отказывалась. Он-то не знал, что Маша хромая и никогда не танцевала. Уже совсем стемнело, когда они отправились на Дорогомиловскую. Шли пешком, и Маша очень устала.
– Милочка вы моя, да вы, никак, ногу стерли?
– Нет, я с детства хромаю, – зло ответила Маша и заплакала.
– Ну что вы милая, не плачьте, вот горе-то какое, – Тимофей поднял Машу и понес. – Извозчик! На Дорогомиловскую, да осторожно, не тряси, видишь, барышне плохо.
Они быстро доехали до дома.
– Тимоша, вы меня жалеете. Не нужно меня жалеть. Я привыкла. А вы добрый, а то как увидят, что я хромаю, так оставят тотчас свои ухаживания, – говорила Маша, поднимаясь вместе с ним по узкой лестнице на второй этаж в свою девичью келью.
Потом были свидания, встречи, гуляния по Москве, в общем, как и полагается в подобных случаях. Тимофей полюбил Машу, а она отвечала ему молчаливой благодарностью. Он не бросил ее из-за хромоты. Напротив, окружил ее лаской и заботой.
Осенью в церкви святых Петра и Павла на Яузе они обвенчались. Пышной свадьбы не было. Да и не нужна она была им вовсе. Маша и Тимофей были счастливы. Днем – работа. Он – приказчиком в лавочке, Маша – в мастерской, зато вечер и ночь вместе. Они живут в Машиной комнате. Тесновато, но есть маленькое семейное счастье.
Тяжело Маше работать большим, пахнущим угаром утюгом, где-то под сердцем толкается ножками маленькое существо. Они так ждут ребенка.
Худенький мальчишка с взъерошенными волосами бежал по Дорогомиловской и звонким голосом кричал, размахивая пачкой газет: «Война, война! Последние новости! Россия вступила в войну с Германией!».
Москва несколько дней судачила об этом событии, как о чем-то развлекательном. Потом началась неспешная на первых порах мобилизация рабочих, мелких служащих, мещан. Ушел на фронт и Тимофей.
Примерно через месяц Маша получила с фронта нежное, полное любви письмо. Оно было единственным. Тимофей в это время уже погиб. Похоронное извещение пришло месяца через два. Тогда Маша носила ребенка около восьми месяцев. Известие о смерти мужа почти убило ее, она не доносила и родила мертвую девочку.
Ее безмерное горе вдруг сменилось необузданной злобой. Ей порой казалось, что Тимофей не погиб, а придумал это нарочно, чтобы бросить ее, хромую. Постепенно эта мысль так укрепилась в ней, что она перестала верить в его гибель. Первоначальное отчаяние, затем злость, перешедшая в настоящую ярость, превратилась в ненависть ко всему мужскому роду.
В этом состоянии она начала гулять без разбору со всеми, кто хотел этого. Жизнь понесла ее. Сожители менялись чаще, чем перчатки: то, не выдержав ее дикой безудержной злобы, то она бросала их и уходила сама из-за малейшей причины. Были в результате этого и дети. Она, покормив их грудью несколько недель, находила семью где-нибудь в подмосковной деревне, где могли взять малыша, и избавлялась от него.
Потом, уже дряхлой старухой, она со злобой говорила, осуждая какую-нибудь неудачливую женщину, обманутую и брошенную: «Мои дети все крещеные, все погребенные», – и при этом осеняла себя крестным знаменем.
Годы летели, летели мимо, как-то не задевая ее никакими событиями, происходившими в это время в стране…
Глава II
И вот, наконец, дом построен. Он был очень большим и разделялся капитальными бревенчатыми перегородками на три части, в каждой из которых была своя печь: две изразцовые «голландки» и огромная русская, с подпечком и лежанкой. Между новым домом и старой избой, отгородив двор от чужих глаз, поднялись огромные трехметровые ворота с узкой калиткой, к которой была прилажена щеколда с большим кованым кольцом. Ворота всегда были крепко-накрепко заперты на толстенный засов. За избой вырос новый скотный двор и навес, перекрывавший все пространство между постройками. Сам двор вымостили половинками дубовых бревен. В общем, не дом, а настоящая крепость. За двором простирался большой сад, уходящий до самого оврага. Сад зарос владимирскими вишнями, яблонями и грушами.
К моменту, когда был построен новый дом, Лиза уже родила двенадцать детей. Правда, они много болели и часто умирали. Выживали только самые крепкие.
После освящения вслед за кошкой в жилище вошли Алексей Федорович, Лиза и пятеро детей: старший сын Николай и четверо девочек. Одна из них – Дуня, была больна туберкулезом, а младшая Маня родилась с сильной дисплазией, что в то время без участия врачей гарантировало ей хромоту на всю жизнь, но отца это вовсе не беспокоило. Гораздо больше он думал о том, как оборудует большую швейную мастерскую на восемь подмастерьев, причем трое из них работали лишь за харчи. Это были его сын и старшие дочери: Прасковья и Анисья.
В общем, нужно сказать, что дело мещанина Алексея Федоровича Вирейского – будет процветать и дальше.
Образование детей, которое считал необходимым дать отец, составлялось из четырех классов церковно-приходской школы, а затем в 10—12 летнем возрасте детей отдавали в ученье, где дети осваивали профессию портного со знанием, которого требовало хорошо поставленное отцовское дело.
Марию, как и всех старших детей, в одиннадцатилетнем возрасте отправили в Москву, в ученье портнихи Мурзалевской. Там она первые полгода только раздувала утюги и получала затрещины от мастериц. Потом ей доверили пришивать пуговицы. Этим она занималась еще два года. Правда, потом она довольно быстро освоила всю премудрость швейного мастерства и к восемнадцати годам стала хорошей портнихой.
Однако врожденная хромота, чрезвычайная строгость отца, постоянное унижение со стороны хозяйки сделали свое черное дело. Мария выросла злой и алчной, хотя и очень набожной.
Ей уже пора было возвращаться в родительский дом, чтобы начать работать там, но скоропостижно умер отец, и, воспользовавшись неожиданной свободой, она осталась работать у Мурзалевской и стала получать хорошее жалование.
Ее сестры вышли к тому времени замуж или просто так уехали на поиски счастья. В доме остались лишь мать да Дуня.
Шел 1905 беспокойный год. Москва бурлила революционными событиями. На Пресне стреляли. Стреляли казаки, стреляли рабочие, засевшие на баррикадах. Да и на Большой Дорогомиловской улице также было неспокойно. Бастовали рабочие Брянской железной дороги. Они присоединились к общей стачке железнодорожников Москвы. На площади Брянского вокзала патрулировали рабочие пикеты с красными повязками на рукавах и вооруженные ружьями. Они не пускали на вокзал штрейкбрехеров. Часто дружные колонны вооруженных рабочих проходили по улицам. Здесь и там вспыхивали летучие митинги.
Обыватели – мелкие московские лавочники, купчишки, мещане, в силу своей природной трусости, по большей части отсиживались в своих заведениях. Те из них, на окнах которых были ставни, закрывали их, а у кого ставней не было, задергивали плотнее шторы, надеясь отгородиться ото всего происходящего, как-нибудь пересидеть неспокойные времена. Они, конечно, чувствуя недоброе, стали мягче, снисходительнее относиться к подмастерьям, приказчикам и прочим своим работникам, стараясь по возможности изолировать их от волнений.
Доходы у этих мелких буржуа значительно сократились. Понятно: кому в голову придет ходить по трактирам, магазинам, заказывать одежду и обувь, когда на улицах стреляют.
Как-то в воскресенье в мастерской у мадам Мурзалевской произошло следующее: по Большой Дорогомиловской улице, куда выходили окна ее мастерской, двигалась колонна рабочих с семьями. Они несли лозунги и красные флаги, пели революционные песни. Мастерицы и подмастерья бросили шить и дружной стайкой собрались у окна. Трудно сказать, какими мыслями руководствовались при этом забитые, малограмотные женщины и девушки. Вряд ли это было вызвано солидарностью с рабочей колонной. Скорее всего, их влекло простое любопытство. Маша Вирейская, чтобы лучше рассмотреть и расслышать, взгромоздилась на подоконник и высунула голову в форточку. В этот момент в мастерскую вошла хозяйка.
– Это еще что за безобразие! – нервным, злым голосом закричала она, – сейчас же за работу!
Мастерицы быстро заняли свои места, а Маша замешкалась из-за того, что голова у нее застряла в форточке. Хозяйка подскочила к окну и с криком: «Я тебе покажу, бунтовщица, я тебе покажу», – принялась щипать ее за ляжки. Маша дергалась от боли и никак не могла вытащить голову из форточки, а хозяйка щипала и щипала ее. Марии каким-то чудом удалось освободиться, она прыгнула, свалив с ног хозяйку. За это Мурзалевская вычла из ее жалования пять рублей, выбив «революционный запал» из Машиной головы на всю оставшуюся жизнь.
В дальнейшем Маша Вирейская к событиям первой русской революции была непричастна.
Время шло, революционный подъем пятого года сменился тяжелой для рабочего класса реакцией. Ежедневно арестовывали все новых и новых людей, переполняя тюрьмы. Но это не слишком касалось обывателей. Разве что жаль было Маше голубоглазого, круглолицего юношу Семена – сына железнодорожника Марка Осиповича Шаповалова, которого арестовали прямо у нее на глазах, при этом очень сильно избили. Маша знала его еще мальчишкой, гонявшим голубей во дворе дома, где она жила все эти московские годы, но вскоре забыла о нем.
Несмотря на Машину хромоту, хозяйка довольно часто посылала ее сдавать работу, так как было принято готовую вещь примерять у заказчика в квартире и, если это требовалось, делать незначительную подгонку прямо тут же. Ходить пешком Маше было трудно, и хозяйка выдавала ей двугривенный на конку. Маша все равно шла пешком, а деньги экономила не потому, что очень нуждалась, а скорее по привычке, вбитой ей с детства, беречь копейку.
Однажды Мария несла готовый заказ куда-то в конец Новобасманной улицы. Переходя Садовую улицу у Красных ворот, она замешкалась и попала под лошадь. Маша сильно ушиблась и никак не могла встать. Из садика напротив, рискуя быть сбитой конкой, выбежала девочка лет восьми-девяти – худенькая, голубоглазая, пшеничноволосая, и подбежала к Маше.
– Тетенька, вы ушиблись, давайте я вам помогу, – тоненько закричала она, помогла Маше встать, перевела ее через улицу и усадила на скамейку в садике. – Может, вам доктора позвать? – спросила она.
– Нет, нет, мне уже лучше, – испуганно проговорила Маша, – как звать-то вас прикажете, молиться-то мне за кого?
– Меня зовут Аня Полиевктова, а молиться за меня не нужно, я ведь здорова. Это вы, тетенька, ушиблись, – Аня достала из кармана маленькую гуттаперчевую куколку-голыша. – Вот, возьмите на память, пожалуйста, будьте здоровы, – и она быстро побежала через садик и скрылась в парадном красивого особняка. Маша посидела еще немного и, сильно хромая, пошла на конку. «Благодарю тебя, господи, кажется, жива осталась», – проговорила она.
2
Стояло теплое московское лето 1913 года. Во дворах плавным нескончаемым танцем кружил тополиный пух. На Большой Садовой улице грохотали трамваи, по булыжной мостовой цокали копытами лошади, запряженные то в телегу, то в коляску. По тротуарам беспрерывной массой двигались, спешили куда-то, суетились люди.
Сад-Эрмитаж оглушал прохожих медной музыкой духового оркестра. Воскресный день клонился к вечеру. Маша по случаю именин – а ей исполнилось 22 года, достала из лубочной шкатулки трешницу и решила пышно кутнуть. Она вместе с мастерицей Клашей, тоже работавшей у мадам Мурзалевской, отправились вначале в крошечную кондитерскую на углу Садовой и Малой Бронной. Там они купили фунт шоколадного лома, баранок, чая и, посидев немного, пошли в сад-Эрмитаж покачаться на качелях. Маша незадолго до этого сшила на заказ ортопедические туфельки, да такие симпатичные на вид, а, главное, удобные в ходьбе и почти скрывающие ее хромоту.
Девушкам было весело, они качались на качелях и хохотали. Вверх – приближается к ним синее, с облачками, подрумяненными закатом, небо, вниз – несется на них сочная зелень сада, столики под зонтиками из полосатого тика, плетеные дачные кресла, занятые нарядными, улыбающимися людьми. Хорошо! Весело! Будто бы и нет, в самом деле, будничных забот.
– Ой, Машка, хватит, что-то голова закружилась, – смеясь, взмолилась Клаша.
– Ну, так прыгай, я еще покачаюсь.
– А мне разрешите с вами покачаться? – очень тактично спросил черноглазый брюнет с тонкими усиками, одетый в суконную черную тройку и хромовые сапоги, когда Клаша соскочила с качелей.
– Милости просим, – с кокетством пригласила Маша.
Они долго качались, пока Клаша сидела на скамейке под липами. Потом ее пригласил танцевать какой-то кавалер, и Маша потеряла ее из виду.
– Найдется, никуда не денется, – подумала она, но Клаша куда-то пропала в тот вечер.
Потом Маша с Тимошей, так звали молодого человека, сидели за столиком, и Тимофей угощал ее мороженым крем-брюле, несказанно вкусным. Он несколько раз приглашал Машу танцевать, но она все отказывалась. Он-то не знал, что Маша хромая и никогда не танцевала. Уже совсем стемнело, когда они отправились на Дорогомиловскую. Шли пешком, и Маша очень устала.
– Милочка вы моя, да вы, никак, ногу стерли?
– Нет, я с детства хромаю, – зло ответила Маша и заплакала.
– Ну что вы милая, не плачьте, вот горе-то какое, – Тимофей поднял Машу и понес. – Извозчик! На Дорогомиловскую, да осторожно, не тряси, видишь, барышне плохо.
Они быстро доехали до дома.
– Тимоша, вы меня жалеете. Не нужно меня жалеть. Я привыкла. А вы добрый, а то как увидят, что я хромаю, так оставят тотчас свои ухаживания, – говорила Маша, поднимаясь вместе с ним по узкой лестнице на второй этаж в свою девичью келью.
Потом были свидания, встречи, гуляния по Москве, в общем, как и полагается в подобных случаях. Тимофей полюбил Машу, а она отвечала ему молчаливой благодарностью. Он не бросил ее из-за хромоты. Напротив, окружил ее лаской и заботой.
Осенью в церкви святых Петра и Павла на Яузе они обвенчались. Пышной свадьбы не было. Да и не нужна она была им вовсе. Маша и Тимофей были счастливы. Днем – работа. Он – приказчиком в лавочке, Маша – в мастерской, зато вечер и ночь вместе. Они живут в Машиной комнате. Тесновато, но есть маленькое семейное счастье.
Тяжело Маше работать большим, пахнущим угаром утюгом, где-то под сердцем толкается ножками маленькое существо. Они так ждут ребенка.
Худенький мальчишка с взъерошенными волосами бежал по Дорогомиловской и звонким голосом кричал, размахивая пачкой газет: «Война, война! Последние новости! Россия вступила в войну с Германией!».
Москва несколько дней судачила об этом событии, как о чем-то развлекательном. Потом началась неспешная на первых порах мобилизация рабочих, мелких служащих, мещан. Ушел на фронт и Тимофей.
Примерно через месяц Маша получила с фронта нежное, полное любви письмо. Оно было единственным. Тимофей в это время уже погиб. Похоронное извещение пришло месяца через два. Тогда Маша носила ребенка около восьми месяцев. Известие о смерти мужа почти убило ее, она не доносила и родила мертвую девочку.
Ее безмерное горе вдруг сменилось необузданной злобой. Ей порой казалось, что Тимофей не погиб, а придумал это нарочно, чтобы бросить ее, хромую. Постепенно эта мысль так укрепилась в ней, что она перестала верить в его гибель. Первоначальное отчаяние, затем злость, перешедшая в настоящую ярость, превратилась в ненависть ко всему мужскому роду.
В этом состоянии она начала гулять без разбору со всеми, кто хотел этого. Жизнь понесла ее. Сожители менялись чаще, чем перчатки: то, не выдержав ее дикой безудержной злобы, то она бросала их и уходила сама из-за малейшей причины. Были в результате этого и дети. Она, покормив их грудью несколько недель, находила семью где-нибудь в подмосковной деревне, где могли взять малыша, и избавлялась от него.
Потом, уже дряхлой старухой, она со злобой говорила, осуждая какую-нибудь неудачливую женщину, обманутую и брошенную: «Мои дети все крещеные, все погребенные», – и при этом осеняла себя крестным знаменем.
Годы летели, летели мимо, как-то не задевая ее никакими событиями, происходившими в это время в стране…
Глава II