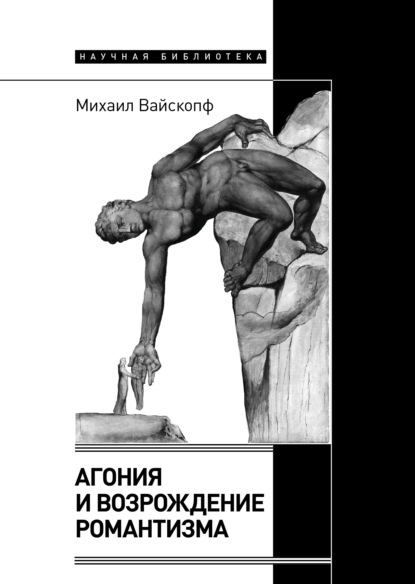По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Агония и возрождение романтизма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Идти на Днепр в ночи глубокой?
Бушуют волны на реке,
Зарница блещет вдалеке,
И тучи месяц застилают[47 - Козлов И. И. Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1960. С. 402–403.]…
Ср. в «Страшной мести»: «Кто-то спускался с горы <…> Зачем и куда ему идти в эту пору?»; «Кто из казаков осмелился гулять <…> в то время, когда рассердился старый Днепр?», а также показ обезумевшей Катерины, скитающейся осенней ночью по берегу Днепра.
При изучении «Тараса Бульбы» также стоит, мне кажется, чаще обращаться к массовому романтизму – такие экскурсы сулят нам немало сюрпризов. В насквозь будничном, казалось бы, «Постоялом дворе» Степанова, вышедшем одновременно с «Тарасом Бульбой», дается такое же сравнение летящих коней со змеями, как то, что в «Мастерстве Гоголя» восхитило Андрея Белого, который усмотрел в этом гоголевском штрихе «чудо ракурса». Некоторые ритмические повторы повести – я имею в виду то место, где Тарас угощает запорожцев заветным вином под сакральные тосты – подсказаны были ему, видимо, повестью барона Е. Розена «Очистительная жертва»: «Выпьем, братцы, в честь этой славы! – И все повторили: Выпьем за славу, за храбрость русского воинства!!!»[48 - См.: Розен Е. Ф. Очистительная жертва // Альциона на 1832-й год. СПб., 1832. С. 111. С. 31–112.]
А знаменитый афоризм Андрия Бульбы «Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша» можно было еще раньше найти у второстепенного писателя Лесовинского в повести «Человек не совсем обыкновенный»: «Ибо не там отчизна наша, где мы в первый раз узрели мир Божий, а там, где жила душа наша»[49 - См.: Лесовинский. Человек не совсем обыкновенный // Телескоп. 1833. Т. 17. № 17. С. 67.]. Сама же любовь Андрия к прекрасной полячке и связанное с ней эстетическое влечение героя к католичеству, инспирированное потрясшей его органной музыкой (вторая редакция, 1842), подхватывают комплекс мотивов, заданный в повести Е. Ган «Джеллаледин» (1838), где выведен молодой татарин, влюбившийся в русскую девушку. Впервые услышанная им русская песня – такая же томительная и влекущая, как та, что прозвучит в «Мертвых душах», – и «звуки инструментов» («Никогда подобная гармония не касалась его слуха») подталкивают ошеломленного героя к обращению в чужую веру – на сей раз в православие[50 - См.: Ган Е. А. Джеллаледин // Библиотека для чтения. 1838. Т. XXX. № 1. С. 147.].
Петербургский цикл и «Рим»
Сложнейшая многоуровневая семантика петербургского цикла взывает к внимательному изучению его интертекстуальных связей и контекста – как отдаленного, так и ближайшего, газетно-журнального. Только при такой методологической установке можно будет выявить степень гоголевской индивидуальности в трактовке тем и сюжетов, являвшихся общим достоянием эпохи. Скажем, картина демонического бала в «Невском проспекте» близка к соответствующим эпизодам из повести А. Тимофеева «Мой демон» (1833), герой которого тоже тщетно разыскивает возлюбленную на такой же ярмарке бесовской суеты. В разгар бала он подходит к карточному столу – и встречает «глубокое молчание, угрюмые, важные лица, неподвижные взоры»[51 - Тимофеев А. В. Опыты // [соч.] Т. м. ф. а.: В 3 ч. Ч. 2. СПб.: Н. Глазунов, 1837. С. 70.]. У Гоголя на балу изображены мрачные «тузы, погруженные в молчание».
В. Виноградов, проделавший ценнейшую работу по «ринологической» проблематике и контексту гоголевского «Носа», мог бы дополнить свои наблюдения еще одной пространной аналогией. Мы нашли ее в последнем томе «Постоялого двора» А. П. Степанова (начало 1835 года):
Носик – но кто смеет описывать этот член лица, изображенный с такою смелою гиперболою в песнях песней великого поэта древности и отверженный почти всеми поэтами настоящих времен? Кто займется, например, переносицею, изгибами, выгибами, ноздрями? Фуй! Фуй!.. О! это последнее считается даже предосудительным, смешным, отвратительным! Странная вещь! главная фигура на гербе человеческого состава, то есть на лице его, ускользает всегда из-под руки литератора портретиста, и только, только разве удостаивается всегдашней отметки в плакатных паспортах: нос прямой, а спросите-ка у Лаватера![52 - См.: Степанов А. П. Постоялый двор. Записки покойного Горянова, изданные его другом Н. П. Маловым: В 4 ч. Ч. 4. СПб.: тип. А. Смирдина, 1835. С. 91.]
И т. д., и т. п. – настоящий гимн «члену лица», способный заворожить майора Ковалева. Но сюда можно присоединить и отрывок из кн. Вяземского – из его более раннего «Послания Башилову» (1828). Тут, к слову сказать, упомянута даже кондитерская – вроде той, куда позднее дважды заходит у Гоголя майор Ковалев «нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало»: сперва убедиться в утрате носа, а затем – самодовольно удостовериться в его счастливом возвращении. Ср. у Вяземского:
Теперь кто только нос имеет
Посереди лица, тот сплошь
Его прославить не робеет,
Хотя будь нос и нехорош.
Не мудрено тут вывесть справку:
Взойти в кондитерскую лавку…[53 - См.: Вяземский П. А. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1986. С. 211.]
В повести князя В. Ф. Одоевского «Импровизатор» («Альциона на 1833 год»)[54 - (Одоевский В. Ф). Подпись: ъ. ъ. й. Импровизатор. (Посв. В. И. Ланской) // Альциона на 1833-й год. СПб., 1833. С. 51–86.] впервые у него выведен был персонаж по имени Сегелиель, который вскоре станет одним из прямых предшественников гоголевского антихриста-ростовщика в «Портрете». Подобно ему, он обладает непостижимым умением «разорять всех, кто имеет с ним дело, вместе со всеми членов их семей <…> родственниками и детьми их». И далее: «Этого мало: поднималась ли буря, восставал ли вихрь, – тучи проходили мимо замка Сегелиелева и разражались над домами и житницами его неприятелей» (через пять лет у Одоевского, впрочем, появится и более привлекательный портрет одноименного персонажа).
В «Портрете» несчастья художника, поддавшегося дьявольскому соблазну, предваряются его размышлениями о необходимости душевно солидаризироваться с природой, сочувствовать ей:
Или если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности <…> какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека.
Символом такой бесчувственности, внушенной алчностью и легкомыслием, станет травестийное изображение Психеи, банализированной живописцем, который продал душу дьяволу. В другом месте повести коммерческой поделке противостоит «прекрасное, чистое как невеста» произведение художника, истово преданного искусству. Как видим, эта альтернативная картина ассоциируется с Мадонной.
Опять-таки возможным источником мог послужить здесь тот же «Импровизатор» (где, кстати, дан заодно близкий мотив оживающих графических изображений). Инфернальный Сегелиель в данном случае олицетворяет у Одоевского холодный и бездушный рационализм Просвещения. Само его имя, очевидно, подсказанное какими-то каббалистическими интересами автора, восходит к древнееврейским словам: сехель ли-эль – то есть «разум (или рассудок) мне Бог». Соответственно своей рассудочной сущности Сегелиель искушает поэта Киприяно, наделяя его аналитическим даром – дьявольским уменьем видеть «расчисленными» все силы природы: «Перед Киприяно лежала вся природа, как остов прекрасной женщины, которую прозектор выварил так искусно, что на ней не осталось ни одной живой жилки». Взглянув на любимый им образ Мадонны, «он в творении художника видел лишь химическое брожение»; «Все в природе разлагалось перед ним, но ничто не соединялось в душе его <…> ничто в мире не сочувствовало ему»[55 - Цит. по: Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века: Сб. произведений / Сост. и автор коммент. А. А. Карпов; автор вступ. ст. В. В. Маркович. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. С. 76–81.].
Образ Аннунциаты в «Риме» во многом предопределен был общей тягой культуры 1830–1840-х годов к возрождению античных образов. Неудивительно, что в героине различимы черты итальянок Греча, Тимофеева, статуарных типажей Кукольника. Но воздействие массового романтизма на «Рим» идет и по другой линии. Скажем, Пеппе, неутомимый и вездесущий помощник князя, очевидно, представляет собой благодушную версию одного из действующих лиц романа П. Каменского «Искатель сильных ощущений». Это куда менее обаятельный, но столь же неугомонный и расторопный итальянец, слуга Педро, о котором его хозяин вспоминает так:
Педро был все, что хотите в Генуе: матрос, который первый на своем тартане привез известие о возвращении генуэзского экипажа из Перу в 93-м году; Педро в Неаполе был бы первым бандитом и за червонец прирезал бы хоть самого герцога, кого вам угодно; в Венеции лучшим торгашем, и перещеголял бы любого жида; Педро… но всего не перескажешь про Педро; жаль, что нет теперь у меня Педро![56 - См. Каменский П. П. Искатель сильных ощущений // Соч. Каменского: В 3 ч. Ч. 1. СПб.: тип. А. Смирдина, 1839. С. 108–109.]
«Не шей ты мне, матушка…»
Генезису «Записок сумасшедшего» традиционно уделялось много внимания[57 - См., например: Золотусский И. П. «Записки сумасшедшего» и «Северная пчела» // Поэзия прозы: Статьи о Гоголе. М.: Сов. писатель, 1987. С. 145–164 (автор поддержал и развил давние наблюдения В. Гиппиуса); Пумпянский Л. В. Гоголь // Классическая традиция: Собр. трудов по истории русской литературы. М.: Языки рус. культуры, 2000. С. 337–340; Fusso S. The Landscape of «Arabesques» // Essays on Gogol: Logos and the Russian Word / Ed. by S. Fusso, P. Meyer. Evanston (Illinois), 1992; Козлов А. Культурологическая аллюзия в «Записках сумасшедшего» // Н. В. Гоголь: Загадка третьего тысячелетия. Первые гоголевские чтения: Сб. докл. / Под общ. ред. В. П. Викуловой. М.: Кн. дом «Университет», 2002, С. 93–95. Ср.: Sergl A. Gogol’ s Opium: Genesis and Meaning of the Piskarev Sujet in «Nevskii Prospekt» // Wiener Slawistischer Almanach. 1997. Bd. 39. Р. 178–179.]. И все же их текст заслуживает более широкого обращения к тогдашней русской словесности. Так, Гамбург, где по мнению Поприщина «обыкновенно делается луна», находит некоторые вещие соответствия в «Зимних карикатурах» Вяземского (1828):
И если в лавках музы русской
Луной торгуют наподхват,
То разве взятой напрокат
Луной немецкой иль французской[58 - Там же. С. 214.].
Литературно-критическое суждение Поприщина касательно «очень приятного изображения бала, описанного курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут», возможно, было навеяно «Северной пчелой», поместившей в 1832 году анонимную и восторженную корреспонденцию из Курска – о тамошнем бале: «Я не в силах описать тебе ту роскошь, то великолепие, которые отражались в каждом предмете сего чрезвычайного бала <…> Тысячи, мириады прелестно расположенных разнородных огней <…> ослепляли зрение, поражали чувство!», и т. д.[59 - (Б. п.). Письмо из Курска в столицу // Северная пчела. 1832. № 52.]
Когда Поприщин сокрушается о том, что люди напрасно «воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет; он приносится ветром со стороны Каспийского моря», в этом рассуждении уловимы травестийные переклички с маститым натурфилософом романтической эпохи Г. Штеффенсом (Стеффенсом). В 1834 году, до создания гоголевской повести, М. Розберг в своих «Литературных листках», издававшихся как приложение к «Одесскому вестнику», опубликовал его пространную работу «О постепенном развитии природы», где встречаются не менее экстравагантные указания на прямую связь «между мозгом и подвижной атмосферою»; см. там же: «Всеобщий и необособленный мозг есть воздух»[60 - См. Стеффенс (Г.). О постепенном развитии природы // Литературные листки, прибавление к «Одесскому вестнику» № 8, 9, 10, 11. Одесса, 1834. С. 73, 75.]. (Иное дело – упомянутое Гоголем Каспийское море: в пиетистской традиции оно имело демонологические коннотации.)
С начала того же 1834 года в надеждинском «Телескопе» печаталась повесть В. Андросова «Случай, который может повториться» (отчасти примыкающая к жанру Kunstnovellen). Герой, поклонник искусств и мечтатель Александр Иванович, негодует на несовершенство мира, захваченного пошлой бесовщиной[61 - Андросов В. Случай, который может повториться // Телескоп. 1834. Ч. 20. № 11. С. 140, 147.]. Рехнувшись, он в сумасшедшем доме изрекает теории, по самобытности не уступающие будущим откровениям Аксентия Ивановича: «А знаете ли вы, что у женщин организация слуха иначе устроена, нежели у нас? <…> Да, у них ухо прямо соединяется с башмаком; у нас с мозгом; это небольшая разница»; «Ловкость в танцах требует больше ума, чем вся ваша ученость <…> Вы знаете, где орган смелости? – Разверните Шпурцгейма – возле ушей: есть прямая пропорция между длиною ушей и человеческим духом во всех его свойствах», и т. д.
У обоих безумцев, андросовского и гоголевского, имеется заветный идеал – утраченная деревенская Русь. Там, под звуки «простой песни» любящей матери, протекало когда-то детство тоскующего Александра. Поприщин же просто возвращается к своей загробной «матушке» в фантасмагорическом полете:
Вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!.. Пожалей о своем больном дитятке!..[62 - О национально-ностальгическом пафосе см.: Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л.: Гослитиздат, 1959. С. 319.]
В последнем, предсмертном монологе андросовского страдальца его ностальгический порыв получит, как и у Поприщина с его «алжирским деем», трагически несуразное разрешение:
Не шей ты мне, матушка,
Красный сарафан;
Не входи, родимая,
Попусту в изъян.
Трайла, трайла, трайла-ла[63 - Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. С. 155–158.].
Впору напомнить, что «Не шей ты мне, матушка…» – это та самая песенка, которую будет насвистывать у Гоголя Хлестаков[64 - Показательно, что некоторые отголоски андросовской повести – ее характерологические пассажи – ощутимы у Гоголя и в других сочинениях. Ср. хотя бы андросовские размышления о таинственной привычке почесывать в затылке как «движении, неизбежном у русского человека, когда он не знает, или не хочет, или считает недолжным выразиться прямо. Почесывая затылок, он как будто хочет угомонить поднятую мысль и, в то же время, с лукавым простодушием дает вам понять, что у него есть что-то на сердце, что он не высказал» (Телескоп. 1834. Ч. 20. № 9. С. 18–19) и у Гоголя в конце 10-й главы «Мертвых душ»: «Что означало это почесывание? и что вообще оно значит?» и т. д.].
Между тем вслед за повестью Андросова в том же самом номере «Телескопа» шла анонимная переводная заметка о современных политических делах в Испании, точнее о борьбе за ее престол, – «Дон Карлос, инфант испанский». В свое время В. Л. Комарович, комментируя гоголевскую повесть, подметил, что мнение Поприщина – «Не может взойти донна на престол. Никак не может. На престоле должен быть король» – в общем соответствует позиции Дона Карлоса, как она излагалась еще в 1833 году в «Северной пчеле»[65 - См. Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 3. С. 703.]. Но столь же правомерно было бы соотнести легитимистские взгляды Поприщина и с трактовкой испанских событий, представленной в «Телескопе». Допустимы и другие сопоставления. Так, поприщинская кухарка Мавра, узнав, что ее барин оказался испанским королем, перепугалась, поскольку, как полагает герой, «находилась в уверенности, будто все короли в Испании похожи на Филиппа II. Но я растолковал ей, что между мною и Филиппом нет никакого сходства». Предубеждения Мавры подсказаны, быть может, все той же журнальной статьей, где говорилось:
Некоторые сравнивают характер принца с мрачным характером Филиппа II; но всякое суждение о нем, основанное на сем сходстве, будет также совершенно превратно. Если сходство сие и существует, не нужно забывать, что Дон Карлос обладает всеми… добродетелями[66 - См. (Б. п.). Дон Карлос. Инфант испанский, с. 159–162 // Телескоп. 1834. Ч. 20. № 11. С. 160.].
Критика и эссеистика
Николай Полевой, которого не жалует большинство гоголеведов, мог бы стать для них весьма ценной фигурой, причем в разных своих жанрах, – например, в комедийных зарисовках (ср. хотя бы гоголевскую «Тяжбу» с его драматической сценкой «Утро в кабинете знатного барина»[67 - См. (Полевой Н.) Утро в кабинете знатного барина // Московский телеграф. 1830. Т. 33. № 10. С. 159–161.]). С собственно романтическими взглядами Полевого во многом совпадают и эстетические установки Гоголя. Его сетования в «Арабесках»: «Мы имеем чудный дар делать все ничтожным» сходятся с обличительными сентенциями Полевого в «Абадонне» (1834) или в критических эскападах последнего – хотя бы в рецензии на «Собрание стихотворений Ивана Козлова», где он порицает свет, который делает «каждое из честолюбий мелким»[68 - Московский телеграф. 1833. Т. 50. № 11. С. 323.].
Естественно, что эстетика Гоголя выказывает зависимость не только от русских, но и от западных сочинений. Одно из свидетельств тому – переводная статья Эдгара Кине «О состоянии искусств в Германии», вышедшая в самом начале 1833 года. Согласно Кине, язык живописи
стремится в высоту, вырывает себя по образцам величественных памятников готического зодчества, не ломаясь, не обрываясь нигде, он увенчивает себя при каждом слове украшениями и арабесками; вкореняется везде; всюду внедряется; всюду распускается на несметные листья; вяжется в снопы над своими колоннами; ползет; спускается; воздымается снова, не переводя духа, не останавливаясь нигде; и, когда таким образом создаст из себя памятник, весь из одного камня, почти из одной фразы, мысль исторгается из него, яркая и шумная, подобная звуку, извлекаемому из высоких сводов мрачного готического собора.
Специалист по Гоголю, конечно, сразу опознает здесь риторические узоры, которые повторятся в его статье «Об архитектуре нынешнего времени»[69 - Другие влияния на нее идут со стороны Шатобриана, Гюго, Гофмана и Надеждина. См.: Ботникова А. Б. Э. Т. А. Гофман и русская литература (первая половина XIX века). Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. С. 202; Вайскопф М. Влюбленный демиург… С. 280. Там же см. о влиянии Кине на статью Гоголя «О малороссийских песнях».]. Однако сходство этим не исчерпывается. Продолжая свои размышления (внушенные Гердером), Кине переходит к восточным религиям – и тут его картины предвосхищают гоголевскую утопию соединения разновременных и разностильных памятников мировой архитектуры на вытянутом пространстве одной улицы. «Все сии младенчествующие религии, – пишет Кине, – наследующие друг другу через ряды столетий, образуют как бы бесконечную процессию, воспевающую устами народов единое „осанна!“ на безмерной базилике Азии». Изображены олицетворенные Индия, Персия, Вавилония, Бактра, Египет, Халдея, цепенеющие либо содрогающиеся в экстатических позах; а затем дан контрастный переход к Святой Земле:
Смотрите! сии блуждающие религии благословляют на Востоке праг, через который вступает в жизнь род человеческий. Умолкните, таинственные птицы, гнездящиеся на обелисках Нила! Умолкните, единороги Евфрата! Грядет Агнец Божий! Иудея, где он закаляется в жертву, сама оканчивает собой великое жертвоприношение младенчествующего мира <…> Ниневия и Вавилон, где ваши златотканые одежды, златошвейные нарамники?[70 - Телескоп. 1833. Т. 13. № 1. С. 14–15.]
Это, по сути, та же динамика, которую запечатлеет Гоголь в этюде «Жизнь», – все страны древнего мира в смирении растерянно поникают перед той, где родился Спаситель:
Но остановился Рим и вперил орлиные очи свои на восток. К востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждения, прекрасные очи; к востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи. <…>
Задумался древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся Арарат, древний прапращур земли…
Гоголевское «Завещание», открывавшее первую редакцию «Выбранных мест из переписки с друзьями», как отчасти и сама эта книга, в жанровом плане навеяны «Замогильными записками» Шатобриана (которые, к слову сказать, во Франции встретили столь же иронически враждебное к себе отношение, что и в России поучения Гоголя); а рассуждения о грядущих судьбах и предназначении русской поэзии напрашиваются на сопоставление с некоторыми текстами Ламартина, например с его «Путешествиями по Востоку» (где можно отыскать заодно и кое-какие приметы гоголевской Аннунциаты).
В «Выбранных местах из переписки с друзьями» неожиданно просквозят также философские афоризмы Гейне, подсказанные тому «Критикой чистого разума» Канта, к философии которого в целом Гоголь не питал, правда, ни малейшего интереса. В 1832-м Иван Киреевский в своем «Европейце» опубликовал «Отрывки из письма Гейне о парижской картинной выставке 1831 года», где, в частности, говорилось:
Разум смотрит только за порядком; его можно назвать полициею изящных творений. В жизни он не что иное, как холодный счетчик; подводит итог под наши дурачества[71 - Европеец. Журнал И. В. Киреевского. № 1. М., 1980. С. 74.].
В одной из статей «Выбранных мест…» – «Христианин идет вперед» – Гоголь, молчаливо используя именно это элементарное определение, полицейские свойства разума переносит на ум, а то, что Гейне называет «дурачествами», отождествляет уже со страстями:
Бушуют волны на реке,
Зарница блещет вдалеке,
И тучи месяц застилают[47 - Козлов И. И. Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1960. С. 402–403.]…
Ср. в «Страшной мести»: «Кто-то спускался с горы <…> Зачем и куда ему идти в эту пору?»; «Кто из казаков осмелился гулять <…> в то время, когда рассердился старый Днепр?», а также показ обезумевшей Катерины, скитающейся осенней ночью по берегу Днепра.
При изучении «Тараса Бульбы» также стоит, мне кажется, чаще обращаться к массовому романтизму – такие экскурсы сулят нам немало сюрпризов. В насквозь будничном, казалось бы, «Постоялом дворе» Степанова, вышедшем одновременно с «Тарасом Бульбой», дается такое же сравнение летящих коней со змеями, как то, что в «Мастерстве Гоголя» восхитило Андрея Белого, который усмотрел в этом гоголевском штрихе «чудо ракурса». Некоторые ритмические повторы повести – я имею в виду то место, где Тарас угощает запорожцев заветным вином под сакральные тосты – подсказаны были ему, видимо, повестью барона Е. Розена «Очистительная жертва»: «Выпьем, братцы, в честь этой славы! – И все повторили: Выпьем за славу, за храбрость русского воинства!!!»[48 - См.: Розен Е. Ф. Очистительная жертва // Альциона на 1832-й год. СПб., 1832. С. 111. С. 31–112.]
А знаменитый афоризм Андрия Бульбы «Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша» можно было еще раньше найти у второстепенного писателя Лесовинского в повести «Человек не совсем обыкновенный»: «Ибо не там отчизна наша, где мы в первый раз узрели мир Божий, а там, где жила душа наша»[49 - См.: Лесовинский. Человек не совсем обыкновенный // Телескоп. 1833. Т. 17. № 17. С. 67.]. Сама же любовь Андрия к прекрасной полячке и связанное с ней эстетическое влечение героя к католичеству, инспирированное потрясшей его органной музыкой (вторая редакция, 1842), подхватывают комплекс мотивов, заданный в повести Е. Ган «Джеллаледин» (1838), где выведен молодой татарин, влюбившийся в русскую девушку. Впервые услышанная им русская песня – такая же томительная и влекущая, как та, что прозвучит в «Мертвых душах», – и «звуки инструментов» («Никогда подобная гармония не касалась его слуха») подталкивают ошеломленного героя к обращению в чужую веру – на сей раз в православие[50 - См.: Ган Е. А. Джеллаледин // Библиотека для чтения. 1838. Т. XXX. № 1. С. 147.].
Петербургский цикл и «Рим»
Сложнейшая многоуровневая семантика петербургского цикла взывает к внимательному изучению его интертекстуальных связей и контекста – как отдаленного, так и ближайшего, газетно-журнального. Только при такой методологической установке можно будет выявить степень гоголевской индивидуальности в трактовке тем и сюжетов, являвшихся общим достоянием эпохи. Скажем, картина демонического бала в «Невском проспекте» близка к соответствующим эпизодам из повести А. Тимофеева «Мой демон» (1833), герой которого тоже тщетно разыскивает возлюбленную на такой же ярмарке бесовской суеты. В разгар бала он подходит к карточному столу – и встречает «глубокое молчание, угрюмые, важные лица, неподвижные взоры»[51 - Тимофеев А. В. Опыты // [соч.] Т. м. ф. а.: В 3 ч. Ч. 2. СПб.: Н. Глазунов, 1837. С. 70.]. У Гоголя на балу изображены мрачные «тузы, погруженные в молчание».
В. Виноградов, проделавший ценнейшую работу по «ринологической» проблематике и контексту гоголевского «Носа», мог бы дополнить свои наблюдения еще одной пространной аналогией. Мы нашли ее в последнем томе «Постоялого двора» А. П. Степанова (начало 1835 года):
Носик – но кто смеет описывать этот член лица, изображенный с такою смелою гиперболою в песнях песней великого поэта древности и отверженный почти всеми поэтами настоящих времен? Кто займется, например, переносицею, изгибами, выгибами, ноздрями? Фуй! Фуй!.. О! это последнее считается даже предосудительным, смешным, отвратительным! Странная вещь! главная фигура на гербе человеческого состава, то есть на лице его, ускользает всегда из-под руки литератора портретиста, и только, только разве удостаивается всегдашней отметки в плакатных паспортах: нос прямой, а спросите-ка у Лаватера![52 - См.: Степанов А. П. Постоялый двор. Записки покойного Горянова, изданные его другом Н. П. Маловым: В 4 ч. Ч. 4. СПб.: тип. А. Смирдина, 1835. С. 91.]
И т. д., и т. п. – настоящий гимн «члену лица», способный заворожить майора Ковалева. Но сюда можно присоединить и отрывок из кн. Вяземского – из его более раннего «Послания Башилову» (1828). Тут, к слову сказать, упомянута даже кондитерская – вроде той, куда позднее дважды заходит у Гоголя майор Ковалев «нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало»: сперва убедиться в утрате носа, а затем – самодовольно удостовериться в его счастливом возвращении. Ср. у Вяземского:
Теперь кто только нос имеет
Посереди лица, тот сплошь
Его прославить не робеет,
Хотя будь нос и нехорош.
Не мудрено тут вывесть справку:
Взойти в кондитерскую лавку…[53 - См.: Вяземский П. А. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1986. С. 211.]
В повести князя В. Ф. Одоевского «Импровизатор» («Альциона на 1833 год»)[54 - (Одоевский В. Ф). Подпись: ъ. ъ. й. Импровизатор. (Посв. В. И. Ланской) // Альциона на 1833-й год. СПб., 1833. С. 51–86.] впервые у него выведен был персонаж по имени Сегелиель, который вскоре станет одним из прямых предшественников гоголевского антихриста-ростовщика в «Портрете». Подобно ему, он обладает непостижимым умением «разорять всех, кто имеет с ним дело, вместе со всеми членов их семей <…> родственниками и детьми их». И далее: «Этого мало: поднималась ли буря, восставал ли вихрь, – тучи проходили мимо замка Сегелиелева и разражались над домами и житницами его неприятелей» (через пять лет у Одоевского, впрочем, появится и более привлекательный портрет одноименного персонажа).
В «Портрете» несчастья художника, поддавшегося дьявольскому соблазну, предваряются его размышлениями о необходимости душевно солидаризироваться с природой, сочувствовать ей:
Или если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности <…> какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека.
Символом такой бесчувственности, внушенной алчностью и легкомыслием, станет травестийное изображение Психеи, банализированной живописцем, который продал душу дьяволу. В другом месте повести коммерческой поделке противостоит «прекрасное, чистое как невеста» произведение художника, истово преданного искусству. Как видим, эта альтернативная картина ассоциируется с Мадонной.
Опять-таки возможным источником мог послужить здесь тот же «Импровизатор» (где, кстати, дан заодно близкий мотив оживающих графических изображений). Инфернальный Сегелиель в данном случае олицетворяет у Одоевского холодный и бездушный рационализм Просвещения. Само его имя, очевидно, подсказанное какими-то каббалистическими интересами автора, восходит к древнееврейским словам: сехель ли-эль – то есть «разум (или рассудок) мне Бог». Соответственно своей рассудочной сущности Сегелиель искушает поэта Киприяно, наделяя его аналитическим даром – дьявольским уменьем видеть «расчисленными» все силы природы: «Перед Киприяно лежала вся природа, как остов прекрасной женщины, которую прозектор выварил так искусно, что на ней не осталось ни одной живой жилки». Взглянув на любимый им образ Мадонны, «он в творении художника видел лишь химическое брожение»; «Все в природе разлагалось перед ним, но ничто не соединялось в душе его <…> ничто в мире не сочувствовало ему»[55 - Цит. по: Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века: Сб. произведений / Сост. и автор коммент. А. А. Карпов; автор вступ. ст. В. В. Маркович. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. С. 76–81.].
Образ Аннунциаты в «Риме» во многом предопределен был общей тягой культуры 1830–1840-х годов к возрождению античных образов. Неудивительно, что в героине различимы черты итальянок Греча, Тимофеева, статуарных типажей Кукольника. Но воздействие массового романтизма на «Рим» идет и по другой линии. Скажем, Пеппе, неутомимый и вездесущий помощник князя, очевидно, представляет собой благодушную версию одного из действующих лиц романа П. Каменского «Искатель сильных ощущений». Это куда менее обаятельный, но столь же неугомонный и расторопный итальянец, слуга Педро, о котором его хозяин вспоминает так:
Педро был все, что хотите в Генуе: матрос, который первый на своем тартане привез известие о возвращении генуэзского экипажа из Перу в 93-м году; Педро в Неаполе был бы первым бандитом и за червонец прирезал бы хоть самого герцога, кого вам угодно; в Венеции лучшим торгашем, и перещеголял бы любого жида; Педро… но всего не перескажешь про Педро; жаль, что нет теперь у меня Педро![56 - См. Каменский П. П. Искатель сильных ощущений // Соч. Каменского: В 3 ч. Ч. 1. СПб.: тип. А. Смирдина, 1839. С. 108–109.]
«Не шей ты мне, матушка…»
Генезису «Записок сумасшедшего» традиционно уделялось много внимания[57 - См., например: Золотусский И. П. «Записки сумасшедшего» и «Северная пчела» // Поэзия прозы: Статьи о Гоголе. М.: Сов. писатель, 1987. С. 145–164 (автор поддержал и развил давние наблюдения В. Гиппиуса); Пумпянский Л. В. Гоголь // Классическая традиция: Собр. трудов по истории русской литературы. М.: Языки рус. культуры, 2000. С. 337–340; Fusso S. The Landscape of «Arabesques» // Essays on Gogol: Logos and the Russian Word / Ed. by S. Fusso, P. Meyer. Evanston (Illinois), 1992; Козлов А. Культурологическая аллюзия в «Записках сумасшедшего» // Н. В. Гоголь: Загадка третьего тысячелетия. Первые гоголевские чтения: Сб. докл. / Под общ. ред. В. П. Викуловой. М.: Кн. дом «Университет», 2002, С. 93–95. Ср.: Sergl A. Gogol’ s Opium: Genesis and Meaning of the Piskarev Sujet in «Nevskii Prospekt» // Wiener Slawistischer Almanach. 1997. Bd. 39. Р. 178–179.]. И все же их текст заслуживает более широкого обращения к тогдашней русской словесности. Так, Гамбург, где по мнению Поприщина «обыкновенно делается луна», находит некоторые вещие соответствия в «Зимних карикатурах» Вяземского (1828):
И если в лавках музы русской
Луной торгуют наподхват,
То разве взятой напрокат
Луной немецкой иль французской[58 - Там же. С. 214.].
Литературно-критическое суждение Поприщина касательно «очень приятного изображения бала, описанного курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут», возможно, было навеяно «Северной пчелой», поместившей в 1832 году анонимную и восторженную корреспонденцию из Курска – о тамошнем бале: «Я не в силах описать тебе ту роскошь, то великолепие, которые отражались в каждом предмете сего чрезвычайного бала <…> Тысячи, мириады прелестно расположенных разнородных огней <…> ослепляли зрение, поражали чувство!», и т. д.[59 - (Б. п.). Письмо из Курска в столицу // Северная пчела. 1832. № 52.]
Когда Поприщин сокрушается о том, что люди напрасно «воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет; он приносится ветром со стороны Каспийского моря», в этом рассуждении уловимы травестийные переклички с маститым натурфилософом романтической эпохи Г. Штеффенсом (Стеффенсом). В 1834 году, до создания гоголевской повести, М. Розберг в своих «Литературных листках», издававшихся как приложение к «Одесскому вестнику», опубликовал его пространную работу «О постепенном развитии природы», где встречаются не менее экстравагантные указания на прямую связь «между мозгом и подвижной атмосферою»; см. там же: «Всеобщий и необособленный мозг есть воздух»[60 - См. Стеффенс (Г.). О постепенном развитии природы // Литературные листки, прибавление к «Одесскому вестнику» № 8, 9, 10, 11. Одесса, 1834. С. 73, 75.]. (Иное дело – упомянутое Гоголем Каспийское море: в пиетистской традиции оно имело демонологические коннотации.)
С начала того же 1834 года в надеждинском «Телескопе» печаталась повесть В. Андросова «Случай, который может повториться» (отчасти примыкающая к жанру Kunstnovellen). Герой, поклонник искусств и мечтатель Александр Иванович, негодует на несовершенство мира, захваченного пошлой бесовщиной[61 - Андросов В. Случай, который может повториться // Телескоп. 1834. Ч. 20. № 11. С. 140, 147.]. Рехнувшись, он в сумасшедшем доме изрекает теории, по самобытности не уступающие будущим откровениям Аксентия Ивановича: «А знаете ли вы, что у женщин организация слуха иначе устроена, нежели у нас? <…> Да, у них ухо прямо соединяется с башмаком; у нас с мозгом; это небольшая разница»; «Ловкость в танцах требует больше ума, чем вся ваша ученость <…> Вы знаете, где орган смелости? – Разверните Шпурцгейма – возле ушей: есть прямая пропорция между длиною ушей и человеческим духом во всех его свойствах», и т. д.
У обоих безумцев, андросовского и гоголевского, имеется заветный идеал – утраченная деревенская Русь. Там, под звуки «простой песни» любящей матери, протекало когда-то детство тоскующего Александра. Поприщин же просто возвращается к своей загробной «матушке» в фантасмагорическом полете:
Вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!.. Пожалей о своем больном дитятке!..[62 - О национально-ностальгическом пафосе см.: Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л.: Гослитиздат, 1959. С. 319.]
В последнем, предсмертном монологе андросовского страдальца его ностальгический порыв получит, как и у Поприщина с его «алжирским деем», трагически несуразное разрешение:
Не шей ты мне, матушка,
Красный сарафан;
Не входи, родимая,
Попусту в изъян.
Трайла, трайла, трайла-ла[63 - Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. С. 155–158.].
Впору напомнить, что «Не шей ты мне, матушка…» – это та самая песенка, которую будет насвистывать у Гоголя Хлестаков[64 - Показательно, что некоторые отголоски андросовской повести – ее характерологические пассажи – ощутимы у Гоголя и в других сочинениях. Ср. хотя бы андросовские размышления о таинственной привычке почесывать в затылке как «движении, неизбежном у русского человека, когда он не знает, или не хочет, или считает недолжным выразиться прямо. Почесывая затылок, он как будто хочет угомонить поднятую мысль и, в то же время, с лукавым простодушием дает вам понять, что у него есть что-то на сердце, что он не высказал» (Телескоп. 1834. Ч. 20. № 9. С. 18–19) и у Гоголя в конце 10-й главы «Мертвых душ»: «Что означало это почесывание? и что вообще оно значит?» и т. д.].
Между тем вслед за повестью Андросова в том же самом номере «Телескопа» шла анонимная переводная заметка о современных политических делах в Испании, точнее о борьбе за ее престол, – «Дон Карлос, инфант испанский». В свое время В. Л. Комарович, комментируя гоголевскую повесть, подметил, что мнение Поприщина – «Не может взойти донна на престол. Никак не может. На престоле должен быть король» – в общем соответствует позиции Дона Карлоса, как она излагалась еще в 1833 году в «Северной пчеле»[65 - См. Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 3. С. 703.]. Но столь же правомерно было бы соотнести легитимистские взгляды Поприщина и с трактовкой испанских событий, представленной в «Телескопе». Допустимы и другие сопоставления. Так, поприщинская кухарка Мавра, узнав, что ее барин оказался испанским королем, перепугалась, поскольку, как полагает герой, «находилась в уверенности, будто все короли в Испании похожи на Филиппа II. Но я растолковал ей, что между мною и Филиппом нет никакого сходства». Предубеждения Мавры подсказаны, быть может, все той же журнальной статьей, где говорилось:
Некоторые сравнивают характер принца с мрачным характером Филиппа II; но всякое суждение о нем, основанное на сем сходстве, будет также совершенно превратно. Если сходство сие и существует, не нужно забывать, что Дон Карлос обладает всеми… добродетелями[66 - См. (Б. п.). Дон Карлос. Инфант испанский, с. 159–162 // Телескоп. 1834. Ч. 20. № 11. С. 160.].
Критика и эссеистика
Николай Полевой, которого не жалует большинство гоголеведов, мог бы стать для них весьма ценной фигурой, причем в разных своих жанрах, – например, в комедийных зарисовках (ср. хотя бы гоголевскую «Тяжбу» с его драматической сценкой «Утро в кабинете знатного барина»[67 - См. (Полевой Н.) Утро в кабинете знатного барина // Московский телеграф. 1830. Т. 33. № 10. С. 159–161.]). С собственно романтическими взглядами Полевого во многом совпадают и эстетические установки Гоголя. Его сетования в «Арабесках»: «Мы имеем чудный дар делать все ничтожным» сходятся с обличительными сентенциями Полевого в «Абадонне» (1834) или в критических эскападах последнего – хотя бы в рецензии на «Собрание стихотворений Ивана Козлова», где он порицает свет, который делает «каждое из честолюбий мелким»[68 - Московский телеграф. 1833. Т. 50. № 11. С. 323.].
Естественно, что эстетика Гоголя выказывает зависимость не только от русских, но и от западных сочинений. Одно из свидетельств тому – переводная статья Эдгара Кине «О состоянии искусств в Германии», вышедшая в самом начале 1833 года. Согласно Кине, язык живописи
стремится в высоту, вырывает себя по образцам величественных памятников готического зодчества, не ломаясь, не обрываясь нигде, он увенчивает себя при каждом слове украшениями и арабесками; вкореняется везде; всюду внедряется; всюду распускается на несметные листья; вяжется в снопы над своими колоннами; ползет; спускается; воздымается снова, не переводя духа, не останавливаясь нигде; и, когда таким образом создаст из себя памятник, весь из одного камня, почти из одной фразы, мысль исторгается из него, яркая и шумная, подобная звуку, извлекаемому из высоких сводов мрачного готического собора.
Специалист по Гоголю, конечно, сразу опознает здесь риторические узоры, которые повторятся в его статье «Об архитектуре нынешнего времени»[69 - Другие влияния на нее идут со стороны Шатобриана, Гюго, Гофмана и Надеждина. См.: Ботникова А. Б. Э. Т. А. Гофман и русская литература (первая половина XIX века). Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. С. 202; Вайскопф М. Влюбленный демиург… С. 280. Там же см. о влиянии Кине на статью Гоголя «О малороссийских песнях».]. Однако сходство этим не исчерпывается. Продолжая свои размышления (внушенные Гердером), Кине переходит к восточным религиям – и тут его картины предвосхищают гоголевскую утопию соединения разновременных и разностильных памятников мировой архитектуры на вытянутом пространстве одной улицы. «Все сии младенчествующие религии, – пишет Кине, – наследующие друг другу через ряды столетий, образуют как бы бесконечную процессию, воспевающую устами народов единое „осанна!“ на безмерной базилике Азии». Изображены олицетворенные Индия, Персия, Вавилония, Бактра, Египет, Халдея, цепенеющие либо содрогающиеся в экстатических позах; а затем дан контрастный переход к Святой Земле:
Смотрите! сии блуждающие религии благословляют на Востоке праг, через который вступает в жизнь род человеческий. Умолкните, таинственные птицы, гнездящиеся на обелисках Нила! Умолкните, единороги Евфрата! Грядет Агнец Божий! Иудея, где он закаляется в жертву, сама оканчивает собой великое жертвоприношение младенчествующего мира <…> Ниневия и Вавилон, где ваши златотканые одежды, златошвейные нарамники?[70 - Телескоп. 1833. Т. 13. № 1. С. 14–15.]
Это, по сути, та же динамика, которую запечатлеет Гоголь в этюде «Жизнь», – все страны древнего мира в смирении растерянно поникают перед той, где родился Спаситель:
Но остановился Рим и вперил орлиные очи свои на восток. К востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждения, прекрасные очи; к востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи. <…>
Задумался древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся Арарат, древний прапращур земли…
Гоголевское «Завещание», открывавшее первую редакцию «Выбранных мест из переписки с друзьями», как отчасти и сама эта книга, в жанровом плане навеяны «Замогильными записками» Шатобриана (которые, к слову сказать, во Франции встретили столь же иронически враждебное к себе отношение, что и в России поучения Гоголя); а рассуждения о грядущих судьбах и предназначении русской поэзии напрашиваются на сопоставление с некоторыми текстами Ламартина, например с его «Путешествиями по Востоку» (где можно отыскать заодно и кое-какие приметы гоголевской Аннунциаты).
В «Выбранных местах из переписки с друзьями» неожиданно просквозят также философские афоризмы Гейне, подсказанные тому «Критикой чистого разума» Канта, к философии которого в целом Гоголь не питал, правда, ни малейшего интереса. В 1832-м Иван Киреевский в своем «Европейце» опубликовал «Отрывки из письма Гейне о парижской картинной выставке 1831 года», где, в частности, говорилось:
Разум смотрит только за порядком; его можно назвать полициею изящных творений. В жизни он не что иное, как холодный счетчик; подводит итог под наши дурачества[71 - Европеец. Журнал И. В. Киреевского. № 1. М., 1980. С. 74.].
В одной из статей «Выбранных мест…» – «Христианин идет вперед» – Гоголь, молчаливо используя именно это элементарное определение, полицейские свойства разума переносит на ум, а то, что Гейне называет «дурачествами», отождествляет уже со страстями: