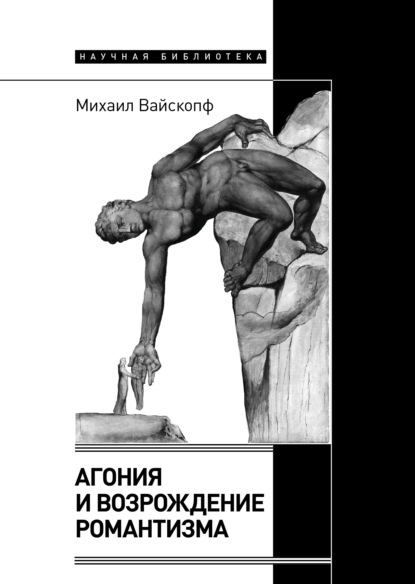По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Агония и возрождение романтизма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В поэме развертывается многослойная иерархия квазибытия – перепады и вибрации несуществования, которое посредством виртуозных ухищрений мгновенно или поэтапно перерастает в осязаемое подобие подлинной жизни. Отправным пунктом для этого процесса остается, естественно, физическая непреложность самой смерти. В первом томе ее вещественная реальность маркирована смятением Коробочки и успокоительными речами героя: «Ведь кости и могилы – все вам остается»; а во втором – подарком генерала Бетрищева, доверившегося россказням Чичикова: «Да за такую выдумку я их тебе с землей, с жильем! Возьми себе все кладбище!» Знаменательно между тем и промелькнувшее здесь фольклорное отождествление могилы с жилищем, привносящее сюда неуловимый, чуть ли не балладный оттенок посмертного бодрствования, столь значимого для Гоголя.
На многоступенчатой и многосложной динамике семантических сдвигов построен спор героя с Собакевичем, чрезвычайно важный для анализа темы.
1. «Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только несуществующими».
2. Однако нахрапистый хозяин, вымогая высокую цену за свой выморочный товар, напоминает визитеру, что тот хочет приобрести у него не какие-то «несуществующие», а именно «ревизские души» – то есть нечто, все еще обладающее бюрократическим существованием.
3. Заодно Собакевич, все в тех же меркантильных видах, как бы взывает и к подразумеваемому почитанию самой души человеческой, которую покупатель кощунственно уравнивает с вещами: «Ведь я продаю не лапти».
4. Чичиков в ответ отвергает оба эти определения – и прозвучавшее («ревизские»), и подразумеваемое (душа человека), – а свой термин «несуществующие» заменяет теперь словом «мертвые» (которым поначалу предпочел воспользоваться как раз его собеседник). Прежняя мощь и энергия покойников ныне вообще ничего не значат и, следовательно, ни гроша не стоят; а былая «душа» их стала лишь фикцией: «Но позвольте: зачем вы их называете ревизскими, ведь души-то сами давно уже умерли, остался один неосязаемый чувствами звук».
5. Тут Собакевич, уязвленный недооценкой товара, разражается панегириком своим покойным крепостным, настолько восхваляя их могучую витальность, что они словно бы заново обретают жизнь. Подмена производится им посредством чуть приметных грамматических сдвигов, переводящих глаголы из прошедшего времени в условное настоящее и даже будущее. Каретник Михеев, не в пример другим, свои экипажи «и сам обобьет, и лаком покроет!»; Максим Телятников, сапожник, «что шилом кольнет, то и сапоги <…> А Еремей Сорокоплехин! Да этот мужик один станет за всех!»; «Ведь вот какой народ!»
6. Озадаченный его внезапным артистизмом («Мне кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия»), покупатель, однако, возвращает разговор на почву настоящего положения дел. Обходя молчанием скользкую тему души, он снова напоминает, что «это все народ мертвый» и что на деле Собакевич рекламирует сейчас именно трупы, не имеющие решительно никакой денежной ценности: «Мертвым телом хоть забор подпирай».
7. Тогда Собакевич использует уничижительную метафору, которая приближает сегодняшних никчемных людей к нежити – а не мертвых к живым, как было у него раньше; в любом случае, этот прием, сопряженный с канцеляризмом, почти что уравнивает их между собой. Его коммерческий напор возвращается как бы с обратной стороны: «Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди».
8. Дезавуируя торгово-поэтический пафос собеседника, Чичиков переводит разговор в другую плоскость, где те же мертвые души – всего лишь ничто (то есть «несуществующие», по его прежнему определению), в отличие от этих убогих людей: те все же «существуют, а это ведь мечта».
9. В ответ Собакевич в заключительном приступе коммерческого вдохновения вновь актуализирует дивную мощь покойников: «Нет, это не мечта!»
Как бы то ни было, усопшие продолжат свое авантюрно-фантасмагорическое существование в ином, уже сдвоенном универсуме – одновременно потустороннем и здешнем: в том гипотетическом и потому безграничном мире, который созидался для них и в рекламных песнопениях Собакевича, и в последующих грезах самого Чичикова, проводящего смотр всем купленным душам, зачитывая их имена. В его творческих домыслах, намного более размашистых, чем «театральное представление», разыгранное Собакевичем, зерном их красочных биографий становится некая элементарно-психологическая константа, удержанная в «неосязаемом чувствами звуке». Для этого жизнетворно-загробного эпоса ценна любая подробность – и воображаемая, и настоящая, годится любая зацепка: «Каждая из записочек имела какой-то особенный характер, и чрез то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер». – Следует обширная панорама таких «характеров», воплощенная в серии микросюжетов.
Пресловутые алогизмы, которыми изобилует гоголевское творчество и которыми еще столетие с лишним назад занимался в Гельсингфорсе И. Мандельштам, сами по себе здесь мало что объясняют. В «Вие» даны разговоры, почти неотличимые от концовки «Носа» (см. ниже) и все же чрезвычайно многозначительные в своей акцентированной бессмыслице:
– И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем, – то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает что. Вот что!
Ср. далее беседу Хомы Брута с казаками о «соразмерном экипаже», в котором его везут потом на роковой хутор к мертвой панночке:
…Любопытно бы знать, – сказал философ, – если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром – положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней?
– Да, – сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, – достаточное бы число потребовалось коней.
Мы твердо ощущаем, что есть нечто общее между этим набором несуразицы и теми потусторонними сферами, которые потом во время ночной скачки на прекрасной панночке разверзаются перед малоосмысленным взором бурсака; но в чем именно заключается эта близость, установить трудно. Ясно лишь, что полнейшей неопределенности значений, предполагаемых пустым диалогом, соответствует бесконечность или, скорее, нелокализуемая широта ночных метаморфоз[127 - См. замечание Лотмана: «В космическом мире „Вия“ человек не может существовать потому, что здесь сняты все пограничные столбы и все качества амбивалентны» (Лотман Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. Таллин: Александра, 1992–1993. Т. 1. С. 437).], гибельных для Хомы. Абсурдизм реплик – как бы семантический ноль повести, который разлагается на ошеломляющий плюс – неимоверно-страшную красоту юной ведьмы и на такой же минус: ее загробное окружение в церкви; и рай ночного ландшафта, и трупная преисподняя сюжета равно невыносимы для героя, но равно открыты для его пустого сознания.
Общеизвестным катализатором для спонтанно саморазвивающейся фантастики в гоголевской прозе 1830-х годов служат досужие разговоры и сплетни. Не мешает, однако, внимательнее присмотреться к их модальному устройству. Ведь эти заведомо не верифицируемые слухи обычно имеют под собой все же какую-то минимальную – нулевую или, точнее, почти нулевую – основу, какой-либо коллективно-безымянный или же персонифицированный источник. Зачатый им фантом истины разрастается в нескончаемую круговерть призраков, отпущенных на сюжетный простор, – и тогда к базовой «несбыточности» «Носа» прибавляются другие «нелепые выдумки», по выражению негодующего резонера. Происходит нечто подобное тому, что мы наблюдали в споре Чичикова с Собакевичем: нужен лишь минимальный, порой чуть заметный толчок для головокружительных виражей мнимого бытия.
В концовке «Носа» мы встречаем подборку благонамеренных, но озадаченно-недоговоренных рассуждений. Безотносительно к эпатажному раздвоению рассказчика автокомментарий к поведанной им «истории» смещается в ту же семантическую зону неисследимых несуразностей, что и сам сюжет:
Но что страннее, что непонятнее всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это…
С другой стороны, тонко градуированное затем размышление о «неправдоподобности» действия – взамен полнейшей его невозможности – парадоксально придает содержанию налет достоверности. В размытой ауре финального ретрокомментария совершенно немыслимое, логически нулевое «происшествие» фактически повышается в модальном статусе:
Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появленье его в разных местах в виде статского советника, – как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе <…> Неприлично, неловко, нехорошо!
(Следует недоумение и по поводу того, как, собственно, «нос очутился в печеном хлебе» у цирюльника.) Гоголь как бы заговаривает, усыпляет внимание читателя, отвлекая его от того, что «сверхъестественное», слитое с рядовой «странностью», тем самым получает и определенное право на существование. Иначе говоря, здесь, в концовке повести, взрывное разрушение реальности прикровенно легитимизируется благодаря его простому соположению с куда менее шокирующим ее подрывом – нарушением социально-этикетных условностей. Практически так же строится, однако, и весь сюжет повести с ее зачином насчет «необыкновенно странного происшествия»; но в заключительных ее строках прием педалирован:
А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже… ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но бывают.
Что означает в этой осыпи невнятных догадок фраза: «И где ж не бывает несообразностей»? К чему тут относится слово где – к огрехам сочинения или к самой действительности? В возможности их смешения уже зреет и будущая вера творца «Мертвых душ» в прямое слияние его текста с жизнью и, соответственно, в способность автора создавать ее заново. Но в разбираемой повести нам интересна прежде всего техника модальных подмен. Как мы только что видели, в последнем ее абзаце абсолютно невероятное допущение объявлено всего лишь маловероятным («редко, но бывают»), что сразу приобщает его к теоретически возможным событиям – со всеми их бесчисленными вариациями.
Все эти приключения многоликого ничто – общий принцип гоголевской поэтики. Не только в «Носе» и «Мертвых душах», но и в ряде других произведений, например в «Ревизоре», сюжет или вводный микросюжет в модальном аспекте сводится к вещественной реализации того, чья реальность близка к нулю, а вернее, таковым и является; а при ином сюжетном раскладе этот исходный нуль, в свою очередь, оборачивается потенциальной бесконечностью.
В сознании Гоголя едва совместимые между собой онтологические уровни, разноплановые слои фабульного бытия, сосредоточенные в одном и том же сюжете, могут обладать и принципиально разным временем, причем одно время, как было в тирадах Собакевича, переходит или даже перескакивает в совершенно другое. В «Заколдованном месте» разозлившийся дед бранит дьявола, который над ним потешается: «А, шельмовский сатана! чтоб ты <…> еще маленьким издохнул, собачий сын!» Пожелание высказывается, так сказать, ретроактивно, словно оно имеет обратную силу. Вероятно, минувшее просто сосуществует рядом с настоящим – подобно тому, как, по наблюдению Лотмана, и здесь, и в других повестях «Вечеров…» бок о бок сосуществуют различные пространства – дневные и ночные, обычные и сказочно-игровые[128 - См.: Лотман Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. Таллин: Александра, 1992–1993. Т. 1. С. 420–421.].
Посредством слухов похождения ковалевского носа уже по завершении основного сюжетного действия опрокидываются назад, в некую прафабулу, которая на годы предшествует «необыкновенно странному происшествию», запечатленному в повести:
Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там, что когда еще проживал там Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы.
Повсеместно нагнетается у Гоголя череда или особая иерархия фикций, в своем суетливом противоборстве претендующих на истину. Это неисчерпаемое обилие мнимостей может просвечивать и позади нуля, гипотетически уходя в чисто отрицательный резерв реалий, которые заведомо не подлежат ни малейшей конкретизации. В «Ревизоре» слуга городничего Мишка спрашивает Осипа, не генерал ли его барин, а тот отвечает: «– Генерал, да только с другой стороны. – Что ж, это больше или меньше настоящего генерала? – Больше». Примеры столь же невообразимой, но при этом, так сказать, позитивной проекции за грань ничто мы находим и в эпизодически-бытовых мизансценах «Мертвых душ». В одной из них хронически растроганный Манилов с восторженным умилением заверяет Чичикова: «Вы всё имеете, даже еще более». Как было и в «Ревизоре», реплика, конечно, рассчитана автором на комический эффект – но в обоих случаях за ним таятся неразрешимые модальные парадоксы. Что это, собственно, значит, – более, чем всё? Мнимое достояние Чичикова, то есть нуль или почти нуль, соскальзывает в сферу, распахнутую для любых домыслов.
Нивелированно усредненный, внешне тоже как бы нулевой типаж самого героя именно в силу этой стертости набирает в сплетнях динамическую поливалентность, которая вовлекает его тщательно обезличенный образ в турбулентную зону мифических превращений, уводящих в некую подлинную «тайну». Метод переносится Гоголем и на лирические пассажи поэмы. Для этих колдовских метаморфоз пригоден почти нулевой повод, микрозаряд рутинного быта – и тогда убогая бричка преображается в грозную птицу тройку, взмывающую в сакральные эмпиреи национального духа, а почти безвидное в своей смиренном ландшафтном минимализме равнинно-нулевое пространство земной Руси размыкается неоглядной небесной утопией платоновского типа и, в пророческих чаяниях, столь же «бесконечной мыслью».
В «Мертвых душах» смешивается модальный статус наличного бытия, воплощенного в тех или иных преходящих особях, – и всего сообщества, которое именно как целое не может умереть. Сама гибель индивида подтверждает это бессмертие, – и возникает поразительная синхронизация обоих планов: «Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью!» – заключает Чичиков по поводу одной из купленных душ. Перед нами вместе с тем именно тот «мертвый народ», что был упомянут им в споре с Собакевичем. В поэме представлена вся технология модальных метаморфоз и самой сотериологической дидактики Гоголя: возможное или всего лишь условно допустимое стремительно совершает экспансию в царство столь же иллюзорной действительности – в том числе во второй том книги и публицистику позднего Гоголя. Выдуманный Костанжогло обретет подлинную плоть в грядущей России, когда ее воскресит и преобразит сам автор.
С другой стороны, в неисследимой метафизической перспективе какое-то неприметное семя земного события или проступка на том свете способно прорасти чащобой инфернальных ужасов. В своем Завещании, предпосланном было «Выбранным местам из переписки с друзьями», Гоголь восклицает:
Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы посеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся…
Зачастую эти полярные понятия – ничто и потенциальная бесконечность – у Гоголя меняются местами, ибо встречный процесс обращает вполне осязаемое явление в нечто эфемерное, небытийное. В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович и Иван Никифорович» хрестоматийным примером глобального разрастания вздора, «гусака» служит весь сюжет с его копеечными, но бурными и нескончаемыми «страстями»; а примером обратного умаления в ноль – картина того, как бессмысленные позывы съедают жизнь без остатка. В обоих случаях перед нами нулевой мир, гальванизируемый психическими импульсами – «задорами», по гоголевскому определению, в 1938 году подхваченному в Германии Д. И. Чижевским[129 - Чижевский Д. И. О «Шинели» Гоголя // Современные записки. Т. LXVII. Париж, 1938. C. 189–190; см. также: Tschizewskij D. Skovoroda – Gogol // Die Welt der Slaven. 1968. Jahr. XIII. H. 1. S. 322–323.]. Вторя, по сути, Чижевскому (не упомянутому им по актуально-политическим резонам), П. М. Бицилли в послевоенной статье, напечатанной им в Софии, предпочитает – в основном, на материале «Шинели» – говорить уже об «идее» гоголевского персонажа как «толчке», получаемом им обычно извне и разрастающемся затем в целый «комплекс»[130 - Бицилли П. М. Проблема человека у Гоголя (1947–1948) // Бицилли П. М. Избранные труды по филологии. М.: Наследие, 1996. С. 552–553.]: понятие, позаимствованное им, видимо, у раннего К. Г. Юнга.
Среди прочего в повесть о двух Иванах включен и кумулятивный рассказ о бытии человека, которое самым наглядным, вещественным образом съеживается в фикцию благодаря очередному такому «задору» или «идее» – страсти к обменам:
Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде, на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил тройку гнедых лошадей и небольшую бричку, в которой он разъезжал гостить по помещикам. Но <…> Антон Прокофьевич их променял на скрыпку и дворовую девку, взявши в придачу двадцатирублевую бумажку. Потом скрыпку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет сафьянный с золотом. И теперь у него такой кисет, какого ни у кого нет.
Дом заменен кисетом, ничем.
Иногда обе кумулятивные тенденции – позитивная и противоположная ей, стремящаяся к нулю, – могут непосредственно накладываться друг на друга. Такую картину мы встречаем в огромном «декламационно-патетическом периоде» «Шинели», который некогда привлек внимание Б. Эйхенбаума «комическим несоответствием между напряженностью синтаксической интонации <…> и ее смысловым разрешением»[131 - Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. М. О прозе: Сб. статей. Л.: Худож. лит., 1969. С. 316.]. Приведу этот пассаж с сокращениями:
Даже в те часы <…> когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто <…> идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты <…> Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению.
Поступательному нарастанию риторической энергии тут контрастно сопутствует убывающая арифметическая прогрессия как симптом убывания самого смысла – практически до нуля.
Имитация осмысленности нередко проводится буквально на пустом месте, посредством гипнотической суггестии, и тогда ничто принимает оттенок какого-то псевдозначения. В «Женитьбе» Кочкарев убеждает нерешительную Агафью Тихоновну выбрать в мужья Подколесина, с воодушевлением акцентируя само его имя и отчество, – в противовес презрительно отвергаемым у него, хотя и столь же расхожим именам других претендентов:
Да вы только посудите, сравните только: как бы то ни было, Иван Кузьмич; а ведь то что ни попало: Иван Павлович, Никанор Иванович, черт знает что такое!
В предисловии к одному из изданий «Повести о том…» говорилось:
Долгом почитаю предуведомить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени. Притом оно совершенная выдумка. Теперь Миргород совсем не то.
Короче, все, как в присловье, – «это было давно и неправда»; и тем не менее это именно «правда», судя по последней фразе – про теперешнее «не то», за которой сразу идут утешительные заверения насчет уже высохшей лужи и улучшения местного чиновничества. Важна опять-таки модальная подоплека этого смыслового хода. В комической оболочке еще тогда дала себя знать и гоголевская установка на взаимоотождествление недолжного как с несуществующим, так и с мертвым (а в трагедийно-пафосном плане, например в «Портрете» и «Вие», – прямая корреляция между сверхбытием и смертью). Ибо в своем существе гоголевский Миргород столь же мертв, сколь ахронен, – и автор охотно обыгрывает эту его сущностную мертвечину, незаметно для читателей переводя ее из метафорического плана в онтологический. Как я пытался доказать в книге «Сюжет Гоголя», Миргород у него, подобно Петербургу в «Шинели», действительно населен мертвецами – в самом что ни на есть буквальном, а не переносном смысле слова[132 - Вайскопф М. Сюжет Гоголя. С. 340.].
Налицо прием, симметричный тому, что мы уже видели в гораздо более поздних «Мертвых душах» с их игрой на непостижимой взаимосвязи «мертвого» и «несуществующего», прорастающих новой жизнью. Алчность Собакевича в сочетании с его неуклюжим и казусным богатырством расцвела там загробным эпосом, а остатки человеческих чувств – залог грядущего воскресения личности – побудили меркантильнейшего Чичикова мысленно оживить покойных крестьян.
Напрашивается, однако, вопрос: а чем, собственно, воспетое там посмертное инобытие этих крепостных мужиков по модальному статусу отличается, с одной стороны, от загробных скитаний Акакия Акакиевича, а с другой – от подземного бодрствования трупов «Страшной мести»? С ходячим покойником из «Шинели» их роднит уже мстительность, и тем же точно порывом охвачены могильные чудища «Вия», которые выходят из неведомых глубин лишь для того, чтобы покарать героя. Но имеются и другие психические факторы, приводящие мертвецов в движение.
Менее мрачным стимулом для взаимодействия, а потом и воссоединения нашего и потустороннего миров служит рутинно-житейская сцепка старосветских помещиков, со стороны Пульхерии Ивановны согретая зато трогательной заботой о муже. Поначалу Афанасий Иванович просто не понимает, что она умерла, не осознает, что такое смерть: «Так это вот вы уже и погребли ее! зачем?» Но затем его поражает само отсутствие покойной. Именно и только этим чувством отсутствия обусловлены его первичные реакции: «он зарыдал, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул… был вынесен». Позднее аналогичным восприятием небытия отмечен будет взгляд заезжего повествователя, который в его комнатах тоже фиксирует «какое-то ощутительное отсутствие чего-то»[133 - Ср. противоположный ход в истории Шпоньки. Герой, которого собираются женить, поражен самой мыслью о том, что «он не один будет жить в своей комнате, но их должно быть везде двое!..»].
На многоступенчатой и многосложной динамике семантических сдвигов построен спор героя с Собакевичем, чрезвычайно важный для анализа темы.
1. «Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только несуществующими».
2. Однако нахрапистый хозяин, вымогая высокую цену за свой выморочный товар, напоминает визитеру, что тот хочет приобрести у него не какие-то «несуществующие», а именно «ревизские души» – то есть нечто, все еще обладающее бюрократическим существованием.
3. Заодно Собакевич, все в тех же меркантильных видах, как бы взывает и к подразумеваемому почитанию самой души человеческой, которую покупатель кощунственно уравнивает с вещами: «Ведь я продаю не лапти».
4. Чичиков в ответ отвергает оба эти определения – и прозвучавшее («ревизские»), и подразумеваемое (душа человека), – а свой термин «несуществующие» заменяет теперь словом «мертвые» (которым поначалу предпочел воспользоваться как раз его собеседник). Прежняя мощь и энергия покойников ныне вообще ничего не значат и, следовательно, ни гроша не стоят; а былая «душа» их стала лишь фикцией: «Но позвольте: зачем вы их называете ревизскими, ведь души-то сами давно уже умерли, остался один неосязаемый чувствами звук».
5. Тут Собакевич, уязвленный недооценкой товара, разражается панегириком своим покойным крепостным, настолько восхваляя их могучую витальность, что они словно бы заново обретают жизнь. Подмена производится им посредством чуть приметных грамматических сдвигов, переводящих глаголы из прошедшего времени в условное настоящее и даже будущее. Каретник Михеев, не в пример другим, свои экипажи «и сам обобьет, и лаком покроет!»; Максим Телятников, сапожник, «что шилом кольнет, то и сапоги <…> А Еремей Сорокоплехин! Да этот мужик один станет за всех!»; «Ведь вот какой народ!»
6. Озадаченный его внезапным артистизмом («Мне кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия»), покупатель, однако, возвращает разговор на почву настоящего положения дел. Обходя молчанием скользкую тему души, он снова напоминает, что «это все народ мертвый» и что на деле Собакевич рекламирует сейчас именно трупы, не имеющие решительно никакой денежной ценности: «Мертвым телом хоть забор подпирай».
7. Тогда Собакевич использует уничижительную метафору, которая приближает сегодняшних никчемных людей к нежити – а не мертвых к живым, как было у него раньше; в любом случае, этот прием, сопряженный с канцеляризмом, почти что уравнивает их между собой. Его коммерческий напор возвращается как бы с обратной стороны: «Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди».
8. Дезавуируя торгово-поэтический пафос собеседника, Чичиков переводит разговор в другую плоскость, где те же мертвые души – всего лишь ничто (то есть «несуществующие», по его прежнему определению), в отличие от этих убогих людей: те все же «существуют, а это ведь мечта».
9. В ответ Собакевич в заключительном приступе коммерческого вдохновения вновь актуализирует дивную мощь покойников: «Нет, это не мечта!»
Как бы то ни было, усопшие продолжат свое авантюрно-фантасмагорическое существование в ином, уже сдвоенном универсуме – одновременно потустороннем и здешнем: в том гипотетическом и потому безграничном мире, который созидался для них и в рекламных песнопениях Собакевича, и в последующих грезах самого Чичикова, проводящего смотр всем купленным душам, зачитывая их имена. В его творческих домыслах, намного более размашистых, чем «театральное представление», разыгранное Собакевичем, зерном их красочных биографий становится некая элементарно-психологическая константа, удержанная в «неосязаемом чувствами звуке». Для этого жизнетворно-загробного эпоса ценна любая подробность – и воображаемая, и настоящая, годится любая зацепка: «Каждая из записочек имела какой-то особенный характер, и чрез то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер». – Следует обширная панорама таких «характеров», воплощенная в серии микросюжетов.
Пресловутые алогизмы, которыми изобилует гоголевское творчество и которыми еще столетие с лишним назад занимался в Гельсингфорсе И. Мандельштам, сами по себе здесь мало что объясняют. В «Вие» даны разговоры, почти неотличимые от концовки «Носа» (см. ниже) и все же чрезвычайно многозначительные в своей акцентированной бессмыслице:
– И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем, – то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает что. Вот что!
Ср. далее беседу Хомы Брута с казаками о «соразмерном экипаже», в котором его везут потом на роковой хутор к мертвой панночке:
…Любопытно бы знать, – сказал философ, – если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром – положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней?
– Да, – сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, – достаточное бы число потребовалось коней.
Мы твердо ощущаем, что есть нечто общее между этим набором несуразицы и теми потусторонними сферами, которые потом во время ночной скачки на прекрасной панночке разверзаются перед малоосмысленным взором бурсака; но в чем именно заключается эта близость, установить трудно. Ясно лишь, что полнейшей неопределенности значений, предполагаемых пустым диалогом, соответствует бесконечность или, скорее, нелокализуемая широта ночных метаморфоз[127 - См. замечание Лотмана: «В космическом мире „Вия“ человек не может существовать потому, что здесь сняты все пограничные столбы и все качества амбивалентны» (Лотман Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. Таллин: Александра, 1992–1993. Т. 1. С. 437).], гибельных для Хомы. Абсурдизм реплик – как бы семантический ноль повести, который разлагается на ошеломляющий плюс – неимоверно-страшную красоту юной ведьмы и на такой же минус: ее загробное окружение в церкви; и рай ночного ландшафта, и трупная преисподняя сюжета равно невыносимы для героя, но равно открыты для его пустого сознания.
Общеизвестным катализатором для спонтанно саморазвивающейся фантастики в гоголевской прозе 1830-х годов служат досужие разговоры и сплетни. Не мешает, однако, внимательнее присмотреться к их модальному устройству. Ведь эти заведомо не верифицируемые слухи обычно имеют под собой все же какую-то минимальную – нулевую или, точнее, почти нулевую – основу, какой-либо коллективно-безымянный или же персонифицированный источник. Зачатый им фантом истины разрастается в нескончаемую круговерть призраков, отпущенных на сюжетный простор, – и тогда к базовой «несбыточности» «Носа» прибавляются другие «нелепые выдумки», по выражению негодующего резонера. Происходит нечто подобное тому, что мы наблюдали в споре Чичикова с Собакевичем: нужен лишь минимальный, порой чуть заметный толчок для головокружительных виражей мнимого бытия.
В концовке «Носа» мы встречаем подборку благонамеренных, но озадаченно-недоговоренных рассуждений. Безотносительно к эпатажному раздвоению рассказчика автокомментарий к поведанной им «истории» смещается в ту же семантическую зону неисследимых несуразностей, что и сам сюжет:
Но что страннее, что непонятнее всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это…
С другой стороны, тонко градуированное затем размышление о «неправдоподобности» действия – взамен полнейшей его невозможности – парадоксально придает содержанию налет достоверности. В размытой ауре финального ретрокомментария совершенно немыслимое, логически нулевое «происшествие» фактически повышается в модальном статусе:
Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появленье его в разных местах в виде статского советника, – как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе <…> Неприлично, неловко, нехорошо!
(Следует недоумение и по поводу того, как, собственно, «нос очутился в печеном хлебе» у цирюльника.) Гоголь как бы заговаривает, усыпляет внимание читателя, отвлекая его от того, что «сверхъестественное», слитое с рядовой «странностью», тем самым получает и определенное право на существование. Иначе говоря, здесь, в концовке повести, взрывное разрушение реальности прикровенно легитимизируется благодаря его простому соположению с куда менее шокирующим ее подрывом – нарушением социально-этикетных условностей. Практически так же строится, однако, и весь сюжет повести с ее зачином насчет «необыкновенно странного происшествия»; но в заключительных ее строках прием педалирован:
А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже… ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но бывают.
Что означает в этой осыпи невнятных догадок фраза: «И где ж не бывает несообразностей»? К чему тут относится слово где – к огрехам сочинения или к самой действительности? В возможности их смешения уже зреет и будущая вера творца «Мертвых душ» в прямое слияние его текста с жизнью и, соответственно, в способность автора создавать ее заново. Но в разбираемой повести нам интересна прежде всего техника модальных подмен. Как мы только что видели, в последнем ее абзаце абсолютно невероятное допущение объявлено всего лишь маловероятным («редко, но бывают»), что сразу приобщает его к теоретически возможным событиям – со всеми их бесчисленными вариациями.
Все эти приключения многоликого ничто – общий принцип гоголевской поэтики. Не только в «Носе» и «Мертвых душах», но и в ряде других произведений, например в «Ревизоре», сюжет или вводный микросюжет в модальном аспекте сводится к вещественной реализации того, чья реальность близка к нулю, а вернее, таковым и является; а при ином сюжетном раскладе этот исходный нуль, в свою очередь, оборачивается потенциальной бесконечностью.
В сознании Гоголя едва совместимые между собой онтологические уровни, разноплановые слои фабульного бытия, сосредоточенные в одном и том же сюжете, могут обладать и принципиально разным временем, причем одно время, как было в тирадах Собакевича, переходит или даже перескакивает в совершенно другое. В «Заколдованном месте» разозлившийся дед бранит дьявола, который над ним потешается: «А, шельмовский сатана! чтоб ты <…> еще маленьким издохнул, собачий сын!» Пожелание высказывается, так сказать, ретроактивно, словно оно имеет обратную силу. Вероятно, минувшее просто сосуществует рядом с настоящим – подобно тому, как, по наблюдению Лотмана, и здесь, и в других повестях «Вечеров…» бок о бок сосуществуют различные пространства – дневные и ночные, обычные и сказочно-игровые[128 - См.: Лотман Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. Таллин: Александра, 1992–1993. Т. 1. С. 420–421.].
Посредством слухов похождения ковалевского носа уже по завершении основного сюжетного действия опрокидываются назад, в некую прафабулу, которая на годы предшествует «необыкновенно странному происшествию», запечатленному в повести:
Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там, что когда еще проживал там Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы.
Повсеместно нагнетается у Гоголя череда или особая иерархия фикций, в своем суетливом противоборстве претендующих на истину. Это неисчерпаемое обилие мнимостей может просвечивать и позади нуля, гипотетически уходя в чисто отрицательный резерв реалий, которые заведомо не подлежат ни малейшей конкретизации. В «Ревизоре» слуга городничего Мишка спрашивает Осипа, не генерал ли его барин, а тот отвечает: «– Генерал, да только с другой стороны. – Что ж, это больше или меньше настоящего генерала? – Больше». Примеры столь же невообразимой, но при этом, так сказать, позитивной проекции за грань ничто мы находим и в эпизодически-бытовых мизансценах «Мертвых душ». В одной из них хронически растроганный Манилов с восторженным умилением заверяет Чичикова: «Вы всё имеете, даже еще более». Как было и в «Ревизоре», реплика, конечно, рассчитана автором на комический эффект – но в обоих случаях за ним таятся неразрешимые модальные парадоксы. Что это, собственно, значит, – более, чем всё? Мнимое достояние Чичикова, то есть нуль или почти нуль, соскальзывает в сферу, распахнутую для любых домыслов.
Нивелированно усредненный, внешне тоже как бы нулевой типаж самого героя именно в силу этой стертости набирает в сплетнях динамическую поливалентность, которая вовлекает его тщательно обезличенный образ в турбулентную зону мифических превращений, уводящих в некую подлинную «тайну». Метод переносится Гоголем и на лирические пассажи поэмы. Для этих колдовских метаморфоз пригоден почти нулевой повод, микрозаряд рутинного быта – и тогда убогая бричка преображается в грозную птицу тройку, взмывающую в сакральные эмпиреи национального духа, а почти безвидное в своей смиренном ландшафтном минимализме равнинно-нулевое пространство земной Руси размыкается неоглядной небесной утопией платоновского типа и, в пророческих чаяниях, столь же «бесконечной мыслью».
В «Мертвых душах» смешивается модальный статус наличного бытия, воплощенного в тех или иных преходящих особях, – и всего сообщества, которое именно как целое не может умереть. Сама гибель индивида подтверждает это бессмертие, – и возникает поразительная синхронизация обоих планов: «Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью!» – заключает Чичиков по поводу одной из купленных душ. Перед нами вместе с тем именно тот «мертвый народ», что был упомянут им в споре с Собакевичем. В поэме представлена вся технология модальных метаморфоз и самой сотериологической дидактики Гоголя: возможное или всего лишь условно допустимое стремительно совершает экспансию в царство столь же иллюзорной действительности – в том числе во второй том книги и публицистику позднего Гоголя. Выдуманный Костанжогло обретет подлинную плоть в грядущей России, когда ее воскресит и преобразит сам автор.
С другой стороны, в неисследимой метафизической перспективе какое-то неприметное семя земного события или проступка на том свете способно прорасти чащобой инфернальных ужасов. В своем Завещании, предпосланном было «Выбранным местам из переписки с друзьями», Гоголь восклицает:
Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы посеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся…
Зачастую эти полярные понятия – ничто и потенциальная бесконечность – у Гоголя меняются местами, ибо встречный процесс обращает вполне осязаемое явление в нечто эфемерное, небытийное. В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович и Иван Никифорович» хрестоматийным примером глобального разрастания вздора, «гусака» служит весь сюжет с его копеечными, но бурными и нескончаемыми «страстями»; а примером обратного умаления в ноль – картина того, как бессмысленные позывы съедают жизнь без остатка. В обоих случаях перед нами нулевой мир, гальванизируемый психическими импульсами – «задорами», по гоголевскому определению, в 1938 году подхваченному в Германии Д. И. Чижевским[129 - Чижевский Д. И. О «Шинели» Гоголя // Современные записки. Т. LXVII. Париж, 1938. C. 189–190; см. также: Tschizewskij D. Skovoroda – Gogol // Die Welt der Slaven. 1968. Jahr. XIII. H. 1. S. 322–323.]. Вторя, по сути, Чижевскому (не упомянутому им по актуально-политическим резонам), П. М. Бицилли в послевоенной статье, напечатанной им в Софии, предпочитает – в основном, на материале «Шинели» – говорить уже об «идее» гоголевского персонажа как «толчке», получаемом им обычно извне и разрастающемся затем в целый «комплекс»[130 - Бицилли П. М. Проблема человека у Гоголя (1947–1948) // Бицилли П. М. Избранные труды по филологии. М.: Наследие, 1996. С. 552–553.]: понятие, позаимствованное им, видимо, у раннего К. Г. Юнга.
Среди прочего в повесть о двух Иванах включен и кумулятивный рассказ о бытии человека, которое самым наглядным, вещественным образом съеживается в фикцию благодаря очередному такому «задору» или «идее» – страсти к обменам:
Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде, на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил тройку гнедых лошадей и небольшую бричку, в которой он разъезжал гостить по помещикам. Но <…> Антон Прокофьевич их променял на скрыпку и дворовую девку, взявши в придачу двадцатирублевую бумажку. Потом скрыпку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет сафьянный с золотом. И теперь у него такой кисет, какого ни у кого нет.
Дом заменен кисетом, ничем.
Иногда обе кумулятивные тенденции – позитивная и противоположная ей, стремящаяся к нулю, – могут непосредственно накладываться друг на друга. Такую картину мы встречаем в огромном «декламационно-патетическом периоде» «Шинели», который некогда привлек внимание Б. Эйхенбаума «комическим несоответствием между напряженностью синтаксической интонации <…> и ее смысловым разрешением»[131 - Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. М. О прозе: Сб. статей. Л.: Худож. лит., 1969. С. 316.]. Приведу этот пассаж с сокращениями:
Даже в те часы <…> когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто <…> идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты <…> Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению.
Поступательному нарастанию риторической энергии тут контрастно сопутствует убывающая арифметическая прогрессия как симптом убывания самого смысла – практически до нуля.
Имитация осмысленности нередко проводится буквально на пустом месте, посредством гипнотической суггестии, и тогда ничто принимает оттенок какого-то псевдозначения. В «Женитьбе» Кочкарев убеждает нерешительную Агафью Тихоновну выбрать в мужья Подколесина, с воодушевлением акцентируя само его имя и отчество, – в противовес презрительно отвергаемым у него, хотя и столь же расхожим именам других претендентов:
Да вы только посудите, сравните только: как бы то ни было, Иван Кузьмич; а ведь то что ни попало: Иван Павлович, Никанор Иванович, черт знает что такое!
В предисловии к одному из изданий «Повести о том…» говорилось:
Долгом почитаю предуведомить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени. Притом оно совершенная выдумка. Теперь Миргород совсем не то.
Короче, все, как в присловье, – «это было давно и неправда»; и тем не менее это именно «правда», судя по последней фразе – про теперешнее «не то», за которой сразу идут утешительные заверения насчет уже высохшей лужи и улучшения местного чиновничества. Важна опять-таки модальная подоплека этого смыслового хода. В комической оболочке еще тогда дала себя знать и гоголевская установка на взаимоотождествление недолжного как с несуществующим, так и с мертвым (а в трагедийно-пафосном плане, например в «Портрете» и «Вие», – прямая корреляция между сверхбытием и смертью). Ибо в своем существе гоголевский Миргород столь же мертв, сколь ахронен, – и автор охотно обыгрывает эту его сущностную мертвечину, незаметно для читателей переводя ее из метафорического плана в онтологический. Как я пытался доказать в книге «Сюжет Гоголя», Миргород у него, подобно Петербургу в «Шинели», действительно населен мертвецами – в самом что ни на есть буквальном, а не переносном смысле слова[132 - Вайскопф М. Сюжет Гоголя. С. 340.].
Налицо прием, симметричный тому, что мы уже видели в гораздо более поздних «Мертвых душах» с их игрой на непостижимой взаимосвязи «мертвого» и «несуществующего», прорастающих новой жизнью. Алчность Собакевича в сочетании с его неуклюжим и казусным богатырством расцвела там загробным эпосом, а остатки человеческих чувств – залог грядущего воскресения личности – побудили меркантильнейшего Чичикова мысленно оживить покойных крестьян.
Напрашивается, однако, вопрос: а чем, собственно, воспетое там посмертное инобытие этих крепостных мужиков по модальному статусу отличается, с одной стороны, от загробных скитаний Акакия Акакиевича, а с другой – от подземного бодрствования трупов «Страшной мести»? С ходячим покойником из «Шинели» их роднит уже мстительность, и тем же точно порывом охвачены могильные чудища «Вия», которые выходят из неведомых глубин лишь для того, чтобы покарать героя. Но имеются и другие психические факторы, приводящие мертвецов в движение.
Менее мрачным стимулом для взаимодействия, а потом и воссоединения нашего и потустороннего миров служит рутинно-житейская сцепка старосветских помещиков, со стороны Пульхерии Ивановны согретая зато трогательной заботой о муже. Поначалу Афанасий Иванович просто не понимает, что она умерла, не осознает, что такое смерть: «Так это вот вы уже и погребли ее! зачем?» Но затем его поражает само отсутствие покойной. Именно и только этим чувством отсутствия обусловлены его первичные реакции: «он зарыдал, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул… был вынесен». Позднее аналогичным восприятием небытия отмечен будет взгляд заезжего повествователя, который в его комнатах тоже фиксирует «какое-то ощутительное отсутствие чего-то»[133 - Ср. противоположный ход в истории Шпоньки. Герой, которого собираются женить, поражен самой мыслью о том, что «он не один будет жить в своей комнате, но их должно быть везде двое!..»].