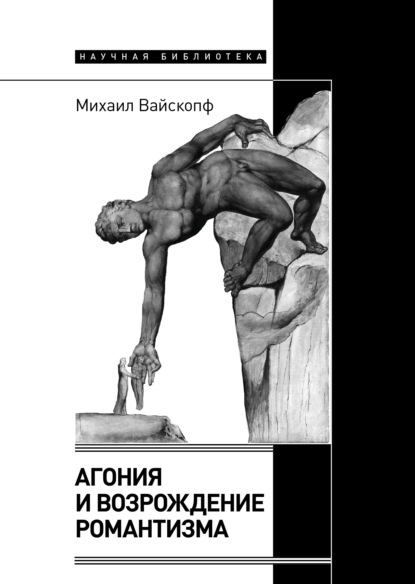По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Агония и возрождение романтизма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Некоторую парадоксальность ситуации сообщает то обстоятельство, что и в благополучные годы ментальное, так сказать, существование самого Афанасия Ивановича тоже равнялось нулю. Тем сильней его неизбывное горе:
Боже! <…> старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное движение души <…> и такая долгая, такая жаркая печаль!
Единственной силой, ранее удерживавшей его в нашем мире, была «почти бесчувственная привычка» – она-то в конце концов и побеждает разлуку. Точнее будет сказать, что одно небытие сперва переходит в другое, бесчувственная привычка – в чувство отсутствия; а затем нераздельные узы переносятся в иной мир, где супруги счастливо воссоединятся.
Здесь ценна как раз полнейшая разнородность приведенных сюжетов, ибо сшивающий их принцип лучше помогает уяснить глубинную поэтику Гоголя, чем его переменчивые настроения или даже религиозная эволюция. Общим оператором для повествований об этом двойном – земном и подземном – бытии предстает все тот же примитивный и неодолимый психический импульс.
Совершенно безотносительно к идеологической составной гоголевских текстов высвечивается какая-то внутренняя связь между тем набором негативных формул, на которых, как продемонстрировал Андрей Белый в классической книге «Мастерство Гоголя», строятся, с одной стороны, показ колдуна в «Страшной мести» и «фигура фикции» в «Мертвых душах»[134 - Белый Андрей. Мастерство Гоголя. Исследование. М.; Л., ОГИЗ, 1934. С. 57–68, 80–87.], а с другой – венчающий поэму отрицательный ландшафт Руси, устремленной в бесконечность: «Ничто не обольстит и не очарует взгляда…»; «Не в немецких ботфортах мужик…», и т. п.[135 - Вайскопф М. Отрицательный ландшафт: имперская мифология в «Мертвых душах» // Вайскопф М. Птица тройка и колесница души. Работы 1978–2003 гг.: М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 219–233.]
Есть, наконец, еще одна проблема, которая уже многократно обсуждалась противниками писателя, в том числе таким ярым его врагом, как Розанов. Зыбкость модального статуса, несомненно, сопряжена у Гоголя и с повсеместной у него текучестью соотношения «живое – неодушевленное», то есть с его знаменитой методой овеществления, «оскотинивания» людей – или же, напротив, встречного очеловечивания животных, предметов, всей природы. Поэтому подобие обособленного, автономного существования у него может получить что угодно – включая нос, покинувший своего обладателя. Для подтверждения этого «что угодно» приведу два примера из «Миргорода», казалось бы, совсем иного рода и вдобавок сильно разнящиеся между собой. В «Тарасе Бульбе» старый казак Касьян Бовдюг возвещает: «– А теперь послушайте, что скажет моя другая речь. А вот что скажет моя другая речь…» Получается, что «речь» как бы отделяется от оратора – и почти что персонифицируется на манер ковалевского носа. Но если тут означен высокий аспект приема, то в повести о двух Иванах автономизации сопутствует травестия. Судья убеждает Ивана Ивановича отозвать иск против его бывшего друга: «– Бога бойтесь! бросьте просьбу, пусть она пропадает! Сатана приснись ей!» Чем эта подразумеваемая одушевленность вздорной «просьбы» отличается от обособленной персонификации пафосной «речи»? Утверждать, что перед нами всего лишь троп, бессмысленно: вопреки школьным шаблонам, пустых тропов не бывает, они всегда говорят о чем-то большем.
Если увязать эту упорную склонность Гоголя к анимизации вещи с его пресловутым антипсихологизмом (который он, при всех своих стараниях, так и не сумел одолеть), общая метафизическая разгадка полярных сторон его творчества должна будет, вероятно, состоять в следующем. Мир со всеми его реалиями у него и впрямь наделен душой или, по крайней мере, несет в себе потенции одушевления, что в принципе уравнивает его предметную фактуру с людьми, – и наоборот. Оттого портной Петрович смотрит шинели «прямо в лицо», а Акакий Акакиевич видит в ней «приятную подругу жизни». Коль скоро сами вещи не лишены витального заряда, им не обделены и мертвецы, а сама граница между смертью и жизнью так легко стирается. Доминирующее психическое начало у героев может быть чисто физиологическим и убогим, реже – трогательным, как у Башмачкина, иногда страшным, как у панночки в «Вие», подчас даже «мертвым» или закрытым «толстою скорлупою», как у Собакевича. В любом случае это их душа в базово-архаичном значении слова, воспринятом ап. Павлом и гностиками, то есть сама жизненная субстанция, включающая в себя и элементарные страсти («задор» по Чижевскому, «идея» по Бицилли), которые прикрепляют ее к низшим формам бытия, к царству плоти, вещей и житейской тщеты. Ей противостоит дух, пневма как сакральная сущность индивида. Но у Гоголя она остается лишь достоянием самого художника[136 - В случае, например, Собакевича («Казалось, в этом теле совсем не было души…») под отсутствующей душой Гоголь, путавшийся в терминологии, подразумевал как раз дух. Любопытно, что отмеченную нами дихотомию имеющейся души и фатально отсутствующего духа уловил было славянофил Орест Миллер в своей статье о Гоголе: «Загляните только в душу Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, и никакой уже тени какого-либо духовного задатка вы у них не найдете». (Но там же он возвращается к более привычной формуле: «Души в этом мире даже и не полагается».) – Миллер О. Ф. Славянство и Европа. М.: Ин-т русской цивилизации, 2012. С. 734, 742.], запечатленной им в сферах нуминозного и прекрасного.
Цитируя апостольское речение «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» применительно к его персонажам, допустимо будет сказать, что в них этот посев так и не взошел. Может быть, здесь лежит объяснение и гоголевской гениальности, и его горестного надлома.
2019
«Значительное лицо» в версии Льва Толстого,
или гоголевский след в «Войне и мире»
К числу наиболее прославленных литературных новшеств Л. Н. Толстого относится его способ объяснять и грандиозные исторические решения, и многие сюжетные коллизии не рациональными соображениями рефлектирующих героев, а их спонтанной, зачастую случайной и хаотической реакцией на явления, которые развертываются словно сами по себе, помимо их воли. Отсюда вовсе не вытекает, однако, будто этот фаталистический подход лишен логических предпосылок – но для действующих лиц они состоят обычно в том или ином неодолимом эмоциональном импульсе, лишь подыскивающем для себя рациональную мотивировку, – а последняя, в свою очередь, может стимулировать дальнейшее поведение персонажа или дать ему новое направление. Как давно уже показал Виктор Шкловский в новаторском исследовании «Материал и стиль в романе Толстого „Война и мир“», этот прием активно использовался автором в его неустанной полемике с бесчисленными оппонентами – например, с военными историками по поводу кампании 1812 года. Можно было бы дополнить эти наблюдения и демонстрацией той изощренной техники «полуправды», которую использует автор, живописуя Москву в начале сентября, накануне пожара, в те часы, когда ее покидают войска и начальство, а в городе, охваченном смятением, бесчинствуют мародеры. Писатель выказывает здесь настоящие чудеса стилистической эквилибристики, нащупывая собственную позицию в процессе маневрирования между официозной трактовкой событий и хорошо известными ему фактами.
Однако в данном сообщении нас занимает только одно историческое событие, выхваченное автором из картины московского хаоса и получившее у него глубокий религиозно-психологический смысл. Я подразумеваю те места книги, где описаны расправа московского главнокомандующего графа Ростопчина над молодым купцом Верещагиным, брошенным на растерзание толпе, и последующее раскаяние графа.
Напомню, что Верещагин был уличен в распространении пронаполеоновской декларации. С социально-исторической точки зрения в чрезвычайно сумбурном и противоречивом раскладе 1812 года преступный купец как бы представительствовал от грядущего, но так и не сложившегося в России либерального третьего сословия, на поддержку которого тщетно надеялись французы в своих административных реформах на занятых ими территориях. Автор «Войны и мира», тогда еще остававшийся убежденным консерватором, уходит, естественно, от этого неприятного ему политического аспекта темы и заменяет его христианско-моралистической проблематикой, сопряженной с гибелью Верещагина.
Соответственно дворянской историографии, народные волнения, охватившие город, стилизованы Толстым под пушкинский «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». В Наполеоне дворянское сословие, как известно, видело нового Пугачева и больше всего боялось, что он освободит крепостных, подстрекая их к всероссийскому мятежу, – чего, однако, французский император делать вовсе не собирался; более того, на занятых им территориях он подавлял крестьянские восстания против помещиков, защищая их от крепостных, грабивших имения. В московских сценах романа тем не менее народные волнения ограничены заведомой готовностью масс подчиниться всемогущему начальству: «Куда идет народ? – Известно куда, к начальству идет»; «Разве без начальства можно?»
Однако такая покорность налагает и особую нравственную ответственность на сами власти, неудачно воплощаемые графом Ростопчиным. Московское дворянство, вообще говоря, терпеть его не могло, поскольку не простило ему поджога города (руками выпущенных колодников), постоянной лжи и чудовищной бестолковщины во время бегства от Наполеона. Толстой от всей души разделял эту вражду. Он охотно подчеркивал нелепость его распоряжений: так, Ростопчин в панике оставил врагу запасы оружия, боеприпасов и хлеба. Зато другим, уже совершенно целенаправленным действиям графа – например, вывозу всех документов из присутственных мест, освобождению заключенных из тюрем, а сумасшедших из больниц – автор приписывает характер чисто окказиональных, импульсивных порывов. Какой-то уклончивой скороговоркой у Толстого подана и подготовка Ростопчина к уничтожению Москвы, включая сожжение им речных барок и вывоз пожарной команды (заодно, кстати, было вывезено или уничтожено все противопожарное оборудование); эти вполне продуманные шаги замаскированы под простую нервозность рассерженного человека: «Не французам оставлять» (6: 385)[137 - Здесь и далее все цитаты из романа приводятся с указанием тома и страницы в скобках по изданию: Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. М.: ГИХЛ, 1960–1965. Т. 6.], – бросает он в сердцах.
Психологический облик генерал-губернатора в целом выглядит образчиком раздраженного нарциссизма, а его поведение – хаотической мешаниной случайных порывов или капризов, лишенных человеколюбия и осмысленной заботы о будущем города. Разъяренной толпе он бросает на растерзание несчастного купчика – только для того, чтобы ей потрафить и выгородить самого себя. Вину за сдачу города и за собственный провал он возлагает на Верещагина: «Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва» (6: 388). Толпа, пока что непривычная к зверствам, поначалу колеблется, но Ростопчин отдает ей прямой приказ о расправе: «Бей его!.. Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! <…> Руби! Я приказываю!» (6: 390). У Толстого получается, что жертву лишает жизни как бы сам голос начальника, магическому звучанию которого внимает завороженный народ. «Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Ростопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась», – и тогда Верещагин робко напоминает ему о справедливости и милосердии: «Граф, один Бог над нами…» – но тот снова кричит: «Руби его! Я приказываю!..» (6: 390) – и Верещагина наконец забивают насмерть.
Религиозная подоплека этого сюжета во многом предвещает дальнейшую моралистическую эволюцию писателя. Тем значимее, что в данном случае портрет жалкого мученика – хилого «молодого человека» с обритой головой – взывает одновременно и к религиозно-филантропической традиции «маленького человека», канонизированной Гоголем в повести «Шинель» (1842). На мой взгляд, Толстой здесь воспроизводит центральные символические мотивы повести, где смиренного чиновника убивает именно акустический эффект – генеральский рык «одного значительного лица», самодура, который, упиваясь собственной властью, «возвел голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно». Любопытно, кстати, что вельможное «распеканье» включало в себя и обвинение в «буйстве… против начальников и высших», отчасти актуализированное у Толстого.
Прямым итогом «распеканья» оказалась, как известно, кончина Акакия Акакиевича, а затем – его загробные блуждания и встреча со значительным лицом. Вместе с тем у Толстого в укоризненных словах Верещагина: «Граф, один Бог над нами…» – как бы отсвечивает и знаменитая реплика Башмачкина: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – в которой его гуманному молодому сослуживцу «долго потом» слышались «проникающие слова» бедного чиновника: «Я брат твой» (III: 144)[138 - Цитаты с указанием тома и страницы в скобках даны по изданию: Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. III.].
У Гоголя этим пассажем задан и мотив неглубокой, но все же обнадеживающей нравственной эволюции, которую претерпевает значительное лицо. Напомним, что после ухода ошеломленного посетителя генерал «почувствовал что-то вроде сожаления <…> И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья». Узнав о его смерти, значительное лицо «остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе» (III: 171). Чтобы развеяться, он отправляется на санях в гости, а потом, уже вполне успокоившись, – к любовнице. Безотчетно приятному его настроению мешает только резкий порывистый ветер, который швыряет в лицо снегом. Тогда-то, «пахнувши… страшно могилою», и появляется мстительный мертвец, который наводит на генерала смертельный ужас: «Бедное значительное лицо чуть не умер» (III: 172). Нравственным итогом повести становится минималистский вариант этического катарсиса: «Это происшествие сделало на него сильное впечатление», – и с тех пор генерал стал вести себя более человечно и «даже гораздо реже» стал распекать подчиненных (III: 173).
У Толстого динамика раскаяния и моральной кары развертывается по сходной модели (хотя психологическая гамма у него, конечно, гораздо богаче, чем в «Шинели»). Сразу после гибели Верещагина Ростопчин «вдруг побледнел» и утратил самообладание. В смятении он торопливо отправился в свой загородный дом, вспоминая по дороге о случившемся и раскаиваясь поначалу в собственном поведении. «„Граф! один Бог над нами!“ – вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Ростопчина» (6: 392). Но чувство это вскоре проходит, а мысли переключаются на самооправдание. «Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился» (6: 393), – подобно значительному лицу из «Шинели».
Затем через пустынное поле он едет к Кутузову, «уже не вспоминая о том, что было, и соображая только о том, что будет». По дороге Ростопчин встречает выпущенных им на волю сумасшедших в белых одеждах (то есть цвета снега, который забрасывал в пути значительное лицо). Один из них, с «сумрачным и торжественным лицом», бежал наперерез коляске Ростопчина, «шатаясь на своих длинных худых ногах, в развевающемся халате <…> „Стой! Остановись! Я говорю!“ – вскрикивал он пронзительно <…> Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом». Грозный безумец словно бы представительствует от погибающего и воскресающего Спасителя, воплощением которого он себя считает: «Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили камнями, распяли меня… Я воскресну… воскресну… воскресну…» (6: 394). Иначе говоря, Толстой в этой сцене, по сути дела, выводит наружу евангельский аллюзионный заряд, исподволь накопленный в повести Гоголя. Филиппики толстовского обвинителя явственно согласуются и с масонско-пиетистскими представлениями, изначально родственными обоим писателям: в каждом человеке таится «распятый Христос», который воскресает в делах милосердия и братолюбия.
Безумец функционально замещает призрак Башмачкина, восставшего из могилы, чтобы обличить своего губителя. Соответственно, реакция графа соединяет в себе ужас значительного лица с совестливостью гуманного «молодого человека» в «Шинели», из чьей памяти не выходит образ затравленного Акакия Акакиевича. У Гоголя охваченный страхом генерал «закричал кучеру не своим голосом: „Пошел во весь дух домой!“ Кучер <…> замахнулся кнутом и помчался, как стрела» (III: 173).
У Толстого мы здесь читаем:
Граф Ростопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся.
– Пош… пошел скорее! – крикнул он на кучера дрожащим голосом.
Коляска помчалась во все ноги лошадей (6: 395).
И затем:
Но долго еще позади себя граф Ростопчин слышал отдаляющийся безумный, отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно-испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике <…> Как ни свежо было это воспоминание, Ростопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить это страшное воспоминание в его сердце (6: 395).
Ср. в «Шинели»:
И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья… (III: 144).
Приведенные примеры, думается, свидетельствуют о том, что пресловутая апокрифическая максима Достоевского – «все мы вышли из „Шинели“ Гоголя» – нуждается во внимательной проверке и применительно ко Льву Толстому.
2013
Женские образы в «Войне и мире» и русская проза 1830-х годов
Зависимость толстовского творчества от английского семейного романа и вообще от английской бытоописательной прозы хорошо изучена. С этой литературой Толстого связывали и его масонские притяжения[139 - См. обстоятельную работу С. Шаргородского: «Всяк из нас должен быть Бемом…» (Масонский текст «Войны и мира») // Лев Толстой в Иерусалиме: Материалы научной конференции «Лев Толстой: после юбилея». М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 177–176. Более скептическую позицию на этот счет занял В. Паперный: Лев Толстой и мистицизм // Там же. С. 159–172. Моя статья, предлагаемая сейчас вниманию читателя, вышла в том же сборнике.], и общая предрасположенность к протестантскому домостроительству.
Он не был, однако, первым русским писателем, обратившимся к британской традиции. Еще в романтический период его предшественником оказался Бегичев, автор пространного – вышедшего в шести частях – нравоучительного сочинения «Семейство Холмских» (1832), которое снискало весьма широкую популярность и при жизни автора дважды переиздавалось.
Отрицательным персонажам, одержимым пагубными и разорительными страстями, Бегичев противопоставляет героев, которые упорно сражаются со своими грехами или недостатками. Борьба развертывается по масонским инструкциям Франклина, согласно его методу каждодневного самоконтроля и планомерного очищения души от пороков – методу, чрезвычайно близкому Толстому. У Бегичева даже приводится, в качестве практического руководства, полный текст знаменитой «молитвы Франклина», содержащей его «правила». Юному герою соответствующие наставления дает мудрая мачеха, почитательница Франклина, принимающая на себя функции масонской вожатой. Еще прозрачнее выглядит масонский генезис книги в ее главной аллегорической линии – финальной женитьбе героя на вдумчивой и прекрасной девушке по имени София, которую автор шутливо величает «профессором премудрости».
В заостренно полемическом предисловии к «Семейству Холмских» Бегичев язвительно перечислил черты, кардинально отличающие его героев и все сюжетные перипетии от истерично-романтических клише. Перечень подытожен сентенцией:
И чем все это кончилось? Влюбленные мои, как мещане, сочетались законным браком и поселились жить в деревне! Вообще, все похождения, как их, так и других действующих лиц моих, не представляют решительно ничего романтического[140 - Бегичев Д. Н. Семейство Холмских. Ч. 1. Указ. соч. С. XXV.].
Подобные тирады могли только импонировать создателю «Войны и мира», завершившему приключения Пьера и Наташи браком со всеми его житейскими передрягами и заботами. Вообще же Толстой настолько любил «Постоялый двор», что даже содействовал его новому, сокращенному переизданию.
Между тем уже в 1834 году Греч уличил Бегичева в подражании некоему – правда, не названному критиком – английскому роману, а вернее сказать, в прямом плагиате[141 - Греч Н. Письмо в Париж к Я. Н. Толстому // Библиотека для чтения. 1834. Т. 1. С. 169.]. Однако именно эта чрезмерная причастность Бегичева островным канонам, в сущности, и сблизила с ним творчество Толстого[142 - Петрунина Н. Н. Проза второй половины 1820–1830 годов // История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1980–1983. Т. 2. С. 522.]. Англо-масонскую традицию он мог воспринимать не только в ее оригинальном, но и в несколько кустарном отечественном исполнении.
Не менее популярным произведением на сходные темы оказался и многотомный роман Степанова «Постоялый двор», вышедший в 1835-м, вскоре после «Семейства Холмских» и, подобно ему, вскоре переизданный. Его также отличает напряженный интерес к бытовым и нравственным аспектам русской повседневности, которые трактуются здесь с пафосом напористого благомыслия.
Книга представляет собой свод взаимосвязанных событий, скрупулезно отслеживаемых самим повествователем – Горяновым, здравомыслящим консерватором, патриотом, усердным садовником и натурфилософом. Это своего рода руссоист охранительного толка. В центре его внимания – внутрисемейные связи, взаимоотношения поколений, проблемы воспитания. Как и у Бегичева, поучительная хроника подсказана ему все той же практикой масонского наблюдения и самонаблюдения, столь родственной самому Льву Толстому с его монументальным Дневником. С обеими книгами роднит его и неистощимая назидательность. В принципе, тут любопытно было бы проследить и возможную связь толстовской дидактики с эпистолярным наследием известного русского розенкрейцера С. Гамалеи, письма которого дважды издавались в 1830-е годы, практически одновременно с упомянутыми романами. Но этот вопрос лежит за рамками настоящей работы.
Здесь нас интересует только роман Степанова – вернее, лишь одна из линий повествования. К числу его главных героинь принадлежит юная княжна Серпуховская. Ей свойственны одновременно и чрезмерная ученость – увы, сопряженная с опасным вольнодумством, – и необычайная девичья витальность. Последняя имеет прогностически амбивалентное значение, поскольку таит в себе зачатки и ангела, и разнузданной грешницы. Сюжет реализует именно вторую возможность.
Шестнадцатилетнюю девушку отличает почти птичья невесомость и подвижность, увязанная, однако, с излишне свободным и независимым нравом, которому потакает недальновидная родительница. По рассказу одного из гостей,
когда на минуту отлучилась мать, она вскочила на отдаленное кресло, промчалась по ряду мебелей, делая разные балетные па, и перепрыгнула так мастерски через мои колени, что даже не прикоснулась ко мне легким платьем своим; только ветерок махнул за нею, как от крыльев маленькой птички[143 - Степанов А. П. Постоялый двор. Записки покойного Горянова, изданные его другом Н. П. Маловым: В 4 ч. Ч. 2. СПб.: тип. А. Смирдина, 1835. С. 265.].
Своей неуемной прыгучестью героиня с первого своего появления, так сказать, «прообразует» Наташу Ростову. Напомним ее вводный портрет:
В комнату вбежала 13-летняя девочка, запахнув что-то короткою юбкою, и остановилась посередине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко.
И далее:
Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детски открытыми плечами <…> оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была уже в том возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка <…> Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.
Боже! <…> старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное движение души <…> и такая долгая, такая жаркая печаль!
Единственной силой, ранее удерживавшей его в нашем мире, была «почти бесчувственная привычка» – она-то в конце концов и побеждает разлуку. Точнее будет сказать, что одно небытие сперва переходит в другое, бесчувственная привычка – в чувство отсутствия; а затем нераздельные узы переносятся в иной мир, где супруги счастливо воссоединятся.
Здесь ценна как раз полнейшая разнородность приведенных сюжетов, ибо сшивающий их принцип лучше помогает уяснить глубинную поэтику Гоголя, чем его переменчивые настроения или даже религиозная эволюция. Общим оператором для повествований об этом двойном – земном и подземном – бытии предстает все тот же примитивный и неодолимый психический импульс.
Совершенно безотносительно к идеологической составной гоголевских текстов высвечивается какая-то внутренняя связь между тем набором негативных формул, на которых, как продемонстрировал Андрей Белый в классической книге «Мастерство Гоголя», строятся, с одной стороны, показ колдуна в «Страшной мести» и «фигура фикции» в «Мертвых душах»[134 - Белый Андрей. Мастерство Гоголя. Исследование. М.; Л., ОГИЗ, 1934. С. 57–68, 80–87.], а с другой – венчающий поэму отрицательный ландшафт Руси, устремленной в бесконечность: «Ничто не обольстит и не очарует взгляда…»; «Не в немецких ботфортах мужик…», и т. п.[135 - Вайскопф М. Отрицательный ландшафт: имперская мифология в «Мертвых душах» // Вайскопф М. Птица тройка и колесница души. Работы 1978–2003 гг.: М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 219–233.]
Есть, наконец, еще одна проблема, которая уже многократно обсуждалась противниками писателя, в том числе таким ярым его врагом, как Розанов. Зыбкость модального статуса, несомненно, сопряжена у Гоголя и с повсеместной у него текучестью соотношения «живое – неодушевленное», то есть с его знаменитой методой овеществления, «оскотинивания» людей – или же, напротив, встречного очеловечивания животных, предметов, всей природы. Поэтому подобие обособленного, автономного существования у него может получить что угодно – включая нос, покинувший своего обладателя. Для подтверждения этого «что угодно» приведу два примера из «Миргорода», казалось бы, совсем иного рода и вдобавок сильно разнящиеся между собой. В «Тарасе Бульбе» старый казак Касьян Бовдюг возвещает: «– А теперь послушайте, что скажет моя другая речь. А вот что скажет моя другая речь…» Получается, что «речь» как бы отделяется от оратора – и почти что персонифицируется на манер ковалевского носа. Но если тут означен высокий аспект приема, то в повести о двух Иванах автономизации сопутствует травестия. Судья убеждает Ивана Ивановича отозвать иск против его бывшего друга: «– Бога бойтесь! бросьте просьбу, пусть она пропадает! Сатана приснись ей!» Чем эта подразумеваемая одушевленность вздорной «просьбы» отличается от обособленной персонификации пафосной «речи»? Утверждать, что перед нами всего лишь троп, бессмысленно: вопреки школьным шаблонам, пустых тропов не бывает, они всегда говорят о чем-то большем.
Если увязать эту упорную склонность Гоголя к анимизации вещи с его пресловутым антипсихологизмом (который он, при всех своих стараниях, так и не сумел одолеть), общая метафизическая разгадка полярных сторон его творчества должна будет, вероятно, состоять в следующем. Мир со всеми его реалиями у него и впрямь наделен душой или, по крайней мере, несет в себе потенции одушевления, что в принципе уравнивает его предметную фактуру с людьми, – и наоборот. Оттого портной Петрович смотрит шинели «прямо в лицо», а Акакий Акакиевич видит в ней «приятную подругу жизни». Коль скоро сами вещи не лишены витального заряда, им не обделены и мертвецы, а сама граница между смертью и жизнью так легко стирается. Доминирующее психическое начало у героев может быть чисто физиологическим и убогим, реже – трогательным, как у Башмачкина, иногда страшным, как у панночки в «Вие», подчас даже «мертвым» или закрытым «толстою скорлупою», как у Собакевича. В любом случае это их душа в базово-архаичном значении слова, воспринятом ап. Павлом и гностиками, то есть сама жизненная субстанция, включающая в себя и элементарные страсти («задор» по Чижевскому, «идея» по Бицилли), которые прикрепляют ее к низшим формам бытия, к царству плоти, вещей и житейской тщеты. Ей противостоит дух, пневма как сакральная сущность индивида. Но у Гоголя она остается лишь достоянием самого художника[136 - В случае, например, Собакевича («Казалось, в этом теле совсем не было души…») под отсутствующей душой Гоголь, путавшийся в терминологии, подразумевал как раз дух. Любопытно, что отмеченную нами дихотомию имеющейся души и фатально отсутствующего духа уловил было славянофил Орест Миллер в своей статье о Гоголе: «Загляните только в душу Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, и никакой уже тени какого-либо духовного задатка вы у них не найдете». (Но там же он возвращается к более привычной формуле: «Души в этом мире даже и не полагается».) – Миллер О. Ф. Славянство и Европа. М.: Ин-т русской цивилизации, 2012. С. 734, 742.], запечатленной им в сферах нуминозного и прекрасного.
Цитируя апостольское речение «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» применительно к его персонажам, допустимо будет сказать, что в них этот посев так и не взошел. Может быть, здесь лежит объяснение и гоголевской гениальности, и его горестного надлома.
2019
«Значительное лицо» в версии Льва Толстого,
или гоголевский след в «Войне и мире»
К числу наиболее прославленных литературных новшеств Л. Н. Толстого относится его способ объяснять и грандиозные исторические решения, и многие сюжетные коллизии не рациональными соображениями рефлектирующих героев, а их спонтанной, зачастую случайной и хаотической реакцией на явления, которые развертываются словно сами по себе, помимо их воли. Отсюда вовсе не вытекает, однако, будто этот фаталистический подход лишен логических предпосылок – но для действующих лиц они состоят обычно в том или ином неодолимом эмоциональном импульсе, лишь подыскивающем для себя рациональную мотивировку, – а последняя, в свою очередь, может стимулировать дальнейшее поведение персонажа или дать ему новое направление. Как давно уже показал Виктор Шкловский в новаторском исследовании «Материал и стиль в романе Толстого „Война и мир“», этот прием активно использовался автором в его неустанной полемике с бесчисленными оппонентами – например, с военными историками по поводу кампании 1812 года. Можно было бы дополнить эти наблюдения и демонстрацией той изощренной техники «полуправды», которую использует автор, живописуя Москву в начале сентября, накануне пожара, в те часы, когда ее покидают войска и начальство, а в городе, охваченном смятением, бесчинствуют мародеры. Писатель выказывает здесь настоящие чудеса стилистической эквилибристики, нащупывая собственную позицию в процессе маневрирования между официозной трактовкой событий и хорошо известными ему фактами.
Однако в данном сообщении нас занимает только одно историческое событие, выхваченное автором из картины московского хаоса и получившее у него глубокий религиозно-психологический смысл. Я подразумеваю те места книги, где описаны расправа московского главнокомандующего графа Ростопчина над молодым купцом Верещагиным, брошенным на растерзание толпе, и последующее раскаяние графа.
Напомню, что Верещагин был уличен в распространении пронаполеоновской декларации. С социально-исторической точки зрения в чрезвычайно сумбурном и противоречивом раскладе 1812 года преступный купец как бы представительствовал от грядущего, но так и не сложившегося в России либерального третьего сословия, на поддержку которого тщетно надеялись французы в своих административных реформах на занятых ими территориях. Автор «Войны и мира», тогда еще остававшийся убежденным консерватором, уходит, естественно, от этого неприятного ему политического аспекта темы и заменяет его христианско-моралистической проблематикой, сопряженной с гибелью Верещагина.
Соответственно дворянской историографии, народные волнения, охватившие город, стилизованы Толстым под пушкинский «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». В Наполеоне дворянское сословие, как известно, видело нового Пугачева и больше всего боялось, что он освободит крепостных, подстрекая их к всероссийскому мятежу, – чего, однако, французский император делать вовсе не собирался; более того, на занятых им территориях он подавлял крестьянские восстания против помещиков, защищая их от крепостных, грабивших имения. В московских сценах романа тем не менее народные волнения ограничены заведомой готовностью масс подчиниться всемогущему начальству: «Куда идет народ? – Известно куда, к начальству идет»; «Разве без начальства можно?»
Однако такая покорность налагает и особую нравственную ответственность на сами власти, неудачно воплощаемые графом Ростопчиным. Московское дворянство, вообще говоря, терпеть его не могло, поскольку не простило ему поджога города (руками выпущенных колодников), постоянной лжи и чудовищной бестолковщины во время бегства от Наполеона. Толстой от всей души разделял эту вражду. Он охотно подчеркивал нелепость его распоряжений: так, Ростопчин в панике оставил врагу запасы оружия, боеприпасов и хлеба. Зато другим, уже совершенно целенаправленным действиям графа – например, вывозу всех документов из присутственных мест, освобождению заключенных из тюрем, а сумасшедших из больниц – автор приписывает характер чисто окказиональных, импульсивных порывов. Какой-то уклончивой скороговоркой у Толстого подана и подготовка Ростопчина к уничтожению Москвы, включая сожжение им речных барок и вывоз пожарной команды (заодно, кстати, было вывезено или уничтожено все противопожарное оборудование); эти вполне продуманные шаги замаскированы под простую нервозность рассерженного человека: «Не французам оставлять» (6: 385)[137 - Здесь и далее все цитаты из романа приводятся с указанием тома и страницы в скобках по изданию: Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. М.: ГИХЛ, 1960–1965. Т. 6.], – бросает он в сердцах.
Психологический облик генерал-губернатора в целом выглядит образчиком раздраженного нарциссизма, а его поведение – хаотической мешаниной случайных порывов или капризов, лишенных человеколюбия и осмысленной заботы о будущем города. Разъяренной толпе он бросает на растерзание несчастного купчика – только для того, чтобы ей потрафить и выгородить самого себя. Вину за сдачу города и за собственный провал он возлагает на Верещагина: «Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва» (6: 388). Толпа, пока что непривычная к зверствам, поначалу колеблется, но Ростопчин отдает ей прямой приказ о расправе: «Бей его!.. Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! <…> Руби! Я приказываю!» (6: 390). У Толстого получается, что жертву лишает жизни как бы сам голос начальника, магическому звучанию которого внимает завороженный народ. «Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Ростопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась», – и тогда Верещагин робко напоминает ему о справедливости и милосердии: «Граф, один Бог над нами…» – но тот снова кричит: «Руби его! Я приказываю!..» (6: 390) – и Верещагина наконец забивают насмерть.
Религиозная подоплека этого сюжета во многом предвещает дальнейшую моралистическую эволюцию писателя. Тем значимее, что в данном случае портрет жалкого мученика – хилого «молодого человека» с обритой головой – взывает одновременно и к религиозно-филантропической традиции «маленького человека», канонизированной Гоголем в повести «Шинель» (1842). На мой взгляд, Толстой здесь воспроизводит центральные символические мотивы повести, где смиренного чиновника убивает именно акустический эффект – генеральский рык «одного значительного лица», самодура, который, упиваясь собственной властью, «возвел голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно». Любопытно, кстати, что вельможное «распеканье» включало в себя и обвинение в «буйстве… против начальников и высших», отчасти актуализированное у Толстого.
Прямым итогом «распеканья» оказалась, как известно, кончина Акакия Акакиевича, а затем – его загробные блуждания и встреча со значительным лицом. Вместе с тем у Толстого в укоризненных словах Верещагина: «Граф, один Бог над нами…» – как бы отсвечивает и знаменитая реплика Башмачкина: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – в которой его гуманному молодому сослуживцу «долго потом» слышались «проникающие слова» бедного чиновника: «Я брат твой» (III: 144)[138 - Цитаты с указанием тома и страницы в скобках даны по изданию: Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. III.].
У Гоголя этим пассажем задан и мотив неглубокой, но все же обнадеживающей нравственной эволюции, которую претерпевает значительное лицо. Напомним, что после ухода ошеломленного посетителя генерал «почувствовал что-то вроде сожаления <…> И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья». Узнав о его смерти, значительное лицо «остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе» (III: 171). Чтобы развеяться, он отправляется на санях в гости, а потом, уже вполне успокоившись, – к любовнице. Безотчетно приятному его настроению мешает только резкий порывистый ветер, который швыряет в лицо снегом. Тогда-то, «пахнувши… страшно могилою», и появляется мстительный мертвец, который наводит на генерала смертельный ужас: «Бедное значительное лицо чуть не умер» (III: 172). Нравственным итогом повести становится минималистский вариант этического катарсиса: «Это происшествие сделало на него сильное впечатление», – и с тех пор генерал стал вести себя более человечно и «даже гораздо реже» стал распекать подчиненных (III: 173).
У Толстого динамика раскаяния и моральной кары развертывается по сходной модели (хотя психологическая гамма у него, конечно, гораздо богаче, чем в «Шинели»). Сразу после гибели Верещагина Ростопчин «вдруг побледнел» и утратил самообладание. В смятении он торопливо отправился в свой загородный дом, вспоминая по дороге о случившемся и раскаиваясь поначалу в собственном поведении. «„Граф! один Бог над нами!“ – вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Ростопчина» (6: 392). Но чувство это вскоре проходит, а мысли переключаются на самооправдание. «Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился» (6: 393), – подобно значительному лицу из «Шинели».
Затем через пустынное поле он едет к Кутузову, «уже не вспоминая о том, что было, и соображая только о том, что будет». По дороге Ростопчин встречает выпущенных им на волю сумасшедших в белых одеждах (то есть цвета снега, который забрасывал в пути значительное лицо). Один из них, с «сумрачным и торжественным лицом», бежал наперерез коляске Ростопчина, «шатаясь на своих длинных худых ногах, в развевающемся халате <…> „Стой! Остановись! Я говорю!“ – вскрикивал он пронзительно <…> Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом». Грозный безумец словно бы представительствует от погибающего и воскресающего Спасителя, воплощением которого он себя считает: «Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили камнями, распяли меня… Я воскресну… воскресну… воскресну…» (6: 394). Иначе говоря, Толстой в этой сцене, по сути дела, выводит наружу евангельский аллюзионный заряд, исподволь накопленный в повести Гоголя. Филиппики толстовского обвинителя явственно согласуются и с масонско-пиетистскими представлениями, изначально родственными обоим писателям: в каждом человеке таится «распятый Христос», который воскресает в делах милосердия и братолюбия.
Безумец функционально замещает призрак Башмачкина, восставшего из могилы, чтобы обличить своего губителя. Соответственно, реакция графа соединяет в себе ужас значительного лица с совестливостью гуманного «молодого человека» в «Шинели», из чьей памяти не выходит образ затравленного Акакия Акакиевича. У Гоголя охваченный страхом генерал «закричал кучеру не своим голосом: „Пошел во весь дух домой!“ Кучер <…> замахнулся кнутом и помчался, как стрела» (III: 173).
У Толстого мы здесь читаем:
Граф Ростопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся.
– Пош… пошел скорее! – крикнул он на кучера дрожащим голосом.
Коляска помчалась во все ноги лошадей (6: 395).
И затем:
Но долго еще позади себя граф Ростопчин слышал отдаляющийся безумный, отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно-испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике <…> Как ни свежо было это воспоминание, Ростопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить это страшное воспоминание в его сердце (6: 395).
Ср. в «Шинели»:
И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья… (III: 144).
Приведенные примеры, думается, свидетельствуют о том, что пресловутая апокрифическая максима Достоевского – «все мы вышли из „Шинели“ Гоголя» – нуждается во внимательной проверке и применительно ко Льву Толстому.
2013
Женские образы в «Войне и мире» и русская проза 1830-х годов
Зависимость толстовского творчества от английского семейного романа и вообще от английской бытоописательной прозы хорошо изучена. С этой литературой Толстого связывали и его масонские притяжения[139 - См. обстоятельную работу С. Шаргородского: «Всяк из нас должен быть Бемом…» (Масонский текст «Войны и мира») // Лев Толстой в Иерусалиме: Материалы научной конференции «Лев Толстой: после юбилея». М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 177–176. Более скептическую позицию на этот счет занял В. Паперный: Лев Толстой и мистицизм // Там же. С. 159–172. Моя статья, предлагаемая сейчас вниманию читателя, вышла в том же сборнике.], и общая предрасположенность к протестантскому домостроительству.
Он не был, однако, первым русским писателем, обратившимся к британской традиции. Еще в романтический период его предшественником оказался Бегичев, автор пространного – вышедшего в шести частях – нравоучительного сочинения «Семейство Холмских» (1832), которое снискало весьма широкую популярность и при жизни автора дважды переиздавалось.
Отрицательным персонажам, одержимым пагубными и разорительными страстями, Бегичев противопоставляет героев, которые упорно сражаются со своими грехами или недостатками. Борьба развертывается по масонским инструкциям Франклина, согласно его методу каждодневного самоконтроля и планомерного очищения души от пороков – методу, чрезвычайно близкому Толстому. У Бегичева даже приводится, в качестве практического руководства, полный текст знаменитой «молитвы Франклина», содержащей его «правила». Юному герою соответствующие наставления дает мудрая мачеха, почитательница Франклина, принимающая на себя функции масонской вожатой. Еще прозрачнее выглядит масонский генезис книги в ее главной аллегорической линии – финальной женитьбе героя на вдумчивой и прекрасной девушке по имени София, которую автор шутливо величает «профессором премудрости».
В заостренно полемическом предисловии к «Семейству Холмских» Бегичев язвительно перечислил черты, кардинально отличающие его героев и все сюжетные перипетии от истерично-романтических клише. Перечень подытожен сентенцией:
И чем все это кончилось? Влюбленные мои, как мещане, сочетались законным браком и поселились жить в деревне! Вообще, все похождения, как их, так и других действующих лиц моих, не представляют решительно ничего романтического[140 - Бегичев Д. Н. Семейство Холмских. Ч. 1. Указ. соч. С. XXV.].
Подобные тирады могли только импонировать создателю «Войны и мира», завершившему приключения Пьера и Наташи браком со всеми его житейскими передрягами и заботами. Вообще же Толстой настолько любил «Постоялый двор», что даже содействовал его новому, сокращенному переизданию.
Между тем уже в 1834 году Греч уличил Бегичева в подражании некоему – правда, не названному критиком – английскому роману, а вернее сказать, в прямом плагиате[141 - Греч Н. Письмо в Париж к Я. Н. Толстому // Библиотека для чтения. 1834. Т. 1. С. 169.]. Однако именно эта чрезмерная причастность Бегичева островным канонам, в сущности, и сблизила с ним творчество Толстого[142 - Петрунина Н. Н. Проза второй половины 1820–1830 годов // История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1980–1983. Т. 2. С. 522.]. Англо-масонскую традицию он мог воспринимать не только в ее оригинальном, но и в несколько кустарном отечественном исполнении.
Не менее популярным произведением на сходные темы оказался и многотомный роман Степанова «Постоялый двор», вышедший в 1835-м, вскоре после «Семейства Холмских» и, подобно ему, вскоре переизданный. Его также отличает напряженный интерес к бытовым и нравственным аспектам русской повседневности, которые трактуются здесь с пафосом напористого благомыслия.
Книга представляет собой свод взаимосвязанных событий, скрупулезно отслеживаемых самим повествователем – Горяновым, здравомыслящим консерватором, патриотом, усердным садовником и натурфилософом. Это своего рода руссоист охранительного толка. В центре его внимания – внутрисемейные связи, взаимоотношения поколений, проблемы воспитания. Как и у Бегичева, поучительная хроника подсказана ему все той же практикой масонского наблюдения и самонаблюдения, столь родственной самому Льву Толстому с его монументальным Дневником. С обеими книгами роднит его и неистощимая назидательность. В принципе, тут любопытно было бы проследить и возможную связь толстовской дидактики с эпистолярным наследием известного русского розенкрейцера С. Гамалеи, письма которого дважды издавались в 1830-е годы, практически одновременно с упомянутыми романами. Но этот вопрос лежит за рамками настоящей работы.
Здесь нас интересует только роман Степанова – вернее, лишь одна из линий повествования. К числу его главных героинь принадлежит юная княжна Серпуховская. Ей свойственны одновременно и чрезмерная ученость – увы, сопряженная с опасным вольнодумством, – и необычайная девичья витальность. Последняя имеет прогностически амбивалентное значение, поскольку таит в себе зачатки и ангела, и разнузданной грешницы. Сюжет реализует именно вторую возможность.
Шестнадцатилетнюю девушку отличает почти птичья невесомость и подвижность, увязанная, однако, с излишне свободным и независимым нравом, которому потакает недальновидная родительница. По рассказу одного из гостей,
когда на минуту отлучилась мать, она вскочила на отдаленное кресло, промчалась по ряду мебелей, делая разные балетные па, и перепрыгнула так мастерски через мои колени, что даже не прикоснулась ко мне легким платьем своим; только ветерок махнул за нею, как от крыльев маленькой птички[143 - Степанов А. П. Постоялый двор. Записки покойного Горянова, изданные его другом Н. П. Маловым: В 4 ч. Ч. 2. СПб.: тип. А. Смирдина, 1835. С. 265.].
Своей неуемной прыгучестью героиня с первого своего появления, так сказать, «прообразует» Наташу Ростову. Напомним ее вводный портрет:
В комнату вбежала 13-летняя девочка, запахнув что-то короткою юбкою, и остановилась посередине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко.
И далее:
Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детски открытыми плечами <…> оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была уже в том возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка <…> Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.