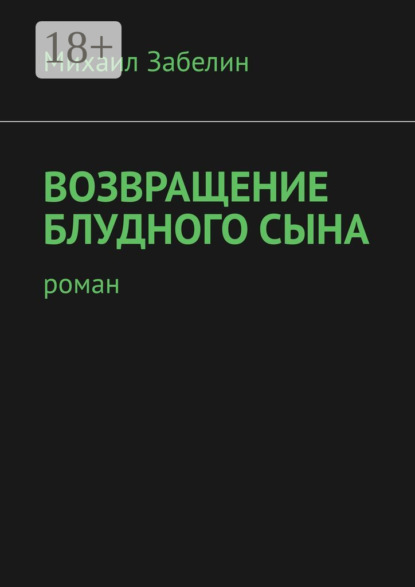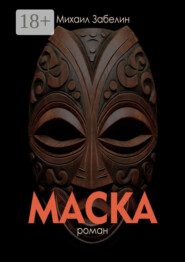По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Возвращение блудного сына. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Меня Ильей зовут. А тебя?
– Даша, – выдохнула она и снова заулыбалась так, будто вместе с именем приоткрыла и свое радостное настроение, и даже немного себя.
– У меня здесь дядя живет, Игорь Васильевич Жилин, у него домик на стрелке. Может быть, знаешь его?
– Жилин, бирюк, знаю.
– Почему бирюк?
– Дак он всегда один и из дома почти не выходит.
– Нет, он прекраснейший человек, я тебя с ним познакомлю. Один, да, так судьба у него сложилась.
– А ты к нему раньше не приезжал, ведь, правда? Я бы тебя запомнила.
На Дашином лице читались такое любопытство и такая бесхитростность, что Илье стало весело. Ему неожиданно захотелось написать ее портрет: у нее было необычно живое и выразительное лицо, а в глазах прыгали солнечные искорки.
Илья Андреевич Головин бывал в этих местах давно, в детстве, с родителями. Они гостили у дяди Игоря. Была жива еще его жена – тетя Клава. Он запомнил, как летними вечерами они выходили в сад, и с высокого берега открывалась бесконечная, в сине-желто-зеленых тонах картина: у подножия холма встречались речки Таха и Шача, одна вливалась в другую, а за рекой, окаймленные с двух сторон лесом, убегали к заходящему солнцу зеленые луга. Он до сих пор помнил то состояние восторга от открытой им красоты, которое, в конце концов, и определило его выбор – стать художником. Почему-то потом он редко вспоминал о тех далеких, теплых вечерах и до нынешнего лета не приезжал сюда. Илья учился на предпоследнем курсе Суриковского училища, и недавно ему пришла в голову мысль снова приехать в эти края на этюды. Как-то вдруг потянуло вернуться даже не в детство, а будто к истокам той когда-то подсмотренной красоты. И сейчас, увидев на берегу березовой речки девушку, похожую на нимфу и наяду здешних мест, Илья вдруг почувствовал радость от того, что приехал, от того, что приехал именно сейчас, и неясное предчувствие добрых, хороших перемен охватило его.
– Что же ты молчишь?
– Да, я давно в этих местах не был, двадцать лет. Я рад, что я здесь.
Даша отметила про себя, как быстро меняется его лицо: то он широко улыбается, глядя на нее, то его улыбка тает, и он, словно погружаясь в воду с головой, уходит куда-то далеко в своих мыслях.
В тот день они купались и загорали вместе, лежали рядом на подстилке, разговаривали, и в их общении не было ни скованности, ни робости. Потом Илья провожал ее до дома, и вокруг всё казалось ему воздушным и приветливым: встречающиеся люди и пыльная дорога, и небо, и солнце, и город.
На следующий день, ближе к вечеру, Илья повел Дашу в гости к дяде Игорю.
– Он не такой бирюк, как кажется. Просто после смерти тети Клавы он мало выходит из дома, но меня любит, и ему хочется выговориться за многие годы. Он тебе понравится.
Дядя Игорь, большой, крепкий, еще не очень старый мужчина, встретил их со старомодной галантностью и любезностью.
Илье он всегда представлялся огромным и незыблемым, как скала, застывшим во времени, как памятник прошлому. Таким дядя Игорь виделся ему еще в детстве, когда бывал наездом в их московской квартире, да и сейчас рядом с ним он ощущал себя мальчиком из сказки, зашедшим в гости к великану. Почему-то он больше всего запомнил из детства, как дядя Игорь ставил на стол огромную коробку с тортом и говорил: «Ну, открывайте, это, Илюша, для тебя». В коробке оказывалось нечто удивительное: что-то квадратное, узорно-коричневое с четырьмя шоколадными зайцами по углам. Ничего подобного в своей жизни Илья никогда не видел, хотя позже часто специально искал такой торт. В комнате стоял резной старинный шкаф под потолок, и перед отъездом дядя Игорь говорил: «Слушайся, Илюша, родителей, а то я тебя посажу на этот шкаф, и до следующего моего приезда никто тебя оттуда не сможет снять». И вправду, Илюшины папа и мама были на голову ниже, и дядины слова воспринимались всерьез. Возможно, еще и потому, что встречались они редко, детское отношение к дяде Игорю, как к доброму волшебнику, сохранилось у Ильи на всю жизнь.
– Проходите, рад вам. Пойдемте лучше в сад, там красиво, присаживайтесь, я сейчас чаю заварю.
В деревянной резной беседке было уютно и чисто. Неторопливо приближающийся вечер разогнал редкие облачка и теплел клонившимся на запад солнцем. Внизу серебрилась рыбьей чешуей Шача. Те же луга и тот же лес из Илюшиного детства расстилались до голубого неба и доносили к ним ароматы мяты и полыни.
Даша пила чай, не торопясь, смакуя, со вкусом, и глаза ее сияли. Ей здесь нравилось. Дядя Игорь оказался никаким не бирюком, а приятным, гостеприимным человеком. Сад был тенистым, уютным, вид с обрыва, действительно, открывался удивительный. Илья присел в сторонке и не отрывал от нее взгляда. Игорь Васильевич облокотился локтем о бордюр беседки и говорил много, будто в Даше неожиданно обрел и благодарного слушателя, и прекрасный повод для воспоминаний о своей молодости, в которой только самые красивые девушки приходят к вам в гости.
– Наш род, Дашенька, мой и Илюшин по материнской линии, жил многие века в этих местах. Недалеко отсюда, в Суздале, сохранился старинный дом наших предков. Они были известными купцами. Но интересно другое: в Суздаль нашего прапрапрадеда сослал еще Иван Грозный из Новгорода. Корень наш произрастал оттуда, а когда царь решил подмять под свою руку своевольный город и много крови пролил, так что, как написано в летописях, не один месяц Волхов был красным от людской крови и черным от плывущих по нему трупов, наш пращур – знаменитый мастер-оружейник был за свое мастерство помилован, но выслан прочь со всем своим семейством, в Суздаль. А мой отец после революции перебрался сюда. Я уже здесь родился, в этом доме. Только окончил школу, и война.
– Игорь Васильевич, мне Илья говорил, что вы воевали. Расскажите, пожалуйста.
– Война – страшная вещь. Убивать людей невозможно, не по-человечески. А тут выбора нет. Или ты его, или он тебя.
Вы только представьте себе этот ужас: лежишь в окопе, а на тебя движется армада, танки и тысячи людей с автоматами. Рядом рвутся снаряды и свистят пули. И чувствуешь себя маленьким и голым против этой неотвратимости смерти. Будто черный великан, грохоча, ступает по твоей земле и уже занес ногу, чтобы наступить на тебя, раздавить и пойти дальше. Изнутри поднимается и сжимает горло страх: что ты можешь один против этой махины? Кто-то, доведенный этим страхом до отчаяния, до потери разума бежит назад, петляя, как заяц, чтобы увернуться от пуль и спрятаться от танков. Такие погибают в первую очередь. Но если ужас от ревущей, убивающей, катящейся на тебя громады превращается в ярость, и ты забываешь в порыве ослепления о собственной жизни, то, может быть, выживешь.
Ты думаешь только о том, чтобы стрелять и убивать врага, чтобы он захлебнулся собственной кровью и остановился, наконец. Стреляешь и убиваешь. Сколько раз такое было: немцы врываются в твой окоп, начинается рукопашная. Из автомата ли, штыком или голыми руками, но кто кого, или ты, или он. На войне нет выбора.
Даша слушала заворожено. Игорь Васильевич говорил, не торопясь, спокойно, вдумчиво, с достоинством. Он смотрел куда-то мимо Даши, будто там, за ее спиной проходила линия обороны и грохотала снарядами и смертью война.
– Сколько людей погибло! Приходит пополнение: после первого боя трети нет, после второго половина осталась, после третьего лишь немногие уцелеют.
– Дядя с начала войны был на фронте и до Берлина дошел, – вставил Илья.
– Да, будто хранил меня кто-то всю войну. Три с половиной года смерть рядышком ходила. Сколько было таких случаев. Уворачивался я от нее.
– Как это, уворачивался? Разве от смерти можно увернуться? – воскликнула Даша.
– Можно, еще как можно. Хотите, расскажу?
– Да.
– Шли бои в Крыму. Был приказ: взять высоту, тихо, ночью. Без шума не получилось, и немцы стали светить в нас прожекторами и забрасывать гранатами. У них гранаты заметные, с длинными ручками. Светало уже. Дважды рядом со мной падали гранаты. До взрыва три секунды. Справа упала, я перевернулся и залег. Взорвалась, не задела. Вторая рядом, опять успел перевернуться. На третий раз совсем близко. Осколками не зацепило, но песком глаза запорошило и камушками лицо посекло, так что кожа лохмотьями свисала. После боя я в медсанбат: глаза промыли, лицо почистили, вроде ничего, и снова в бой. Кстати, однажды я такой немецкой гранатой «языка» взял.
Даша слушала восторженно, будто смотрела фильм про войну.
– Это было на Львовщине. Мы уже наступали. Бои были страшные: за каждый холм, за каждый хутор. Какая-нибудь неизвестная деревня по несколько раз из рук в руки переходила. В тот раз мы отстреливались. Я лежал в ложбине, и вдруг будто дернуло меня выползти, осмотреться. Вылезаю и сталкиваюсь лоб в лоб с немцем. У меня пистолет и немецкая граната за поясом, у него – винтовка наперевес. Оба остановились на секунду и растерялись от неожиданности. Он на меня наставил в упор винтовку, а палец уже на курке. Я пригнулся, пуля рядом прошла. Тогда я выхватил из-за пояса гранату и огрел его по голове. Наверное, так сподручнее было, чем из пистолета. Он упал, я ему руки связал за спиной и потащил в штаб, благо штаб полка метрах в пятидесяти был.
Игорь Васильевич, словно смахнув соринку, провел ладонью по глазам и сказал:
– Хватит о войне. Давайте еще чаю.
С этого времени они стали видеться каждый день. Утром Илья заходил за Дашей, и они шли купаться на Шачу, на то место, где встретились впервые. Даша расстилала на траве покрывало и выкладывала на него термос с чаем и бутерброды, Илья ставил на берегу мольберт. Ей нравилось смотреть, как он работает. В эти минуты лицо его делалось сосредоточенным и отвлеченным, словно в мыслях своих и в фантазиях он переносился на другой берег и еще дальше, за холмы и березы, за горизонт. Он не глядел в ее сторону, и от этого она чувствовала себя свободнее и уверенней, будто подглядывала за ним, а он не мешал ей себя рассматривать. Что-то неуловимое, спрятанное внутри его, то, что Даша никак не могла угадать, что можно было бы назвать вдохновением, притягивало в его лице и начинало ей казаться необычным, удивительным и прекрасным. Ей становилось приятно от мысли, что он рядом и, несмотря на свою серьезность и отстраненность, тоже, конечно, думает о ней и, наверное, улыбается про себя.
Потом, возвращаясь к ней из своего воображаемого далёка, он неожиданно менялся в лице и становился проще, ближе и понятнее.
Постепенно и очень быстро между ними установилась какая-то им самим непонятная связь, похожая на невидимую ниточку, перекинувшуюся, как мысль, из одной головы в другую. Даша, за секунду до того, как он что-то делал или говорил, вдруг угадывала то, что он скажет или сделает в следующее мгновение, будто считывала его мысли: «Вот он сейчас отложит кисть и повернется ко мне», – и он поворачивался, – «вот он сейчас подойдет ко мне близко-близко, возьмет за руку и скажет: „Пойдем, окунемся“, – скажет так, словно в этих словах совсем другой смысл», – и он подходил и брал в руку ее ладошку. От этого прикосновения становилось трепетно и горячо в груди, и током било руку.
Илья за те скоротечные недели, что они были с Дашей знакомы, настолько привык думать о ней и представлять ее постоянно: ночью, рано утром или поздно вечером, когда ее не было рядом, что мысленно видел ее подле себя всегда и торопил утро, чтобы встретиться с ней снова.
Однажды, когда они возвращались после купания, на них обрушился, как это часто бывает в яркий летний день, внезапный, короткий ливень. Они спрятались под деревом, Даша прижалась к нему и сказала:
– Как я люблю дождь. Он такой чистый и светлый. Люблю на него смотреть из окна или идти под зонтом по дороге. Я всякую погоду люблю: и солнце, и дождь, и снег. Если у меня хорошее настроение, я радуюсь, а если плохое, то только не от погоды.
Почему-то Илью поразили эти слова.
Вечерами он провожал ее домой и на прощание уже смелее прижимал к себе, осторожно целовал сладкие ее губы и щекотал губами завитки каштановых волос на шее, там, где сильнее билась голубая жилка. Даше становилось душно от его рук и губ, и жар поднимался от ног к животу и растекался по рукам к груди, и огнем окатывал лицо. Слабость и истома спутывали ноги, и изнутри бил озноб до дрожи в пальцах. Они расставались до следующего утра, но всю ночь не оставлял ее трепет его прикосновений, и горячий уголек жег грудь, а губы хранили и причмокивали во сне пряность его поцелуев.
Они часто заходили к дяде Игорю. Там Илья начал писать Дашин портрет. На эскизы будущих пейзажей он разрешал ей взглянуть, на портрет нет. Тем сильнее раздувалось в ней любопытство: что же там, какая она со стороны, какой он видит ее?
Им нравилось гулять в дядином саду. Им нравилось стоять у обрыва, взявшись за руки, и молча смотреть вниз, вдаль. Им казалось, что с каждым глотком парного воздуха вся красота вокруг вливается в них и передается им покоем и солнечным, ярким ощущением счастья.
Дядя накрывал на стол в беседке, а потом они пили чай и слушали его рассказы о войне. Для них это стало чем-то вроде ритуала, еще больше сближающего их.
– В первый год войны довелось мне плыть в ледяной воде зимой. Это было во время боев за Крым. Между Керчью и Феодосией высадился наш десант, но продержался недолго: полмесяца. Был январь, на море шторма, а с суши наступают немцы: пути снабжения перерезаны, пополнение прислать невозможно. Тогда те, кто остался в живых от этого десанта, прорвались с боем в Керчь и закрепились на горе Митридат. Наша бригада окопалась недалеко, и две роты, мой взвод в том числе, было приказано послать со стороны Керченского пролива им в помощь, обеспечить отступление. Людей эвакуировали на катерах, но вскоре немцы подтянули силы, выбили нас с горы Митридат, и мы, те, кто остался, спустились к бухте. В учебниках написано, что удалось эвакуировать всех, нет, не всех. Немецкие катера уже были в Керченском проливе, правда, и наши «охотники» еще оставались в бухте. С суши наступала немецкая пехота, деваться было некуда: или вплавь, в море, или пулю в лоб. Сдаваться не собирались – это та же смерть, только позорная. Я и еще один боец нашли бревно, сняли с себя ремни, привязали себя за одну руку к бревну, а второй гребли. Было 15 января, вода – 7 градусов. Сколько можно в такой воде продержаться? Мы были не одни, рядом на бревнах плыли еще человек сорок-пятьдесят. Сколько из них выплыли, не знаю. А немцы высвечивали нас прожекторами и стреляли. Напарника моего убило. Я его отвязал от бревна и поплыл дальше. Меня подобрал наш катер. Неделю я пролежал с воспалением легких и опять на передовую, на ту же высоту, где оставалась моя часть. Там уже меня ранило, ранило два раза подряд, я двадцать дней провалялся в госпитале, а потом на десять дней получил отпуск и поехал домой, к родителям. Меня там уже не ждали: незадолго до этого получили на меня похоронку. Мать, увидев меня, чуть в обморок не упала, море слез выплакала. Так вот получилось: когда меня ранили, я упал, и никто не видел, как меня оттащили. В том бою масса людей полегла, высота то к нам, то к немцам переходила. А когда бой кончился, меня уже в госпиталь отправили. Вот и подумали, что я погиб.