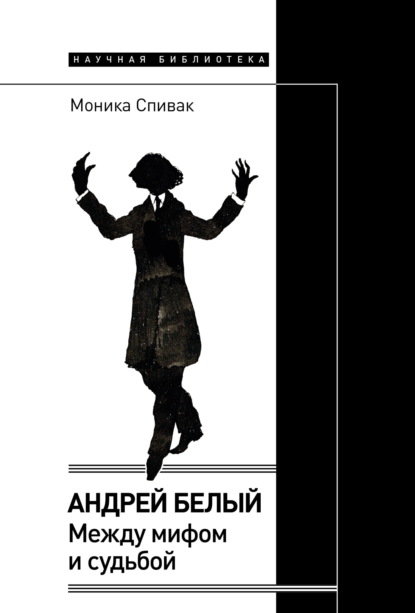По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Андрей Белый: между мифом и судьбой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
вспоминал Белый (НРДС. С. 41). С едкой иронией вспоминал он впоследствии, как «ребенком прислушивался к словам Ковалевского» (НВ. С. 11), приходившего «во фраке, неся шапо-клак (не Евангелие), чтобы провозгласить – „Кон-сти-ту-ци-я!“» (НРДС. С. 106). Через него, писал Белый, «основы конституционного строя и позитивистического мировоззренья восприняты были мной <…>. Я всосал это все в себя еще с карачек: на то „мы“ – профессорский круг, чтоб младенцы у „нас“ не так ползали, как у всех прочих, а конституционно и позитивистически» (НРДС. С. 107).
Именно так, «конституционно и позитивистически», была написана и статья М. М. Ковалевского «Развитие идей государственной необходимости и общественной правды в Италии. Ботеро и Кампанелла». В центре внимания социолога был сложившийся на закате Ренессанса «идеал светского государства, ставящего себе целью не подготовление христианских душ к вечной обители, а земное благосостояние народных масс» и открывающего «путь торжеству народных интересов»[150 - Ковалевский М. М. Развитие идей государственной необходимости и общественной правды в Италии. Ботеро и Кампанелла. С. 131.]. Ковалевский подробно сопоставил воззрения Джованни Ботеро (ок. 1544 – 1617) – итальянского мыслителя, политического писателя («Государственное благо», 1589; «Универсальные реляции», 1593–1594), предвестника «описательной социологии»[151 - Там же. С. 134.] – и Кампанеллы.
Если основная забота Ботеро направлена на эффективное соблюдение «государственного блага», то учение Кампанеллы, как отмечалось в статье, было призвано «революционировать в будущем весь строй социальной и политической нравственности и выдвинуть вперед новый идеал – совершенного равенства материальных благ и господства общественной правды»[152 - Там же. С. 143.]. В понимании либерала Ковалевского «„Солнечный град“ <…> не фантазия, ставящая себе целью аллегорическое изображение царства разума, и не образец идеального, неосуществимого в мире государства, а мотивированная конституция, написанная будущим правителем небольшой республики горцев, в которой слабое развитие мануфактур и торговли и преобладание земледельческих интересов воспрепятствовали росту капитализма, где нет поэтому серьезных социальных контрастов, бедности и богатства, и внутренний мир нарушается чаще родовыми усобицами и фискальным гнетом, чем столкновениями труда и капитала»[153 - Там же. С. 155.].
Однако сама проблематика статьи Ковалевского едва ли могла заинтересовать Белого. В поздних мемуарах он признавался, что социализм тогда виделся ему «до крайности упрощенным», и винил в том профессорскую среду:
<…> он <социализм> мне подан в сплетении с либеральными заскоками Ковалевских, которым цену я знаю; в то время и либералы, и консерваторы заслоняют от меня политический горизонт; от рабочего и крестьянского движения я отрезан бытом, незнанием фактов и неимением времени изучить то, что мне кажется лишь малым участком культуры <…> (НВ. С. 451–452).
Несмотря на очевидную несправедливость и советскую ангажированность, это высказывание Белого в основе своей верно. Политические и социологические идеи не могли удовлетворить юношу, который мечтал о теургическом преображении мира, а не о рецептах достижения общественного блага. Думается, что Белый прельстился не идеями Кампанеллы в пересказе Ковалевского, а лишь заглавием утопического трактата – «Солнечный град». Оно коррелировало с образами «невидимого града Китежа», «града небесного Иерусалима» и, главное, совершенно органически встраивалось в аргонавтическую утопию, построенную на культе солнца.
Любопытно, что идея заимствовать у Кампанеллы название трактата могла быть подсказана Белому самим Ковалевским. Социолог полемизировал с попытками ряда ученых «связать учение Кампанеллы с порядками древних инков, сделавшихся известными в Европе благодаря завоеваниям Пизарро»[154 - Ковалевский М. М. Развитие идей государственной необходимости и общественной правды в Италии. С. 145.], и увидеть в Civitas solis черты Куско – главного города империи инков, в центре которого так же стоял Храм Солнца. Ковалевский был решительным противником этой гипотезы, но допускал возможность заимствования Кампанеллой эффектного названия из «распространенных в Италии описаний Нового Света»[155 - Там же.].
Белому подобная практика заимствования тоже была не чужда. В работе «Почему я стал символистом…» писатель свидетельствует (если, конечно, верить Белому), что аналогичным образом в его лексикон в это же время пришли слова «символ» и «символизм»:
<…> мне открыт выбор слов нового словаря: словаря искусств; и между прочим: мне попадается слово символ, как знак соединения «этого» и «того» в третье их, вскрытое в «само» моего самосознающего «Я»; слова «символ» и «символизм» я механически заимствую от французских символистов, не имея никакого представления о их лозунгах; мне до них и нет дела; у меня – лозунг свой <…>[156 - Почему я стал символистом… С. 428.].
По-видимому, с «Солнечным градом» Белый поступил так же, взяв понравившийся образ, но наполнив его содержанием, совершенно не связанным с социальной утопией Кампанеллы.
Источников солнечной образности Белого-«аргонавта» слишком много, чтобы здесь все их подробно анализировать: это и литература, и философия, и мифология (Бальмонт, Ибсен, Соловьев, Ницше и многие другие). Однако на один из возможных источников все же хочется указать – прежде всего потому, что обнаружить его Белый мог в том же № 31 журнала «Вопросы философии и психологии», в котором нашел «Солнечный град». В упоминавшихся «Отрывках из Упанишад» в переводе Джонстон говорится:
Солнце – жизнь, Месяц – тело. Все имеющее форму есть тело, все бесформенное – жизнь. Ибо форма есть тело… <…> Итак, полагающие благочестие в омовениях и жертвах наследуют мир месяца. Воистину они снова вернутся в земной мир… Но <…> служением Вечному и знанием, ища Сущности, другие наследуют Солнце. Ибо оно есть отечество жизни, бессмертный, бесстрашный и выспренный путь. Оттуда они не возвращаются больше в этот мир. Оно есть окончательная цель[157 - Джонстон В. Отрывки из Упанишад. С. 16.].
В этих положениях в концентрированном виде уже содержится ядро аргонавтической утопии Андрея Белого. Будущий писатель мог соединить идею Упанишад о том, что Солнце – это родина («отечество»), «бессмертный, бесстрашный и выспренный путь» и «окончательная цель», с заглавием трактата Кампанеллы, столь удачно и поэтически переведенным на русский язык Максимом Ковалевским, то есть – с образом утопического Солнечного града.
2.2. «Остров Цитеры» или «Civitas solis»: между Ватто и Кампанеллой
«Солнечный град» оказался подходящим символом не только для Белого-«аргонавта», но и для Белого-антропософа. Изменившиеся под влиянием лекций Р. Штейнера и занятий оккультной практикой представления о природе человека и мира лишь обогатили содержание образа[158 - См.: Глухова Е. В. Мифология «Солнечного града» в работах Андрея Белого послереволюционного периода; Спивак М. Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 168–179.]. Вернувшись в 1916 году из Дорнаха в Москву, Белый ощутил себя миссионером, призванным открыть людям глаза на причины мировой войны и мирового кризиса, а также доказать, что спасение человечества – в «духовной науке» антропософии. Она, согласно Белому, будет способствовать расширению сознания и приблизит чаемый Солнечный град, опустит его «в сердце».
Собственно, об этом и эссе «Утопия», где Белый рассказывает об антропософской космогонии и своем «фантазийном» видении природы человека:
<…> тела силовые (эфирные) – стебли цветов (тел физических), соединяющие нас при помощи корня с родимою почвою солнца; так видное нами физически солнце есть, так сказать, ваза с цветами; иль – проще: светило дневное – есть символ лишь пересечения многих стеблей (тел эфирных) в связавшем их корне; светило дневное и есть символ корня; мы в корне – солнчане. Что делает корень? Он черпает влагу; и далее поднимается влага в сосудах стебля – до цветка; так в астральное тело, в наш корень телесный, вбирается капелька влаги – души, поднимаясь стеблем – иль мощною линией ритма эфирного тела – в цветочек; в материю; в теле, в строении тела, отображен рост растения; голова, корень тела, струит влагу мысли по стеблю (по стану) к цветам; лепестки – наши ноги.
Мы думаем, будто свободно мы ходим ногами; но это иллюзия; носит нас ветер духовности; на огромных стеблях раскачалися мы; у марсианина тело – «растение» с более выросшим стеблем стихийности; у венерянина тело – с коротким сравнительно стеблем, и оттого «цветы» этих стеблей (тела минеральные их) не встречаются; «марсианин» качается выше; а «венерянин» качается ниже.
И корень – астральное тело – прокол в мир душевный; душа – это влага, струимая стеблем к цветам; но та влага – осадки развеянной атмосферы вокруг, пролитые дождем; и потом – испарение снова листами растенья; душа в нас живет лишь «момент», и – ничтожной частицею; вся она, наша душа, существует вне нас.
Что есть смерть? Упадение семени. Но – куда? На родимую почву под злаком; и – зарывается в почву; так падает семя – плод жизни – из чашечки (тела) под стебель – в астральное тело: астральное тело само есть «поверхность свеченья» души; в отхожденьи на родину пересекаем мы сферу луны, пересекаем мы сферы Меркурия, сферы Венеры; и – падаем в Солнце – сквозь солнце.
Из семени прорастает впоследствии стебель; на стебле опять раскрывается чашечка: перевоплощение – закон.
Наше тело реальный цветок жизни солнца; цветочек растения – отражение в зеркале солнечной силы стихии; цветы – это символы ритмов стихийного тела, которое в нас[159 - Записки мечтателей. 1921. № 2/3. С. 143.].
Завершающая эти построения апелляция к Кампанелле в последнем абзаце выглядит, на первый взгляд, немотивированно, ведь имя автора «Civitas solis» ранее в эссе не упоминалось, да и сходство между астральной утопией Белого и государством Кампанеллы найти не просто.
Хранящийся в РГАЛИ автограф «Утопии» позволяет прояснить замысел произведения и его эволюцию. Оказывается, что посвященный Кампанелле заключительный абзац (он приведен в начале раздела) первоначально не планировался и что отсылку к Кампанелле Белый хотел добавить одновременно с отсылкой к… Антуану Ватто.
Основная часть автографа – от заголовка до возгласа «Осуществится „фантазия“»[160 - РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 1–13.] – написана черными чернилами практически без помарок (похоже, что этот текст был переписан начисто с какого-то другого, неизвестного нам черновика). Однако поверх чернильных записей идет достаточно плотный слой карандашной правки, очевидно – позднейшего происхождения. Карандашные вставки и зачеркивания носят преимущественно стилистический характер: Белый заменяет слова синонимического ряда, выбирая наиболее выразительные, корректирует синтаксис, делая предложения более сжатыми и интонационно насыщенными.
Принципиальны в позднейшей правке два добавления: в начале и в конце текста.
Первое добавление не вошло в окончательный текст эссе и не было опубликовано в «Записках мечтателей». Это небольшое (страница карандашного текста) «Вступление к „Утопиям“», в котором Белый рассуждает о том, кто такие мечтатели (тема была поднята им ранее в программной статье, открывающей первый номер журнала, а здесь развита), объясняет (весьма экстравагантно), почему подписал «Утопию» псевдонимом Alter ego, и сравнивает мечты о будущем с «Отплытием на остров Цитеру» – знаменитой картиной Антуана Ватто (1684–1721) «L’ Embarquement pour Cyth?re» («Le P?lerinage ? l’ ?le de Cyth?re»; 1717)[161 - Существующая в двух вариантах (см.: Якимович А. Антуан Ватто и французское эпикурейство // Собрание: Искусство и культура. 2008. № 2 (17). С. 36–39), эта картина по-разному именовалась и трактовалась почитателями и исследователями творчества Ватто, и в соответствии с этим по-разному переводилось на русский язык ее название: как путешествие или паломничество, как отплытие к острову Цитеры/Киферы, на остров Цитеру/Киферу, или как высадка на него, или даже как с него отплытие. Белый в «Истории становления самосознающей души» пишет об «отчаливании в страну „Цитеры“» (ИССД. Кн. 2. С. 56), что наиболее точно выражает его понимание изображенного. Мы остановились на «Отплытии…» вслед за Г. Ивановым, А. Бенуа и Н. Пуниным. См.: Иванов Г. Отплытье на о. Цитеру. Поэзы. Книга первая. СПб.: Ego, 1912; Бенуа А. История живописи всех времен и народов. Т. 4. СПб.: Шиповник, <1915–1916>. С. 282, 284, 287 (раздел «Французская живопись с XVI по XVIII век», глава XIV «Жан Антуан Ватто»); История западно-европейского искусства. III–XX вв. Краткий курс / Под ред. проф. Н. Н. Пунина. Л.; М.: Искусство, 1940. С. 344.]. По непонятным причинам «Вступление к „Утопиям“» откололось от эссе и попало в другую архивную папку[162 - РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 62. Л. 6.].
Приведем это «Вступление» полностью.
Записки «Мечтателя»
Вступление к «Утопиям»
Как известно, мечты порождают в морях целый остров [зачеркнуто: в волнах океана таинственный остров[163 - Воспроизводим здесь лишь те зачеркивания, которые кажутся существенными для данной темы. Курсивом переданы подчеркивания в автографе.]] – Цитеру, где новая жизнь восстает населением, там – города, как и здесь; там – мечтатели; даже, как кажется, там издаются «Записки мечтателей»; я – Мечтатель «Записок», я – плод порожденья писателей из «Записок мечтателей», их – alter ego: не думайте, будто я – псевдоним одного из «писателей», существовавших доселе; и я – не гомункул; я – есмь: проживаю, как вы, в Петрограде, на Кирочной, в доме таком-то: спросите Егорова[164 - Егорова – девичья фамилия матери Андрея Белого.]. Нет, не думайте, что и Его=ровъ – Ego=Оръ=овъ (не – Дух времени, и не «Я» его); просто Егоров Я; псевдоним выбираю себе – Alter ego; [зачеркнуто: но я возник в 1919] действительно: я возник в январе – из «Цитеры», из мысли «мечтателей», замышлявших «Записки»; и вот осадился – на Кирочной; ныне служу, как и все; а в свободное время пишу. Мне нет места нигде: я надеюсь – «Редакция» не отвергнет меня.
Егоров (Alter ego).
Второе карандашное добавление в текст публикации вошло. Это и есть те заключительные строки эссе, в которых упоминается Кампанелла как автор утопического сочинения о Городе Солнца:
Осуществится «фантазия»[165 - Последняя фраза, написанная чернилами. Далее – карандашом.]. Я, утверждая ее, порождаю Коперника будущей эры, которого миссия – доказать, что так близко к нам Солнце, что, собственно говоря, мы на Солнце, что, собственно говоря, непонятно, как мы не сгорели досель; тут мы вспыхнем; и в миг сгорания вскрикнет мечтатель: вот Солнечный град Кампанеллы спустился, вот мы – в граде Солнца!
По слову мечтателя вступим мы в Солнечный Град.
Его Царствию да не будет конца![166 - Записки мечтателей. 1921. № 2/3. С. 144.]
Автограф «Утопии» не датирован, но в «Ракурсе к дневнику» (РД. С. 451) Белый отмечает, что пишет «статью <…> для „Зап<исок> Мечтателей“ под псевдонимом „Alter Ego“» в апреле 1919-го. Хотя принято датировать создание этого эссе 1920?м, но и запись в «Ракурсе к дневнику» ошибкой не является. Скорее всего, основной (чернильный) текст «Утопии» был создан в апреле 1919-го. А через год Белый внес карандашом стилистическую правку, дописал вступление про Ватто и заключительный абзац про Кампанеллу. Таким образом, он, видимо, решил вставить свою антропософскую утопию в историко-культурный контекст, «окаймить» ее знаковыми утопиями прошлого. А к утопиям прошлого он относил не только «Civitas solis» Кампанеллы, но и «L’ Embarquement pour Cyth?re» французского художника.
А. Ватто. Отплытие на остров Цитеру. 1717. Лувр (Париж)
А. Ватто. Отплытие на остров Цитеру. 1718. Шарлоттенбург (Берлин)
Белый обратил внимание на Ватто еще в 1906 году, в Париже, где в Лувре увидел картину «L’ Embarquement pour Cyth?re»[167 - Строго говоря, название луврской картины – «Le P?lerinage ? l’ ?le de Cyth?re». Ее второй авторский вариант – «L’ Embarquement pour Cyth?re» (ок. 1718) – находится в Берлине, во дворце Шарлоттенбург.]. Тогда, вспоминал он, «Мане и Моне своей краской связались – с Ватто» (МДР. С. 135). Доминирующую цветовую гамму художника (голубую или темно-зеленую) и его близость к поэзии Верлена, положенной на музыку Габриелем Форе, обсуждал с Белым Петр д’ Альгейм в «Доме Песни»:
«И – главное: упомяните Гонкуров, – бросал он <…> Непременно их с Верленом сплетите: он близок Ватто, потому что Мари[168 - М. А. Оленина-д’ Альгейм.] вам споет Габриэля Форэ: текст Верлена… <…>. Кстати, помните, что тон Ватто – голубой». Я же думал, что – темно-зеленый (НВ. С. 435).
Или:
А указания сыпались градом: при встречах с д’ Альгеймом <…> прихватите Верлэна, связавши с Ватто его; помните, что Ватто – голубой <…>; Ватто ощущал, например, я зеленым, темнозеленым, – не голубым; получал же почти приказы: считайте Ватто голубым[169 - НВ. Берлинская редакция. С. 432–433.].
В статье «Песнь жизни», вошедшей в сборник «Арабески» (1911)[170 - Статья написана по материалам лекции, с которой Белый выступал в ноябре 1908 г.], Белый сближает Ватто еще и с Бердслеем: «Обри Бердслей в японцах воссоздал наш век, чтобы потом сблизить его с Ватто»[171 - Арабески. Луг зеленый. С. 45.]. Развивая темы, поднятые ранее в беседах с д’ Альгеймом, писатель упорно подчеркивает визионерский характер творчества Ватто и его актуальность для духовных исканий современности:
По-новому воскресает перед нами Ватто. Как и фантастик Бердслей, он пугает нас арлекинадой масок, как, например, в «Harlequin jaloux»: но когда в «Embarquement pour Cyth?re» убегает песня корабля к блаженному острову, где из жертвенного дыма улетает богиня, мы в Мечте начинаем видеть реальность, мы и в действительности только одну видим грезу, как, например, в «Les Plaisirs du bal». И жизнь здесь – песня без слов, как были песнями без слов – «Romanses sens paroles» Верлена. Тут Верлен, положенный на музыку Форэ, напоминает бледно-голубого Ватто[172 - Арабески. Луг зеленый. С. 45. Правильно: «Romances sans paroles».].
Трактовка художественного мира Ватто, данная в статье «Песнь жизни», фактически идентична той, что представлена во «Вступлении к „Утопиям“». В обоих текстах стремление к острову Цитеры воспринимается Белым как тоска по «стране мечты», утопии:
<…> все времена и все пространства – превратились в ноты одной гаммы; но тональностью гаммы оказалась блаженная страна, растворенная в лазури: страна, где небо и земля – одно, и пока сознавалась эта страна как мечта, где в будущем воскресает прошлое, а в прошлом живет будущее, но где нет настоящего, символическая картина Ватто «Embarquement pour Cyth?re» стала девизом творчества, и XVII век в утопиях ожил опять. Этот неосознанный еще трепет есть сознание окончательной реальности прадедовских утопий о стране мечты[173 - Там же.].
Эта мысль, оказавшаяся для Белого крайне важной, получает развитие в «Истории становления самосознающей души» (1926–1931), где писатель доказывает, что «растущим томлением по стране „Утопии“ смягчается вторая половина 18 столетия» и что в движении «от Вольтера к Шатобриану, к Ватто» отражается «тяга эпохи, тяга к оздоровлению всех зараженных ариманическою болезнью века». Это, по утверждению Белого, «знак того, что работа импульса, переваливая через рассуждающую душу силами музыки, начинает приближаться к душе ощущающей для работы самосознающего „Я“»[174 - ИССД. Кн. 2. С. 57.]:
А оазы, расцветающие по-новому участки культуры второй половины 18 столетия, ее меняющие по-новому и делающие ее предвестницей начинающегося романтизма, – дух музыки, извлекающий «утопию» и налет «мифа» на самой чувственности; это – тот вздох «сентиментализма», который в черство-чувственных душах 18?го столетия, в душах, искаженных ариманизацией двух с половиной столетий вызывал томление по «сказке», по отчаливанию в страну «Цитеры», томление, переданное на рубеже двух столетий Ватто; <…> все эти путешествия герцогинь и княгинь из Парижа и Петрограда под «кущи» Фонтенбло, Трианона или Царского – есть тяга к оазам, к растительности, пока еще искусственно разводимой, вокруг вновь образованного озерца излитой в душу музыки; музыка это – импульсом чрезвычайным оживляемая самосознающая душа, движимая через пустыни души рассуждающей к пределам души ощущающей, души мифов и сказок[175 - Там же. С. 56.].
При такой интерпретации Ватто упоминание о таинственном острове Цитеры во «Вступлении к „Утопии“» вполне логично: ведь материал предназначался для журнала «Записки мечтателей» и был написан от лица одного из мечтателей. Как «фантазия» мечтателя представлена Белым та утопия, которая следует за текстом «Вступления». Логично это и для Белого-мистика, рассматривающего творчество Ватто как важный этап стадиального развития импульса самосознающего «Я», ведущего человечество через романтизм и символизм к духовному прозрению в антропософии или от души рассуждающей к душе ощущающей – и далее к душе самосознающей. По мысли Белого, мечты об «отчаливании» к острову Цитеры пресуществляются в мечты о Солнечном граде, представленном в «Утопии» Белого в специфически антропософской интерпретации.