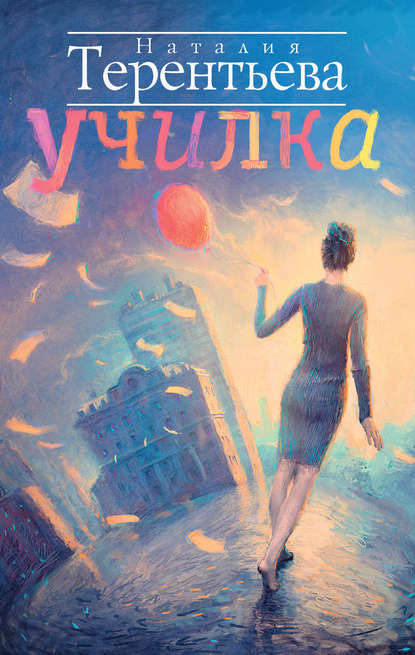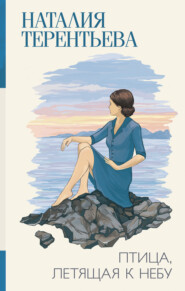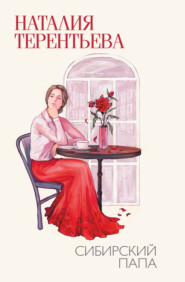По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Училка
Год написания книги
2013
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Этимология – происхождение. Не старайся казаться глупее, чем ты есть.
– Ну хватит, Дима! – обернулась к нему Вероника.
– Тебя не спросил! – совершенно по-детски огрызнулся Тамарин и тут же затих.
Я смотрела на часы, висевшие над дверью класса, и диктовала детям отрывок из рассказа Горького:
– «Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел… больше всего за то, что он, этот ребенок, по сравнению с ним, Челкашем, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя».
Почему я интуитивно взяла этот отрывок? Вчера вечером, листая Горького, я выбрала именно этот фрагмент, ни о чем таком не думая. Предложение длинное, пунктуация сложная – именно это и нужно сейчас в восьмом классе. А сейчас я смотрела на детей и думала – они так отстаивают свою свободу? А я ее отстаивала в восьмом классе? Надо будет вспомнить. Потом. Сейчас меня больше интересовала стрелка часов, которая двигалась очень медленно. До конца урока осталось семнадцать минут. Двенадцать, восемь, семь… четыре… За минуту до звонка я закончила диктант.
– Положите мне на стол все тетради, пожалуйста.
– А кто будет проверять? – спросила какая-то девочка.
– В смысле?
– Вы что, сами будете проверять?
– А… – Я слегка растерялась. – А кто?
– Ну обычно, – громко заговорил пришедший в себя Тамарин, – проверяет кто-то из девочек, которая другим способом не может заработать себе лишней пятерки.
– Так, Тамарин, закройся! – крикнули ему сразу несколько голосов. – О себе лучше расскажи! Как ты по геометрии пятерку зарабатываешь!
– Я проверю сама. Я же сказала – мне интересно, на каком мы с вами свете находимся.
– На темной сторо… – завелся Тамарин, но я не дала ему договорить:
– Урок окончен, всем спасибо. – Я быстро засунула тетради в портфельчик. Маловат портфель для моей новой жизни. Ладно! Я подхватила оставшиеся тетради под мышку и почти бегом вышла из класса. Так, перемена большая, у меня двадцать минут. До младшей школы бежать две минуты, еще надо одеться. Только бы не встретить Розу или Лариску…
Да, Роза шла мне навстречу, энергично отчитывая рослого старшеклассника, пока мне незнакомого. Старшеклассник шел вразвалочку, но вежливо склонившись к Розе.
– Все хорошо? – мельком взглянув на меня, спросила она.
– Да! – постаралась я улыбнуться как можно спокойнее и проскользнуть мимо нее.
– Анна Леонидовна! – услышала я Розин голос за спиной. – Вы торопитесь в столовую?
– Да! – ответила я.
– Хорошо, встретимся в столовой через пять минут. Мне есть что вам рассказать!
Ничего хорошего, судя по тону, Роза не собиралась мне рассказывать, но я бежала к моему маленькому, бедному, глупому, отчаянному мальчику и его сестре, которая в драки не ввязывается, но переживает всегда за брата так, что я не знаю, кому из них первому оказывать помощь. Настя может доплакаться из-за Никитоса до того, что потом долго не в состоянии нормально разговаривать. Трясется, икает, вздрагивает, зубы стучат, руки дрожат… Двойняшки. Разные внутри. Совершенно не похожие на первый взгляд внешне. Но они не просто близнецы. Они двойняшки. Они одинаковые. У них одинаковые глаза. У нее – серо-голубые, доверчивые, спокойные; у него – точно такие же по цвету и разрезу, но веселые, отчаянные. Настька чувствует брата, как себя. Ей больно, когда ему больно. Никитос, возможно, тоже ощущает Настьку как двойняшку, только пока об этом не знает. Ему хватает Настькиной слабости, податливости. И он на них уже не имеет права.
Я набросила пальто, кое-как натянула дурацкие новые сапоги без молнии – можно даже не спрашивать, чей подарок, – и сломя голову помчалась в младшую школу.
Глава 8
Никитоса я получила через полтора часа, в травмпункте, куда его отвезли по «Скорой», забинтованного, с зашитой головой и рукой в гипсе. Охранница не сказала мне про «Скорую» из конспирации – мало ли откуда «зво?нят»! Вдруг из роно! А у них тут такие дела… Хорошо, что я не ушла с занятий. Настька сначала плакала – урок или два, а потом уже написала мне. Юлия Игоревна, их учительница, почему-то решила обойтись своими силами, родителей зря не беспокоить.
Я даже не знала, что на это сказать. Ругаться с ней сильно не хотелось. А она, наоборот, ждала благодарности, что всё так быстро и грамотно сделала. Сцепился Никитос на перемене, понятно, с тем же Дубовым. Дубову помогали еще двое четвероклассников – те же, что накануне дрались с ним против Никитоса на площадке, или же другие, теперь уже не выяснишь. Важно это, но не выяснишь. Никто, по крайней мере, разбираться не хотел.
Я все же поблагодарила Юлию Игоревну за вовремя оказанную моему сыну помощь и понадеялась, что гипс, поставленный ему в районном травмпункте, лег на то место, где сломались косточки, а не на соседнее, как часто бывает. И что сотрясения мозга у него действительно нет. «Не тошнит же!» Только ленивый не сказал мне этого. Медсестра в травмпункте, охранницы в школе, мамаши из нашего и других классов, завуч младших классов и, конечно, сама Юлия Игоревна.
Учительница же Дубова заняла удивительную позицию.
– Вы в школу только что пришли работать, – заявила она мне. – И у вас уже такие происшествия!
– У меня? У меня? – не могла я поверить своим ушам.
– У вас, у вас! Как вас, простите… по имени-отчеству…
– Да не важно! Какая разница, как меня зовут, если вы мне говорите подобное?
– Вот, поэтому ваш сын и дерется! У него мать такая агрессивная! Представляю, как вы с детьми обходитесь…
– Да вы что вообще! С больной головы на здоровую!
– А вот больными чужих детей обзывать не на-а-до! Еще педагог называется!
Я смотрела на местами ярко накрашенную, плохо причесанную, как-то не по-школьному одетую учительницу – в синих джинсах, обтягивающих ее мощные бедра, выпущенной наружу ярко-желтой блузке с огромными воланами, колыхавшимися от каждого ее движения, и думала: хорошо, что не она ведет класс моих детей. Вот так смотрели бы каждый день на этот ярко-малиновый рот, на огромные звенящие сережки с прыгающим посередине шестируким Буддой, на перекатывающиеся по большой груди воланы… Мир бы казался другим. И слушали бы ахинею. Если она мне, не стесняясь, говорит такое – что же она ничтоже сумняшеся говорит детям? Могу себе представить.
Можно было бы спросить, что она вдруг так защищает Дубова. Не думаю, что ей лично попадет за его проделки. Всё же у него есть родители. Возможно, окажется, что он чей-нибудь сын.
– Он чей-нибудь сын? – спросил меня Андрюшка, когда я позвонила ему вечером рассказать про наши новые победы.
– Нет. Ты же знаешь – я эту школу выбрала в том числе потому, что все наши местные мажоры – дети управы, префектуры, прокурорские да депутатские – учатся в лицее через улицу.
– Помню-помню, как же, как же, – засмеялся мой брат. – Ни объевшихся мажоров, что хорошо, потому как им, наглым, все сходит с рук. Ни евреев, что плохо.
– Конечно, плохо – они способные, воспитанные и мотивированные.
– Что там у вас с объединением, кстати? Объединили в результате или отбились?
– Не отбились. Многонациональная школа теперь будет.
Мы еще поговорили с Андрюшкой о том – хорошо или плохо, что наша школа сливается, волевым приказом чиновников, с соседней, где раньше учились дети приезжих, в основном из Средней Азии и Предкавказья. Андрюшка все больше смеялся – как он делает всегда, когда ничего изменить не возможно.
– Пойдешь на митинг? Взять тебе разрешение? Организуешь активисток, покричите, помашете плакатами…
– Андрюш… Бессмысленно.
– Ну вот, тогда терпи. Зато теперь у вас в районе нет «школы для черных». Это же здорово! Раньше было очень обидно. Правда, очень плохое название. А теперь никому не обидно.
– Ты знаешь слово? Как назвать, чтобы не обидеть?
– Нет. «Приезжие».