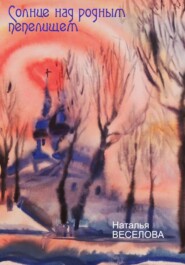По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голоса любви на путях войны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Кинель-Черкассы
24 апреля 1942 г.
Мой дорогой, мой любимый Димуша!
Сегодня получила твое письмо от 12 апреля. Это такое хорошее письмо, какого я давно не получала. Оно на некоторое время снова вернуло мне душевные силы. Знаешь, родной, когда долго не получаешь от тебя писем, то охватывает такая ужасная тоска, ну, просто нет сил. Я тебе писала, мой хороший, что жить нам очень трудно и очень бы хотелось уехать в Москву. Но, любимый, я тогда еще не знала, что ты занят своей работой, и я совсем не хочу, родной мой, чтобы забота о нас могла бы помешать тебе. И кроме того, роднуша мой ненаглядный, меня печалит, хотя ты и пишешь, что ты здоров, но я чувствую и знаю, что ты просто хочешь, чтобы я не беспокоилась о тебе. Милый! Мы еще можем прожить здесь некоторое время, и ты отбрось пока от себя эту заботу. Я не хочу, чтобы она тебе помешала в твоих делах. Мы как-нибудь проживем. Скоро начнется работа в колхозе, и, может быть, меня возьмут, хотя меня и не записали по состоянию здоровья и потому что у меня маленький ребенок. Но я думаю, что может найтись работа и для меня, тогда мне будут давать какие-нибудь продукты. Ты пишешь, дорогой, что мы могли бы переехать в другой город на востоке. Но ты знаешь, что условия жизни везде одинаковы, и ехать в неизвестность очень рискованно, да и бессмысленно. Ведь дело совсем не в скуке и не в том, что здесь глухое место. Если нужно было бы, то и здесь могло бы быть весело. Здесь много эвакуированных, и, кроме того, в каждом доме стоят военные. Да что-то не до веселья. Дело не в скуке.
Если, любимый, будут стоить больших трудов и времени хлопоты о нашем приезде, ты отложи их пока. Но все-таки узнай что-нибудь о прописке и прочем. Милый, ты удивляешься, что весной все подорожало. Так оно и должно быть: скота почти нет здесь, следовательно, нет ни молока, ни мяса. Картофель крестьянами оставлен на посадку, и так все. Что будет осенью? Но до осени здесь не проживешь. Ты благоразумней меня, посоветуй, что делать, принимая во внимание, что я не одна, а с ребенком. Взрослые все могут пережить – и голод, и холод. Твоя мама и Мура, если им не удастся уехать в Москву, то они уедут в Кировабад к мужу Муры. Там, как он пишет, жизнь лучше. Но уж я передвигаться никуда не буду. В дороге сюда я чуть не потеряла ребенка, и еще раз рисковать не хочу. Или здесь ждать какого-нибудь конца, или ехать в Москву.
Сейчас наша Олечка вполне здорова, я с ней хожу каждый день гулять, когда уносишь ее домой, она всегда кричит. Она стала поправляться, опять стала розовая. Я тоже чувствую себя ничего. Да, Олечка говорит «папа», а «мама» никак не хочет говорить.
Пиши мне, любимый, чаще. (…) Так соскучилась по тебе. Целую и обнимаю тебя горячо. Будь здоров и счастлив, мой хороший, помни твою неизменно любящую жену.
Тебя ждет твоя Руша».
«Кинель-Черкассы
25 апреля 1942 г.
Любимый мой!
Сегодня получила твое письмо от 5-го апреля. Оно пришло позже, чем то, которое ты послал 12-го апреля.
Ты, любимый, пишешь, что ты закончил свою работу. Я почти уверена в ее успехе. Я помню тебя, дорогой, я помню, как ты не спал ночь и был сам весь в каком-то необычайном состоянии и очень задумчив. Я так хорошо это помню! Я помню еще, что я тебе мешала и прерывала твои размышления, приставала к тебе. Но сейчас я молю Бога, чтобы удача не прошла мимо тебя.
Димочка, когда я первый раз эвакуировалась из Москвы в Белоомут, то мы с Шурой Коновой увидели семью Улицких на платформе одной из станций Ленинской дороги. Они тоже эвакуировались, но, как вижу, вернулись. Леше К. я написала, но ответа еще не получила.
Мой дорогой Димуша! Я знаю, что некоторые мои письма тебя огорчают. Это те письма, которые я тебе писала, не получая писем от тебя больше месяца. Я упрекала тебя в том, что ты забыл меня, оттого и не пишешь.
Но право, любимый, мне так стыдно сейчас, что я могла так думать, ты не обращай внимания на это и прости меня. Когда я не получаю от тебя писем, я буквально схожу с ума. И в это время могу наговорить что угодно. Прости меня. Я люблю тебя и всегда знаю, что и ты меня горячо любишь и будешь вечно любить. (…)
А какая у нас удачная дочка, такая вторая уж больше не получится (выделено мной – Н.В.). Если бы ты только мог видеть ее. Такая дочка может быть только у тебя. Скорей бы, родной, ты ее увидал.
Еще раз повторяю, родной, очень хочется уехать в Москву. Узнай, пожалуйста, о приезде в Москву. Здесь жить хуже, чем в Москве.
До свиданья, мой любимый. Целую и обнимаю тебя много-много раз. Жду тебя.
Любящая тебя, твоя Руша».
Вместе с Тамарой и ее матерью эвакуировалась и мать Димитрия со своей взрослой дочерью Марией-Мурой, которую Димитрий в одном из писем к жене пожалел за то, что она, якобы, не знала радостей любви. (На самом деле, прекрасно знала, просто была более сдержанным человеком. Незадолго до этого вышла замуж за хорошего и доброго, достойного мужчину, с которым в полном согласии проживет двадцать лет, до его достаточно ранней смерти, и вырастит дочь Татьяну). Действительно, если подумать – как же они с Тамарой были богаты в те дни! Могли даже пожалеть кого-то… Ведь если просто знать, что ты любишь и любим, – насколько легче преодолеваются любые трудности! Это снова трюизм – но правда же… Денег у Димитрия не было, аттестат ему не выплачивали, поддержать семью он никак не мог, просил лишь продать все его вещи, кроме линейки и готовальни… Кстати, его старая роскошная готовальня в потертом кожаном футляре, где на полуистлевшем коричневом бархате лежат дивные, таинственные стальные орудия не моего труда, уцелела – и у меня сейчас… Та ли – непроданная? Хочется верить… Вот она:
А моя восьмимесячная мама играла ложечками вместо игрушек, о существовании которых и не подозревала, – это тронуло до глубины души ее молодого отца…
Помню, как тридцать с небольшим лет назад, в достаточно еще благополучные времена, в теплой отдельной квартире я трагически переживала детские болезни своего ребенка – и собственное по этому поводу легкое, как теперь понимаю, недосыпание… Это все притом, что оба мы были сыты, красиво и добротно обуты-одеты, да еще и находились под бдительным приглядом детской поликлиники со всеми специалистами – не говоря уж о патронажной сестре… Мне, тогда двадцатилетней, это казалось чем-то вызывающим, непреодолимым, я готова была обвинить весь мир, ополчившийся против меня, гибнущей у детской кроватки… Тамара всего лишь просит мужа достать ей вызов в Москву и какой-то таинственный «литер»… Одна коротенькая горькая фраза из ее письма пронзила мне сердце:
«Какая у нас удачная дочка, такая вторая уж больше не получится…».
Наверняка ведь находились добрые люди, успокоительно шептавшие: мол, сильно не прикипай – эту-то уж точно потеряешь, да что поделаешь: смотри, жизнь какая пошла, самой бы уцелеть; вон, у таких-то корью помер, а у тех-то – животом…
Дети и сейчас иногда умирают. А раньше, когда не было антибиотиков… Да в глубинке, где не было вообще – медицины… Говорят, к этому относились спокойно, как к неизбежному, даже ругали тех, кто горевал. Умри у Тамары Оля – кто-то в те страшные годы, пожалуй, и порадовался бы, что теперь ей, мол, станет легче, а дети – дело нехитрое. Вот если вернется муж – тогда… У четы Достоевских тоже умер первый ребенок – Сонечка. И безутешный отец писал А.Н. Майкову, что мысль о том, что родятся другие дети, которые ее заменят, ничуть не утешает его: «Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться! Если даже и будет другой ребенок, то не понимаю, как я буду любить его, где любви найду? Мне нужно Соню»[5 - А.Г. Достоевская «Воспоминания». М., 1987]. Родились еще трое (и из них один – тоже умер!), прекрасно заменили первую дочь, утешился вполне. И любил не меньше… И Тамара утешилась бы. Но в те ужасные летние дни, когда впереди маячила скорая осень, а за ней – такая же беспросветная зима… И почти неизбежная потеря…
Представляю, как хотелось избежать этого любой ценой – кроме последней. Бабушка готова была уехать без документов, останавливал только страх за жизнь девочки, если снимут с поезда и просто выкинут на какой-нибудь станции. Что-то подобное уже чуть не случилось по дороге в Кинель, несколько раз в письмах мелькает: «Чуть не потеряла ребенка» – ничего удивительного!.. А Олечка между тем – «Все время говорит: "Папа, пади к нам!" – и манит ручкой. Я сама не рада, что научила ее этому».
Не оправдалась и слабая надежда на то, что, раз изобретение мужа принято, то его оставят в Москве, и они там воссоединятся. Известие о том, что он отправляется в Казань, потрясло и ошеломило Тамару. Это единственный период за всю войну, когда письма ее похожи были на истерические крики – в них только отчаяние, горе и мольбы… Димитрий так и не услышал тех исступленных призывов: они пришли в Москву, когда он уже оттуда уехал, и были возвращены отправителю… Еще В. Набоков заметил, что неистребимость почты всегда поражала его: действительно, это какое-то отдельное государство, не зависящее ни от каких внешних потрясений… Разве что снаряд прямо в здание почты попадет! И Тамара аккуратно получала обратно свои не дошедшие до мужа послания… Зная, что он нуждается в деньгах, она, сама находясь в крайнем положении, вдруг выслала ему 350 рублей. Страх, что ее Дима попадет на передовую, никогда не покидал ее – и вот уже громоздятся в уме назойливые догадки:
«Я ужасно беспокоюсь, меня беспокоит то, что ты пишешь, что у тебя будут деньги, и ты сможешь мне высылать. Ты что-то знаешь и не говоришь мне. Не нужны мне никакие деньги, лишь бы ты был в безопасности, в резерве! Слышишь – не нужно мне денег! Мы живем прилично, и мне ничего не нужно!» – это когда всерьез собиралась идти с сумой – она, которую в начале тридцатых при попытке сдать документы в приемную комиссию института, отхлестали ее же собственной метрикой по лицу – «за происхождение»! Тогда такое еще было возможно – в порыве революционной бдительности. Ситуацию спас ее отец Сергей Степанович Коршунов (краткая, но емкая речь о нем – впереди), человек авантюрного и бесстрашного склада: увидев зареванное лицо дочери, он попросту залил метрику подсолнечным маслом и расплывшиеся фиолетовые буквы, дававшие возможность разобрать только размытое «…ян», спокойно переправил на «…крестьян» – а что там на лбу написано, то никого не касается. Вот она – совсем юная (фотографию раскрашивали не Фотошоп с нейросетью, а сама молодая бабушка, кончиками пальцев терпеливо втирая в фотобумагу цветную грифельную пыль):
«Кинель-Черкассы
3 мая 1942 г.
Воскресенье
Милый Димочка!
Миновало уже 1-е Мая, здесь этот праздник не был заметен, да и в Москве, наверное, не праздновали. Только весна, хотя и поздно, взяла свое. Уже началась посевная кампания. Все крестьяне возделывают свои огороды, чтобы снова нас грабить, продавая плоды нового урожая. Погода стоит очень хорошая, кругом все зазеленело. Мы все еще живем на старой квартире, так как новую квартиру найти нельзя: в каждом доме стоят военные.
Мы живем по-прежнему. Олечка наша вполне здорова. Мы с ней каждый день ходим гулять. Она стала такая румяная. У нее на правой щечке появилась маленькая родинка. Это маленькое родимое пятнышко очень идет к ее и без того хорошенькому личику. Уж так она хороша! На улице, когда я с ней гуляю, все обращают на нее внимание. Она теперь, не закрывая рта, все время разговаривает. Гулять она очень любит. Аппетит у нее стал тоже хорош. Кушает она все. Очень стала любить манную кашу, но у меня она кончается, и уже нигде нельзя купить. Молоко я ей покупаю, хотя это и дорого. Я продаю муку, которая выдается, и на эти деньги покупаю кое-что для нее. Пока никаких вещей продавать не буду. Может, как-нибудь проживем.
Димуша мой родной! Как твои дела? Я каждый день с нетерпением жду от тебя писем. Очень, родной, хочется в Москву, но дорога страшит меня. Очень страшно пускаться в дорогу с доченькой. Ужас, пережитый при нашем переезде сюда, никогда не изгладится из моей памяти.
Тревожусь за тебя, мой ненаглядный. Ты пишешь, чтобы я была спокойной, но разве можно быть спокойной? Будешь ли ты со мной, любимый? Будешь! Конечно!
До свиданья, милый мой. Жду тебя. Горячо целую и обнимаю тебя.
Любящая тебя, твоя Руша».
«Будь твердой в тех испытаниях…»
Димитрий отозван из Москвы. Он теперь ждет назначения в Казани.
«Казань, 6 мая 1942 г., среда
Родная!
Мое предыдущее письмо еще было из Москвы, теперь я в Казани. События развернулись очень быстро. Я теперь нахожусь ближе к тебе на восемь сотен километров, но мне кажется, точно я стал еще дальше: так давно не получал писем от тебя и так нескоро, наверное, я их получу сюда.
Здорова ли ты, дорогая, здорова ли наша дочка? По всей видимости, все опять подорожало у вас, и, боюсь, ты испытываешь затруднения с продовольствием, да и с деньгами. Аттестаты мои вы должны были уже получить – я их отправил 8 апреля, но это так мало… Не понимаю все же, почему я не получал все это время от вас писем? Это заставляет меня беспокоиться за вас. И Москвы я выехал сюда 28-го. Здесь имеется электротехническое отделение, что соответствует моей специальности. Выйдет, однако, не так, как я предполагал: на комиссии, которую я здесь проходил, мне сказали, что сделают из меня танкиста, но все уточнится, быть может, завтра. Здесь курсы усовершенствования технического состава. Срок обучения не менее 2-3 месяцев. Я получу здесь подготовку на должность помощника командира танкового подразделения (батальона или бригады) по технической части.
Доехал я сюда неплохо, хотя ехал в товарно-пассажирском поезде в течение 4-х суток. Я и мои спутники заняли классный вагон, которых было всего два в составе, и имели возможность спать, так как в нашем распоряжении оказались вторые и третьи полки. Продовольствием мы были обеспечены и, кроме того, получали горячую пищу на пунктах питания.
Казань встретила нас дождем и, может быть, поэтому произвела на меня впечатление грязного города. Из-за непогоды не пришлось познакомиться с ним получше, хотя время для этого у нас нашлось бы. Курсируют трамвайчики, но их тут не очень много. Город большой, больше Рязани. Я был на двух центральных улицах – Баумана и Чернышевской. Они выглядят довольно приличными. Другие чрезвычайно запущены, залиты водой, благоустройства не заметно. Знаменитого Казанского Университета еще не видели, и едва ли в дальнейшем мне представится для этого время: занятия предстоят довольно напряженные.
От самой Казани я сейчас нахожусь в 45 минутах хода. Кормежка в количественном отношении лучше, чем в Москве. Обо всем буду писать тебе подробнее.
Милый, любимый, единственный друг мой! Будь здорова и не тревожься обо мне. Целую тебя горячо и нежно. Мне так недоставало тебя в Москве! Пиши мне и не забывай о любящем тебя так сильно и неизменно твоем муже.
Всегда твой, Тамарочка, Димитрий».