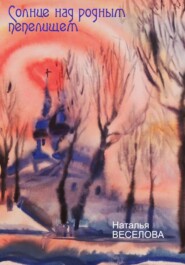По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голоса любви на путях войны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Голоса любви на путях войны
Наталья Александровна Веселова
Несколько лет назад в московской квартире своих умерших родственников автор обнаружил небольшой старинный чемоданчик, в котором оказались десятки подлинных писем, написанных во время Великой Отечественной войны. Их посылали друг другу с фронта и на фронт дедушка и бабушка автора и другие близкие люди. Напечатанные в хронологической последовательности с объяснениями и комментариями, дополненные богатым иллюстративным материалом, эти письма, вместе взятые представляют собой законченный, правдивый, полный искренних переживаний, увлекательный роман, который написала сама жизнь.
Наталья Веселова
Голоса любви на путях войны
Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство…
Евангелие от Марка 13:8; от Матфея 24:7
От автора
В прошлое методом полного погружения
С того московского Рождества незаметно прошло уже семь лет. Совсем не бесплодно, надо сказать, они прошли: написаны были два рассказа, две повести, четыре романа.
И одно эссе – ровно через год. Вернее, произведение, вполне подходящее по жанру и раз в пять превосходящее по общепринятому размеру. Оно было опубликовано в журнале «Золотое слово» – и неисповедимыми путями поселилось во всеядном интернете.
Мне, как принято говорить, крупно повезло: бесценный материал просто взял и оказался в моих руках сам – совершенно неожиданно. Не испытывая ничего, кроме досады, оттого, что природное любопытство не позволяет просто выкинуть, не вскрывая, облезлый, заведомо дрянной столетний чемоданчик с железными углами, я упорно шуровала прилагавшимся хлипким ключиком в ржавом замочке – и когда тот, наконец, лязгнул и выплюнул прямоугольный язычок, в прямом смысле обомлела. Вот, что я там увидела:
На тот момент с Победы прошел почти 71 год, с начала войны – 75. У меня захватило дух от такого рождественского подарка: через минуту я уже догадалась, что передо мной – настоящий роман в подлинных письмах военного времени. Их писали друг другу в течение всей Великой Отечественной войны и после нее бережно хранили до смерти мои родные дедушка и бабушка – Димитрий Владимирович Павлов (1910-1983) и его любимая жена – Тамара Сергеевна, урожденная Коршунова (1916-1997). Оказались там и письма, адресованные моему дедушке другими его родными – моей прабабушкой, а его мамой, Ольгой Павловной Павловой (урожденной Шокиной) (188?-1959) и двумя ее другими детьми, дедушкиными старшей сестрой и младшим братом: Марией Владимировной Карповой (урожденной Павловой) (1909-1981) и Романом Владимировичем Павловым (1912-197?). Было там и одно отчаянное письмо дедушки к своему тестю – отцу моей бабушки, Сергею Степановичу Коршунову (188?-195?).
Когда уже дома, в Петербурге, я более или менее разобралась со своей ошеломительной находкой, то поняла, что эти уникальные документы великой эпохи уже не могут являться собственностью только моей семьи: теперь они – достояние Истории и русского народа, потому что редко, когда и кому удавалось сохранить так много писем за весь период войны, да еще таких, которые, вместе взятые, представляют собой целую сложную, трудную и красивую повесть о любви, благородстве, материнстве и отцовстве, горе, подвиге, тревоге, ожидании, преданности, гордости, торжестве…
Нет, моего «по горячим следам» состряпанного эссе, содержащего лишь выдержки из некоторых писем, недостаточно, чтобы выразить всю ту многообразную гамму острых чувств, что пережили мои невыдуманные герои, по крови мне родные люди. Роман их жизни должен быть написан полностью.
Для этого необходимо добавить в текст большую часть писем, а само «эссе» превратить в… в то, что получится. Отсюда неизбежны в книге и «два слоя», сливать которые в один я не стану умышленно: один, семилетней давности, отразил мои первые, самые непосредственные впечатления от находки и последующей жадной работы с письмами; второй – теперешний, плод долгих раздумий и терзаний, из удивительного и страшного времени, исполненного жестокой тревоги и тайной надежды, когда снова пылает юг России, и «…победа еще в руке Господней»[1 - З. Гиппиус, «Поэты, не пишите слишком рано…»].
Я знаю достаточно много читателей, которые откровенно недолюбливают художественную литературу, справедливо полагая, что все отраженные там драмы и страсти, вымышленные праздными витиями, не заслуживают настоящего сопереживания, потому что никогда не происходили в действительности, а значит, попросту являются благопристойным обманом, незаконно щекочущим чувства. Меня как беллетриста такое мнение всегда больно задевало, и случилось мне даже быть однажды оскорбленной, а именно, услышать из уст значимого человека, узнавшего, что я села за очередную книгу, такой вопрос: «Ну, и что это на сей раз будет? Что-нибудь настоящее или опять из пальца высосанное?». Но на сей раз любители абсолютной правды могут быть спокойны: в этой книге все настоящее. Все люди, действующие в ней, не так давно дышали воздухом нашей планеты, страдали, алкали счастья и писали письма. Вы увидите их лица, узнаете их историю, глянете на мир их глазами.
И вот тут начинается самое странное. По мере погружения в переписку и параллельного изучения современных ей исторических событий, все больше и больше чувствуешь, какая непрямая и нестабильная субстанция – время. Смотришь на своих героев из будущего, закрытого для них непроницаемой, подчас пугающей завесой, а для тебя оно – давно минувшее, и, значит, известное… И вот, уже почти не различая прошлого и настоящего, все время хочешь то крикнуть: «Не беспокойся так, все обойдется!», то схватить за руку и удержать над пропастью, то просто пойти рядом с усталой молодой москвичкой по затемненной улице и на ухо рассказать ей о том, что ждет… Письма написаны так эмоционально и во всех смыслах чудесно, что очень легко проникаешься личностью каждого автора, буквально живешь за него, за него трепещешь, хотя и знаешь конец – и ситуационный, и земной… Написала это «чудесно» – и поняла: да, произошло чудо. Ведь письма достались не врачу, не физику-ядерщику – супругам, которые жили с ними (я не запуталась в местоимениях и глаголах, нет: письма тоже жили) в одной квартире 19 лет со дня смерти бабушки и ни разу не открыли чемодан, а если и открыли, – то просто захлопнули и задвинули обратно под кровать, – а писателю, который принял их из рук судьбы с изумленной благодарностью.
Я не перестаю испытывать ее и сейчас, семь лет спустя, когда с высоким страхом приступаю к этому радостному труду.
Наталья Веселова
Санкт-Петербург, 14 марта 2023 г., ровно 5 часов утра
«Все помыслы мои о тебе…»
Квартира уже продана, идут торопливые и бестолковые сборы последних вещей. Невесть отчего выворачивающая душу картина: хлам на полу, чужие люди, грохочущие ботинками по светлому паркету, голые, как глаза без ресниц, окна, лишенные штор… За ними, в фиолетовой ночи, стынет внизу пустая детская площадка, почти не изменившаяся за те сорок лет, что я на ней не играла, сияют радужными венцами далекие небоскребы, дымится сухим колючим морозом вечный город – Третий Рим. Святки в разгаре, но уже много лет не жгут костров, не поют колядок – с тех пор, как подмосковная деревня Щукино обернулась частью огромного Северо-Западного административного округа столицы. А ведь пели же когда-то, наверное… Давно, очень давно… Задолго до того, как в начале пятидесятых годов был построен этот добротный дом-«сталинка», где и получил от работы двухкомнатную квартиру инженер-изобретатель – мой дедушка Дмитрий Владимирович Павлов, ветеран Великой Отечественной войны…
Роскошь, конечно: две высокие светлые комнаты, одна четырнадцати метров, другая – страшно сказать! – двадцати двух, кухня с горячей водой и газом, ванна в метлахской плитке, шестой этаж с замечательным лифтом… Это, если бы в нее вселялись два человека – как, например, наша покупательница с дочкой-школьницей. Дмитрий, во время оно осчастливленный служебной жилплощадью, въехал с женой Тамарой, двумя детьми – пятнадцати и семи лет, а также с тещей и тестем. Тесть вскоре умер, остались впятером… Но в пятьдесят шестом году двадцатого века показалось великой удачей вырваться из большой комнаты в коммунальной квартире, где безропотно, долгие годы, привычно разгородившись мебелью, проживали в том же составе – и не жаловались: после войны полстраны десятилетия не могло раскопаться из землянок. Но вот оно – счастье: свой дом! Что еще надо трудящемуся интеллигенту? Только спокойно и честно трудиться, растить детей, любить жену, уважать тещу…
Так и случилось: дети выросли, получили достойное образование, покинули родительский дом, а старшая так и вовсе сменила Москву на Ленинград… Ничего, завели сиамского кота, баловали его, как ребенка, читали английские книги, смотрели черно-белый телевизор, гуляли в Покровско-Стрешневском лесопарке, кормили серых белок… А потом пришли болезни, простые и – смертные. А за ними – колумбарий через стенку от Донского монастыря. И еще семнадцать лет миновало – когда другими интересами и стремлениями жила в этой квартире семья младшего ребенка – сына, известного ученого, – и его тоже не стало. Дочь Ольга продала квартиру, а внучка Наталья (разрешите представиться) – разбирала старые бесполезные вещи, не надеясь ни на какие ценности, потому что проказница-жизнь усмешливо распорядилась так, что… В общем, спасибо, хоть стены уцелели для продажи… И небольшой фанерный чемоданчик, обшарпанно-коричневый, с металлическими углами и наивным замочком, миниатюрный ключик от коего кто-то давным-давно продел на шнурке сквозь петельку ручки…
Собственно, возилась я со вскрытием так, на всякий случай, ожидая увидеть очередные домашние лоскуточки-ниточки-пуговички, бедненькие, – то ли для рукоделия, то ли просто позабытые. И вздрогнула, обнаружив, что реликтовый чемодан доверху набит письмами, запечатанными в самодельные конвертики с номером полевой почты… Ошибиться было невозможно: так могла выглядеть только переписка военного времени. Письма – из тех, что, опаленные или полуистлевшие, с расплывшимися чернилами или вырванными клочками, истертые на сгибах, темно-желтые от времени, хранятся во всех музеях Великой Отечественной – от пролива Лаперуза до Калининграда. Но здесь, в двадцати минутах езды на метро от Красной площади, в январе 2016 года передо мной лежало горкой несколько десятков отлично сохранившихся писем, будто вчера полученных и прочитанных. Все-таки, первый раз я прикоснулась к ним с некоторой опаской: «старшим» – семьдесят пять лет, «младшим» – семьдесят, вдруг сейчас рассыплются в прах? Ничего подобного. Поразительно добротная бумага, ясно видимые чернила, четкие буквы… Я тотчас узнала почерки моих дедушки и бабушки, родителей мамы, – быстрой кровной памятью: беззаботной школьницей переписывалась с обоими из Ленинграда… В те годы сразу по буквам на конверте понимала, чьей рукой написано письмо, – хотя послания всегда были, конечно, их совместными… А эти аккуратные квадратики дедушка когда-то слал бабушке из Красной Армии, а она ему – из эвакуации и, позже, из Москвы. Руки мои, наконец, задрожали – и по мере того, как я все яснее осознавала, что именно держу, трепет все усиливался – так что пришлось опустить письма обратно в чемодан: они будто стали тяжелыми. Как золото.
Я все-таки нашла в этом разоренном доме клад.
До этого времени мне казалось, будто я достаточно знаю о том, что выпало на долю моих дедушки и бабушки во время войны – про бабушку даже больше, потому что она охотней рассказывала мне и маме, за месяц до войны родившейся, про ужасы эвакуационных мытарств. Дедушка же о тех днях почти не говорил при мне – да и вообще человеком был весьма закрытым, на слова скупым, иногда сдержанно-ироничным. «Той» еще, «старой» закалки – и смутных лет, когда многословие лишь вредило. Сын репрессированного: его отец, инженер, сосланный попросту «за происхождение» (формальным предлогом послужил прибывший из Америки на его имя технический журнал, из чего было раздуто дело о «вредительстве» – хорошо хоть не о шпионаже!) в 1933 году и через три года в ссылке же умерший, был реабилитирован посмертно «за отсутствием события преступления» лишь в 1960 году – когда сын его уже переехал с семьей в свою первую и единственную отдельную квартиру. Собственно, вот он сам – инженер Павлов Владимир Павлович – и его единственное, драгоценное, сохранившееся письмо (верней, часть письма) с Первой Мировой – к жене Ольге.
«25 июля (7 VIII) 1916 №49
Дорогая Олечка! В субботу получил твое письмо от 7 июля № 19. Собирался отвечать на него вчера, но вчера приехала к нам генеральша Клюева, и все было связано с этим фактом. Я жду еще твоего № 18, чтобы узнать, что случилось с твоим пальчиком, и в котором ты должна была написать по поводу приезда Лиды. Я ровно две недели не получал твоих писем, а, когда получил, едва узнал твою руку, таким дрожащим почерком написано. Обращалась ли ты к доктору? Посылаю тебе свою карточку, снялся я на прошлой неделе. Я в новом кителе, который сшил себе на Пасху, погоны – присланные Толей. Другую посылку от начала июня также получил. Поздравляю тебя с днем рождения Димы, целую и поздравляю моего милого мальчика. Очень приятно, что Лида побывала у Вас, и Толя собирается приехать ей на смену. Мой привет им обоим».
Справка о реабилитации… Жаль, посмертная.
И метрика его сына Димитрия:
Обратим внимание на его восприемника (крестного). Это не кто иной, как родной старший брат отца ребенка, Михаил Павлович Павлов, статский советник. Пока в миру. Глубоко верующий человек, позже он станет священником и будет расстрелян большевиками за веру (официально – за контрреволюцию, конечно) ок. 1937 года. В списках канонизированных в 2000 году новомучеников и исповедников российских я его не нашла. Но верю, что это наш семейный святой, предстоящий на Небесах пред Господом за потомков.
Сохранилась единственная фотография о. Михаила, по которой понятно, что младший брат был очень на него похож. Надпись на обороте: «На память брату Владимиру. Священник Михаил. 1929 г.».
А с моим дедушкой Димитрием (он так и подписывал свои письма, не пропуская в крестильном имени первого, впоследствии самовольно удалившегося «и») за два года до войны произошла весьма странная и не то что неприятная – а, прямо скажем, жуткая история. Меня она касается непосредственно, ибо от кульминации напрямую зависело – родиться на этот свет моей маме, или нет, а значит, и мое здесь появление стояло в те дни под очень большим вопросом. В те годы наличие «бывших» в родословной советских работников проверялось вот так (даже модный советский юмористический журнал «Крокодил» в 1941 году нашел возможность высмеять это):
Подпись: «Значит, сведения о прабабушке Семичева верны. Перейдем к предкам постарше».
В 1939 году Димитрий Павлов, двадцатидевятилетний московский инженер-электротехник (не просто «из бывших», а еще и сын ссыльного, не забудем), случайно допустил серьезную ошибку в расчетах при проектировании секретного военного оборудования, и заметили ее только тогда, когда по неверному чертежу была изготовлена партия ни на что не годившихся приборов. Собственно, предыдущего предложения достаточно. Любой наш соотечественник старше сорока лет понимает, что с той минуты мой молодой дедушка мог с полным основанием считать себя покойником. Точно так же воспринимали его и все окружающие – друзья, коллеги и невеста Тамара, работавшая в том же проектном институте конструктором. Такое и в наши дни (представьте Сколково, например) с рук бы виновному не сошло – его жизнь на этом, конечно, не закончилась бы, но по развалинам ее он бы мыкался еще не один год. В условиях же сталинской мобилизационной политики и экономики конца тридцатых это с вероятностью до ста процентов означало быстрый расстрел после пары недель интенсивных пыток. Было назначено общее собрание коллектива института, на котором Димитрию предстояло быть единогласно заклейменным позором, разоблаченным в качестве вредителя и переданным в железные руки «органов». Выйти из актового зала без конвоя обреченный уже не рассчитывал. Тамара, одна из немногих коллег в те дни от любимого не отшатнувшаяся (а ведь в случае катастрофы ее породистая головка с плойками полетела бы с плеч второй, как принадлежащая внучке запытанного во время красного террора купца второй гильдии, дочери царского офицера и по совместительству – самому близкому человеку «диверсанта»), сидела в первом ряду и видела, как давал объяснения ее с виду спокойный жених. Ни одного слова она не запомнила – только рассказывала потом всю жизнь, что лицо «Димуши» стало белей бумаги – и горели на нем ультрамариновым огнем его пронзительные глаза… Он был красив, да. И благороден. И мужественен до самой смерти, которой в тот день еще не суждено было завершить свой победоносный замах. Вмешалось то, что в наше время называется человеческим фактором, – а лично я назвала бы просто и точно: чудо – в лице директора института, тоже оказавшегося честным и смелым человеком. Не убоявшись обвинений в пособничестве врагу, он произнес тогда целую пламенную речь – от чистого партийного сердца, и сумел убедить всех присутствовавших в истине – очевидной ныне, но в те годы труднодоступной: ошибиться может каждый, и обычный человеческий просчет вовсе не должен караться смертной казнью… Директор сам вскоре был репрессирован по другой причине; имени его я не знаю; был ли он тогда расстрелян или только получил срок – но на земле его, в любом случае, давно уже нет; зато есть поступки, которые гарантированно отправляют человека в рай.
Дедушка выглядел в ту пору примерно так. Молодой любитель шахмат…
В конце мая 1941 года у Павловых родилась дочь Ольга, и сразу Димитрия, «не кадрового» лейтенанта, призвали на военные сборы – на три коротких месяца…
На обложке все того же многими любимого «Крокодила» в те дни раннего улыбчивого лета можно было видеть вот такой добрый рисунок:
Симпатичные муж с женой разговаривают. Подпись под картинкой: «Чем так знамениты эти двое военных?». «Летчик – тем, что совершил три замечательных перелета». «А артиллерист?». «Тем, что у него не бывает перелетов». Народ доверял своей армии. Мои бабушка и дедушка, наверное, были очень похожи на этих дружных супругов… Военные сборы? Всего три месяца? Ну, что делать: надо – значит надо.
Вернулся Димитрий в Москву в июне 1946 года. «С любимыми не расставайтесь…»[2 - А.С. Кочетков (1900-1953), «Баллада о прокуренном вагоне».] – эти стихи уже были тогда написаны, с 1942 года начали расходиться по всей стране в списках; не знаю, слышали ли о них мои молодые дедушка и бабушка, но к ним, как и к миллионам расставшимся надолго – или навеки! – эти слова были ох, как приложимы…
Очень скоро он стал таким:
Стояла осень (золотая? серая? – никто даже не заметил). Взяв в кольцо Ленинград, которому предстояло еще стать городом-мучеником, немцы вплотную подступали к Москве. Паника, конечно, в столице случилась нешуточная – а как иначе? Продукты исчезли из магазинов, с наступлением ночи на охоту выходили мародеры и бандиты, люди в ужасе бежали из обреченного, как представлялось в те дни, города, официальная эвакуация, по свидетельствам современников, организована была из рук вон плохо… Москва подвергалась массированным вражеским налетам, бабушка Тамара с грудным ребенком на руках бегала по тревоге в бомбоубежище… Сейчас это кажется трюизмом: в конце концов, под бомбу не попала – так и жаловаться нечего. Правда. Но… «Горе беременным и питающим сосцами в те дни»[3 - Новый Завет. Марк, 13:17; Матфей, 24:19]. Евангелисты говорили о последних муках землян при конце света – но разве легче было в те дни, когда только казалось, что конец тот пришел? Женщинам объяснять не надо, что такое грудной ребенок на руках при самых благоприятных обстоятельствах: это не только умилительные щечки-пяточки, но и бесконечные, внезапные и непонятные болезни, мокрые и грязные пеленки (это сейчас изобретены спасительные памперсы, а в сорок первом году в бомбоубежище на это дело шли рваные тряпки и носовые платки), постоянный крик по неизвестным причинам, неотступный риск ему умереть то от одного, то от другого… А вот представьте себе, что все эти «временные трудности» вы переживаете не в квартире с электричеством, горячей водой, паровым отоплением и передовой безотказной техникой – а в грязном подвале, когда сверху на твой дом летят тонные бомбы, муж на фронте, и ты о нем ровно ничего не знаешь, работы у тебя, как у кормящей матери, нет и быть не может, еды тоже – и при всем этом ты знаешь, что завтра будет только хуже, потому что по улицам уже, возможно, будет маршировать вражеская пехота… Какая разница, какой и когда будет всеобщий конец, когда вот он, лично твой, – наступает, и ты беспомощна, беспомощна, беспомощна… А эта ниточка писем, что связывает тебя с любимым мужем, – она так хрупка, уязвима и непостоянна, что и легчайшая паутинка рядом с ней – канат… Вот первое сохранившееся письмо от него.
«Рязань, Октябрьский городок
15 октября. Среда. 2 часа утра.
Любимая моя! Дорогая моя Рушенька!
Я получил, наконец, долгожданное письмо твое. Очень рад твоему решению. Я уже хотел было дать тебе телеграмму, чтобы ты выезжала, родная, но решил дождаться ответа на свою телеграмму, которую послал тебе в воскресенье, беспокоясь полным отсутствием от тебя известий. Вчера, когда я пошел на почту, ничего от тебя еще не было, но вечером Грановский принес мне твое письмо и открытку. Я сегодня в карауле и не мог сам сходить на почту. Я знаю, моя родная, что тебе будет много затруднений с билетом, но ты должна преодолеть все это и выехать из Москвы. Мне бы очень хотелось, чтобы моя мама и Мура (сестра Димитрия – Н.В.) тоже выехали с тобой. В особенности мама, которая, хотя внешне тверда и спокойна, но на самом деле все так переживает. Мура писала, что она была больна, и я уверен, что это в связи со всеми этими событиями. Но кроме их обеих, есть еще престарелые тетки, которых мама, возможно, не захочет оставить. Вообще, я не могу решить, как лучше быть, но уже писал и дал телеграмму, чтобы мама выезжала.
Милая, дорогая подруга моя! Ты ведь знаешь, как горячо я люблю тебя! Ты знаешь, что все помыслы мои о тебе и маленькой дочке моей! Уезжай же спокойно и твердо и не тревожься так, как ты пишешь, родная. Нельзя подвергать нашу малышку всему, что связано с тревогами в Москве и прочему. Что же касается известий от меня, то пусть не болит твое любящее сердечко: ты будешь получать от меня письма, чего нельзя сказать с уверенностью, если ты останешься в Москве. (Димитрий намекает на возможную сдачу города с последующей оккупацией – Н.В.). Я буду и телеграфировать тебе, и ты очень хорошо сделала, что предупредила, что брат твой пока в Москве: я смогу обратиться к нему, если будет нужно. Отцу твоему я напишу тоже, но лучше бы знать адрес его полевой почты. Радость и счастье мое, Рушенька! Еще раз прошу – не тревожься так. Мне выпало большое счастье повидать тебя, милая женушка, и мою дочурку. Теперь, когда ты пишешь о ней, я так хорошо ее себе представляю! Когда я уезжал, она лежала на подушке и смотрела на меня своими ясными глазками. Мне жаль все же, что у меня нет твоей фотографии, кроме той, о которой я уже писал тебе. Но и она так много мне говорит о моей милой и любимой, так много вызывает прекрасных воспоминаний. (…) Дочка наша похожа не только на меня, но и на тебя тоже, иначе она не была бы такой хорошенькой. Родная! Если я получу заблаговременно телеграмму, то обязательно выйду к тебе, но могут быть всякие случайности – телеграммы иногда задерживаются, например. Ты не огорчайся очень этим, помни, что с тобой всегда горячая любовь моя!
(…)
Твой навеки любящий тебя муж твой Дима. Родная, дочку мою всегда целуй за меня. Д».
Наталья Александровна Веселова
Несколько лет назад в московской квартире своих умерших родственников автор обнаружил небольшой старинный чемоданчик, в котором оказались десятки подлинных писем, написанных во время Великой Отечественной войны. Их посылали друг другу с фронта и на фронт дедушка и бабушка автора и другие близкие люди. Напечатанные в хронологической последовательности с объяснениями и комментариями, дополненные богатым иллюстративным материалом, эти письма, вместе взятые представляют собой законченный, правдивый, полный искренних переживаний, увлекательный роман, который написала сама жизнь.
Наталья Веселова
Голоса любви на путях войны
Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство…
Евангелие от Марка 13:8; от Матфея 24:7
От автора
В прошлое методом полного погружения
С того московского Рождества незаметно прошло уже семь лет. Совсем не бесплодно, надо сказать, они прошли: написаны были два рассказа, две повести, четыре романа.
И одно эссе – ровно через год. Вернее, произведение, вполне подходящее по жанру и раз в пять превосходящее по общепринятому размеру. Оно было опубликовано в журнале «Золотое слово» – и неисповедимыми путями поселилось во всеядном интернете.
Мне, как принято говорить, крупно повезло: бесценный материал просто взял и оказался в моих руках сам – совершенно неожиданно. Не испытывая ничего, кроме досады, оттого, что природное любопытство не позволяет просто выкинуть, не вскрывая, облезлый, заведомо дрянной столетний чемоданчик с железными углами, я упорно шуровала прилагавшимся хлипким ключиком в ржавом замочке – и когда тот, наконец, лязгнул и выплюнул прямоугольный язычок, в прямом смысле обомлела. Вот, что я там увидела:
На тот момент с Победы прошел почти 71 год, с начала войны – 75. У меня захватило дух от такого рождественского подарка: через минуту я уже догадалась, что передо мной – настоящий роман в подлинных письмах военного времени. Их писали друг другу в течение всей Великой Отечественной войны и после нее бережно хранили до смерти мои родные дедушка и бабушка – Димитрий Владимирович Павлов (1910-1983) и его любимая жена – Тамара Сергеевна, урожденная Коршунова (1916-1997). Оказались там и письма, адресованные моему дедушке другими его родными – моей прабабушкой, а его мамой, Ольгой Павловной Павловой (урожденной Шокиной) (188?-1959) и двумя ее другими детьми, дедушкиными старшей сестрой и младшим братом: Марией Владимировной Карповой (урожденной Павловой) (1909-1981) и Романом Владимировичем Павловым (1912-197?). Было там и одно отчаянное письмо дедушки к своему тестю – отцу моей бабушки, Сергею Степановичу Коршунову (188?-195?).
Когда уже дома, в Петербурге, я более или менее разобралась со своей ошеломительной находкой, то поняла, что эти уникальные документы великой эпохи уже не могут являться собственностью только моей семьи: теперь они – достояние Истории и русского народа, потому что редко, когда и кому удавалось сохранить так много писем за весь период войны, да еще таких, которые, вместе взятые, представляют собой целую сложную, трудную и красивую повесть о любви, благородстве, материнстве и отцовстве, горе, подвиге, тревоге, ожидании, преданности, гордости, торжестве…
Нет, моего «по горячим следам» состряпанного эссе, содержащего лишь выдержки из некоторых писем, недостаточно, чтобы выразить всю ту многообразную гамму острых чувств, что пережили мои невыдуманные герои, по крови мне родные люди. Роман их жизни должен быть написан полностью.
Для этого необходимо добавить в текст большую часть писем, а само «эссе» превратить в… в то, что получится. Отсюда неизбежны в книге и «два слоя», сливать которые в один я не стану умышленно: один, семилетней давности, отразил мои первые, самые непосредственные впечатления от находки и последующей жадной работы с письмами; второй – теперешний, плод долгих раздумий и терзаний, из удивительного и страшного времени, исполненного жестокой тревоги и тайной надежды, когда снова пылает юг России, и «…победа еще в руке Господней»[1 - З. Гиппиус, «Поэты, не пишите слишком рано…»].
Я знаю достаточно много читателей, которые откровенно недолюбливают художественную литературу, справедливо полагая, что все отраженные там драмы и страсти, вымышленные праздными витиями, не заслуживают настоящего сопереживания, потому что никогда не происходили в действительности, а значит, попросту являются благопристойным обманом, незаконно щекочущим чувства. Меня как беллетриста такое мнение всегда больно задевало, и случилось мне даже быть однажды оскорбленной, а именно, услышать из уст значимого человека, узнавшего, что я села за очередную книгу, такой вопрос: «Ну, и что это на сей раз будет? Что-нибудь настоящее или опять из пальца высосанное?». Но на сей раз любители абсолютной правды могут быть спокойны: в этой книге все настоящее. Все люди, действующие в ней, не так давно дышали воздухом нашей планеты, страдали, алкали счастья и писали письма. Вы увидите их лица, узнаете их историю, глянете на мир их глазами.
И вот тут начинается самое странное. По мере погружения в переписку и параллельного изучения современных ей исторических событий, все больше и больше чувствуешь, какая непрямая и нестабильная субстанция – время. Смотришь на своих героев из будущего, закрытого для них непроницаемой, подчас пугающей завесой, а для тебя оно – давно минувшее, и, значит, известное… И вот, уже почти не различая прошлого и настоящего, все время хочешь то крикнуть: «Не беспокойся так, все обойдется!», то схватить за руку и удержать над пропастью, то просто пойти рядом с усталой молодой москвичкой по затемненной улице и на ухо рассказать ей о том, что ждет… Письма написаны так эмоционально и во всех смыслах чудесно, что очень легко проникаешься личностью каждого автора, буквально живешь за него, за него трепещешь, хотя и знаешь конец – и ситуационный, и земной… Написала это «чудесно» – и поняла: да, произошло чудо. Ведь письма достались не врачу, не физику-ядерщику – супругам, которые жили с ними (я не запуталась в местоимениях и глаголах, нет: письма тоже жили) в одной квартире 19 лет со дня смерти бабушки и ни разу не открыли чемодан, а если и открыли, – то просто захлопнули и задвинули обратно под кровать, – а писателю, который принял их из рук судьбы с изумленной благодарностью.
Я не перестаю испытывать ее и сейчас, семь лет спустя, когда с высоким страхом приступаю к этому радостному труду.
Наталья Веселова
Санкт-Петербург, 14 марта 2023 г., ровно 5 часов утра
«Все помыслы мои о тебе…»
Квартира уже продана, идут торопливые и бестолковые сборы последних вещей. Невесть отчего выворачивающая душу картина: хлам на полу, чужие люди, грохочущие ботинками по светлому паркету, голые, как глаза без ресниц, окна, лишенные штор… За ними, в фиолетовой ночи, стынет внизу пустая детская площадка, почти не изменившаяся за те сорок лет, что я на ней не играла, сияют радужными венцами далекие небоскребы, дымится сухим колючим морозом вечный город – Третий Рим. Святки в разгаре, но уже много лет не жгут костров, не поют колядок – с тех пор, как подмосковная деревня Щукино обернулась частью огромного Северо-Западного административного округа столицы. А ведь пели же когда-то, наверное… Давно, очень давно… Задолго до того, как в начале пятидесятых годов был построен этот добротный дом-«сталинка», где и получил от работы двухкомнатную квартиру инженер-изобретатель – мой дедушка Дмитрий Владимирович Павлов, ветеран Великой Отечественной войны…
Роскошь, конечно: две высокие светлые комнаты, одна четырнадцати метров, другая – страшно сказать! – двадцати двух, кухня с горячей водой и газом, ванна в метлахской плитке, шестой этаж с замечательным лифтом… Это, если бы в нее вселялись два человека – как, например, наша покупательница с дочкой-школьницей. Дмитрий, во время оно осчастливленный служебной жилплощадью, въехал с женой Тамарой, двумя детьми – пятнадцати и семи лет, а также с тещей и тестем. Тесть вскоре умер, остались впятером… Но в пятьдесят шестом году двадцатого века показалось великой удачей вырваться из большой комнаты в коммунальной квартире, где безропотно, долгие годы, привычно разгородившись мебелью, проживали в том же составе – и не жаловались: после войны полстраны десятилетия не могло раскопаться из землянок. Но вот оно – счастье: свой дом! Что еще надо трудящемуся интеллигенту? Только спокойно и честно трудиться, растить детей, любить жену, уважать тещу…
Так и случилось: дети выросли, получили достойное образование, покинули родительский дом, а старшая так и вовсе сменила Москву на Ленинград… Ничего, завели сиамского кота, баловали его, как ребенка, читали английские книги, смотрели черно-белый телевизор, гуляли в Покровско-Стрешневском лесопарке, кормили серых белок… А потом пришли болезни, простые и – смертные. А за ними – колумбарий через стенку от Донского монастыря. И еще семнадцать лет миновало – когда другими интересами и стремлениями жила в этой квартире семья младшего ребенка – сына, известного ученого, – и его тоже не стало. Дочь Ольга продала квартиру, а внучка Наталья (разрешите представиться) – разбирала старые бесполезные вещи, не надеясь ни на какие ценности, потому что проказница-жизнь усмешливо распорядилась так, что… В общем, спасибо, хоть стены уцелели для продажи… И небольшой фанерный чемоданчик, обшарпанно-коричневый, с металлическими углами и наивным замочком, миниатюрный ключик от коего кто-то давным-давно продел на шнурке сквозь петельку ручки…
Собственно, возилась я со вскрытием так, на всякий случай, ожидая увидеть очередные домашние лоскуточки-ниточки-пуговички, бедненькие, – то ли для рукоделия, то ли просто позабытые. И вздрогнула, обнаружив, что реликтовый чемодан доверху набит письмами, запечатанными в самодельные конвертики с номером полевой почты… Ошибиться было невозможно: так могла выглядеть только переписка военного времени. Письма – из тех, что, опаленные или полуистлевшие, с расплывшимися чернилами или вырванными клочками, истертые на сгибах, темно-желтые от времени, хранятся во всех музеях Великой Отечественной – от пролива Лаперуза до Калининграда. Но здесь, в двадцати минутах езды на метро от Красной площади, в январе 2016 года передо мной лежало горкой несколько десятков отлично сохранившихся писем, будто вчера полученных и прочитанных. Все-таки, первый раз я прикоснулась к ним с некоторой опаской: «старшим» – семьдесят пять лет, «младшим» – семьдесят, вдруг сейчас рассыплются в прах? Ничего подобного. Поразительно добротная бумага, ясно видимые чернила, четкие буквы… Я тотчас узнала почерки моих дедушки и бабушки, родителей мамы, – быстрой кровной памятью: беззаботной школьницей переписывалась с обоими из Ленинграда… В те годы сразу по буквам на конверте понимала, чьей рукой написано письмо, – хотя послания всегда были, конечно, их совместными… А эти аккуратные квадратики дедушка когда-то слал бабушке из Красной Армии, а она ему – из эвакуации и, позже, из Москвы. Руки мои, наконец, задрожали – и по мере того, как я все яснее осознавала, что именно держу, трепет все усиливался – так что пришлось опустить письма обратно в чемодан: они будто стали тяжелыми. Как золото.
Я все-таки нашла в этом разоренном доме клад.
До этого времени мне казалось, будто я достаточно знаю о том, что выпало на долю моих дедушки и бабушки во время войны – про бабушку даже больше, потому что она охотней рассказывала мне и маме, за месяц до войны родившейся, про ужасы эвакуационных мытарств. Дедушка же о тех днях почти не говорил при мне – да и вообще человеком был весьма закрытым, на слова скупым, иногда сдержанно-ироничным. «Той» еще, «старой» закалки – и смутных лет, когда многословие лишь вредило. Сын репрессированного: его отец, инженер, сосланный попросту «за происхождение» (формальным предлогом послужил прибывший из Америки на его имя технический журнал, из чего было раздуто дело о «вредительстве» – хорошо хоть не о шпионаже!) в 1933 году и через три года в ссылке же умерший, был реабилитирован посмертно «за отсутствием события преступления» лишь в 1960 году – когда сын его уже переехал с семьей в свою первую и единственную отдельную квартиру. Собственно, вот он сам – инженер Павлов Владимир Павлович – и его единственное, драгоценное, сохранившееся письмо (верней, часть письма) с Первой Мировой – к жене Ольге.
«25 июля (7 VIII) 1916 №49
Дорогая Олечка! В субботу получил твое письмо от 7 июля № 19. Собирался отвечать на него вчера, но вчера приехала к нам генеральша Клюева, и все было связано с этим фактом. Я жду еще твоего № 18, чтобы узнать, что случилось с твоим пальчиком, и в котором ты должна была написать по поводу приезда Лиды. Я ровно две недели не получал твоих писем, а, когда получил, едва узнал твою руку, таким дрожащим почерком написано. Обращалась ли ты к доктору? Посылаю тебе свою карточку, снялся я на прошлой неделе. Я в новом кителе, который сшил себе на Пасху, погоны – присланные Толей. Другую посылку от начала июня также получил. Поздравляю тебя с днем рождения Димы, целую и поздравляю моего милого мальчика. Очень приятно, что Лида побывала у Вас, и Толя собирается приехать ей на смену. Мой привет им обоим».
Справка о реабилитации… Жаль, посмертная.
И метрика его сына Димитрия:
Обратим внимание на его восприемника (крестного). Это не кто иной, как родной старший брат отца ребенка, Михаил Павлович Павлов, статский советник. Пока в миру. Глубоко верующий человек, позже он станет священником и будет расстрелян большевиками за веру (официально – за контрреволюцию, конечно) ок. 1937 года. В списках канонизированных в 2000 году новомучеников и исповедников российских я его не нашла. Но верю, что это наш семейный святой, предстоящий на Небесах пред Господом за потомков.
Сохранилась единственная фотография о. Михаила, по которой понятно, что младший брат был очень на него похож. Надпись на обороте: «На память брату Владимиру. Священник Михаил. 1929 г.».
А с моим дедушкой Димитрием (он так и подписывал свои письма, не пропуская в крестильном имени первого, впоследствии самовольно удалившегося «и») за два года до войны произошла весьма странная и не то что неприятная – а, прямо скажем, жуткая история. Меня она касается непосредственно, ибо от кульминации напрямую зависело – родиться на этот свет моей маме, или нет, а значит, и мое здесь появление стояло в те дни под очень большим вопросом. В те годы наличие «бывших» в родословной советских работников проверялось вот так (даже модный советский юмористический журнал «Крокодил» в 1941 году нашел возможность высмеять это):
Подпись: «Значит, сведения о прабабушке Семичева верны. Перейдем к предкам постарше».
В 1939 году Димитрий Павлов, двадцатидевятилетний московский инженер-электротехник (не просто «из бывших», а еще и сын ссыльного, не забудем), случайно допустил серьезную ошибку в расчетах при проектировании секретного военного оборудования, и заметили ее только тогда, когда по неверному чертежу была изготовлена партия ни на что не годившихся приборов. Собственно, предыдущего предложения достаточно. Любой наш соотечественник старше сорока лет понимает, что с той минуты мой молодой дедушка мог с полным основанием считать себя покойником. Точно так же воспринимали его и все окружающие – друзья, коллеги и невеста Тамара, работавшая в том же проектном институте конструктором. Такое и в наши дни (представьте Сколково, например) с рук бы виновному не сошло – его жизнь на этом, конечно, не закончилась бы, но по развалинам ее он бы мыкался еще не один год. В условиях же сталинской мобилизационной политики и экономики конца тридцатых это с вероятностью до ста процентов означало быстрый расстрел после пары недель интенсивных пыток. Было назначено общее собрание коллектива института, на котором Димитрию предстояло быть единогласно заклейменным позором, разоблаченным в качестве вредителя и переданным в железные руки «органов». Выйти из актового зала без конвоя обреченный уже не рассчитывал. Тамара, одна из немногих коллег в те дни от любимого не отшатнувшаяся (а ведь в случае катастрофы ее породистая головка с плойками полетела бы с плеч второй, как принадлежащая внучке запытанного во время красного террора купца второй гильдии, дочери царского офицера и по совместительству – самому близкому человеку «диверсанта»), сидела в первом ряду и видела, как давал объяснения ее с виду спокойный жених. Ни одного слова она не запомнила – только рассказывала потом всю жизнь, что лицо «Димуши» стало белей бумаги – и горели на нем ультрамариновым огнем его пронзительные глаза… Он был красив, да. И благороден. И мужественен до самой смерти, которой в тот день еще не суждено было завершить свой победоносный замах. Вмешалось то, что в наше время называется человеческим фактором, – а лично я назвала бы просто и точно: чудо – в лице директора института, тоже оказавшегося честным и смелым человеком. Не убоявшись обвинений в пособничестве врагу, он произнес тогда целую пламенную речь – от чистого партийного сердца, и сумел убедить всех присутствовавших в истине – очевидной ныне, но в те годы труднодоступной: ошибиться может каждый, и обычный человеческий просчет вовсе не должен караться смертной казнью… Директор сам вскоре был репрессирован по другой причине; имени его я не знаю; был ли он тогда расстрелян или только получил срок – но на земле его, в любом случае, давно уже нет; зато есть поступки, которые гарантированно отправляют человека в рай.
Дедушка выглядел в ту пору примерно так. Молодой любитель шахмат…
В конце мая 1941 года у Павловых родилась дочь Ольга, и сразу Димитрия, «не кадрового» лейтенанта, призвали на военные сборы – на три коротких месяца…
На обложке все того же многими любимого «Крокодила» в те дни раннего улыбчивого лета можно было видеть вот такой добрый рисунок:
Симпатичные муж с женой разговаривают. Подпись под картинкой: «Чем так знамениты эти двое военных?». «Летчик – тем, что совершил три замечательных перелета». «А артиллерист?». «Тем, что у него не бывает перелетов». Народ доверял своей армии. Мои бабушка и дедушка, наверное, были очень похожи на этих дружных супругов… Военные сборы? Всего три месяца? Ну, что делать: надо – значит надо.
Вернулся Димитрий в Москву в июне 1946 года. «С любимыми не расставайтесь…»[2 - А.С. Кочетков (1900-1953), «Баллада о прокуренном вагоне».] – эти стихи уже были тогда написаны, с 1942 года начали расходиться по всей стране в списках; не знаю, слышали ли о них мои молодые дедушка и бабушка, но к ним, как и к миллионам расставшимся надолго – или навеки! – эти слова были ох, как приложимы…
Очень скоро он стал таким:
Стояла осень (золотая? серая? – никто даже не заметил). Взяв в кольцо Ленинград, которому предстояло еще стать городом-мучеником, немцы вплотную подступали к Москве. Паника, конечно, в столице случилась нешуточная – а как иначе? Продукты исчезли из магазинов, с наступлением ночи на охоту выходили мародеры и бандиты, люди в ужасе бежали из обреченного, как представлялось в те дни, города, официальная эвакуация, по свидетельствам современников, организована была из рук вон плохо… Москва подвергалась массированным вражеским налетам, бабушка Тамара с грудным ребенком на руках бегала по тревоге в бомбоубежище… Сейчас это кажется трюизмом: в конце концов, под бомбу не попала – так и жаловаться нечего. Правда. Но… «Горе беременным и питающим сосцами в те дни»[3 - Новый Завет. Марк, 13:17; Матфей, 24:19]. Евангелисты говорили о последних муках землян при конце света – но разве легче было в те дни, когда только казалось, что конец тот пришел? Женщинам объяснять не надо, что такое грудной ребенок на руках при самых благоприятных обстоятельствах: это не только умилительные щечки-пяточки, но и бесконечные, внезапные и непонятные болезни, мокрые и грязные пеленки (это сейчас изобретены спасительные памперсы, а в сорок первом году в бомбоубежище на это дело шли рваные тряпки и носовые платки), постоянный крик по неизвестным причинам, неотступный риск ему умереть то от одного, то от другого… А вот представьте себе, что все эти «временные трудности» вы переживаете не в квартире с электричеством, горячей водой, паровым отоплением и передовой безотказной техникой – а в грязном подвале, когда сверху на твой дом летят тонные бомбы, муж на фронте, и ты о нем ровно ничего не знаешь, работы у тебя, как у кормящей матери, нет и быть не может, еды тоже – и при всем этом ты знаешь, что завтра будет только хуже, потому что по улицам уже, возможно, будет маршировать вражеская пехота… Какая разница, какой и когда будет всеобщий конец, когда вот он, лично твой, – наступает, и ты беспомощна, беспомощна, беспомощна… А эта ниточка писем, что связывает тебя с любимым мужем, – она так хрупка, уязвима и непостоянна, что и легчайшая паутинка рядом с ней – канат… Вот первое сохранившееся письмо от него.
«Рязань, Октябрьский городок
15 октября. Среда. 2 часа утра.
Любимая моя! Дорогая моя Рушенька!
Я получил, наконец, долгожданное письмо твое. Очень рад твоему решению. Я уже хотел было дать тебе телеграмму, чтобы ты выезжала, родная, но решил дождаться ответа на свою телеграмму, которую послал тебе в воскресенье, беспокоясь полным отсутствием от тебя известий. Вчера, когда я пошел на почту, ничего от тебя еще не было, но вечером Грановский принес мне твое письмо и открытку. Я сегодня в карауле и не мог сам сходить на почту. Я знаю, моя родная, что тебе будет много затруднений с билетом, но ты должна преодолеть все это и выехать из Москвы. Мне бы очень хотелось, чтобы моя мама и Мура (сестра Димитрия – Н.В.) тоже выехали с тобой. В особенности мама, которая, хотя внешне тверда и спокойна, но на самом деле все так переживает. Мура писала, что она была больна, и я уверен, что это в связи со всеми этими событиями. Но кроме их обеих, есть еще престарелые тетки, которых мама, возможно, не захочет оставить. Вообще, я не могу решить, как лучше быть, но уже писал и дал телеграмму, чтобы мама выезжала.
Милая, дорогая подруга моя! Ты ведь знаешь, как горячо я люблю тебя! Ты знаешь, что все помыслы мои о тебе и маленькой дочке моей! Уезжай же спокойно и твердо и не тревожься так, как ты пишешь, родная. Нельзя подвергать нашу малышку всему, что связано с тревогами в Москве и прочему. Что же касается известий от меня, то пусть не болит твое любящее сердечко: ты будешь получать от меня письма, чего нельзя сказать с уверенностью, если ты останешься в Москве. (Димитрий намекает на возможную сдачу города с последующей оккупацией – Н.В.). Я буду и телеграфировать тебе, и ты очень хорошо сделала, что предупредила, что брат твой пока в Москве: я смогу обратиться к нему, если будет нужно. Отцу твоему я напишу тоже, но лучше бы знать адрес его полевой почты. Радость и счастье мое, Рушенька! Еще раз прошу – не тревожься так. Мне выпало большое счастье повидать тебя, милая женушка, и мою дочурку. Теперь, когда ты пишешь о ней, я так хорошо ее себе представляю! Когда я уезжал, она лежала на подушке и смотрела на меня своими ясными глазками. Мне жаль все же, что у меня нет твоей фотографии, кроме той, о которой я уже писал тебе. Но и она так много мне говорит о моей милой и любимой, так много вызывает прекрасных воспоминаний. (…) Дочка наша похожа не только на меня, но и на тебя тоже, иначе она не была бы такой хорошенькой. Родная! Если я получу заблаговременно телеграмму, то обязательно выйду к тебе, но могут быть всякие случайности – телеграммы иногда задерживаются, например. Ты не огорчайся очень этим, помни, что с тобой всегда горячая любовь моя!
(…)
Твой навеки любящий тебя муж твой Дима. Родная, дочку мою всегда целуй за меня. Д».