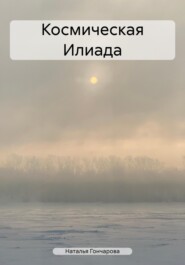По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Провинциальная история
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Перед ней стоял не Петр Константинович, по ком сердце билось так часто и так трепетно, аккурат, со вчерашнего вечера, а Михаил Платонович Игнатьев, собственной персоной.
Довольный и улыбающийся!
– Вы верно своего батюшку ждали, Татьяна Федоровна, не так ли? – пришел ей на помощь Игнатьев, от чьего взгляда не укрылось удивление и даже тень разочарования на лице барышни Гаврон.
– И вам доброго дня, Михаил Платонович. Да, конечно, – замешкалась Татьяна. – Он иногда обедает дома, ежели, ему надоедать обедать в трактире, – уклончиво объяснила она, но взяв себя в руки уже увереннее продолжила: – тем не менее, тот факт, что вы не папенька, ничуть не умаляет приятности от вашего визита.
– Ваши слова, услада для моих ушей, – проворковал он, целуя ее руку неприлично долго, так что успел даже пощекотать ее своими пышными и мягкими кошачьими усами.
– Не желаете ли отобедать? Или чаю?
– Знал бы что предложите, обедать бы не стал, а так, уж отобедал, премного благодарен, а вот от чая не откажус-с. Знаете ли, вкусный сорт чая в наших краях редкость и оттого ценность, – многозначительно произнес он.
– И не говорите, уж сколько мы не пробовали, все не то. Но я нашла такой, что мне по вкусу, и не горький и не пресный, а терпкий и густой, у госпожи Мазуровой выписываю, по каталогу, – серьезно заявила Татьяна.
– Вы, Татьяна Федоровна, редких женских качеств образец, – произнес он и посмотрел на нее искоса, слегка наклонив голову вправо, будто коршун на свою добычу.
– Это каких же? Боюсь поинтересоваться…
– Рачительность и хозяйственность, Татьяна Федоровна. Эти качества всему голова.
– Мммм…. – засмеялась Татьяна, – вы про эти качества! Лукавить и жеманничать не буду, в том смысле нет. Вы правы, все как есть.
Поговорили о том, о сем, обсудили дела городские, дела уездные, дела провинциальные.
Татьяна не осмеливалась посмотреть на него прямо. Лишь на секунду, когда он увлеченно отпивал из чашки, а взор его был устремлен на блюдце, она мимолетным взглядом окинула его. Зачем он пришел? Какие цели преследует? Не может быть, чтобы и он проявлял к ней интерес. Как, право, странно, то не было женихов, то сразу два.
Михаила Платоновича можно было даже назвать привлекательным, он был высок и крепок, не худ и не толст, но во всем его лице, была некая грубость и полное отсутствие изящества. Впрочем, как по ее мнению и в ней самой. И оттого ей казалось, будто они два деревянных неуклюжих и неповоротливых истукана, вытесанных из одного дерева и сложенных в одном сарае.
Не было в ее глазах восхищения им, ибо разве ж можно восхищаться мужчиной, видя себя в нем как в зеркале?
И беседуя о рытвинах, да канавах, о выборах, о землях, о строительстве Гимназии и других делах важных и насущных, однако же, лишенных какого бы то ни было духовного содержания проблемах, она то и дело поглядывала на часы. Сердце, сердце стремилось к тому, кто был так восхитительно непрактичен, и так притягательно неприспособлен к жизни.
Визит затянулся, но не настолько, чтобы стало неприлично, и Игнатьев хотя и человек грубый, тем не менее, не лишенный чувства меры и даже провинциальной галантности поспешил откланяться, и уже на пороге, будто невзначай, так, будто из учтивости спросил:
– Мне страсть как понравился ваш чай, но я в этом смыслю мало. Да и разве ж все смыслом обымешь? Я завтра собираюсь посетить Народный дом, меня тут пригласили в общество трезвости. Не смотрите на меня с осуждением, не я начинатель этого пустого дела, и толку в том вижу не больше вас, и даже поспешил бы отказать, ежели бы точно знал, что сие начинание приведет к результату, а так как знаю, что результата не будет, то отчего б не посетить?
Татьяна удивленно посмотрела на Игнатьева, с трудом понимая, как соотносится чай с обществом трезвости, но вслух ничего не сказала, а продолжила слушать, правда, уже чуть нахмурив брови.
– Я, верно, странно изъясняюсь, – засмеялся Игнатьев. Вот чего-чего, а ладной речи Бог мне не дал. Благо другим не обделил, – пошутил Михаил Платонович, но увидев что шутка сия отклика не нашла, уже серьезно продолжил: – Недалеко от Народного дома, есть чайная лавка, и столько сортов чая в ней, что поди туда я сам, мне и во век не разобраться. Не сопроводители ли вы меня завтра до Народного дома? Так сказать помощь в выборе оказать? Тем более там и книжная лавка есть, а я как успел заметить, вы книги любите… – заключил Михаил Платонович, и кивнул головой в сторону тумбы, где друг на друге лежала стопка книг, и, посмотрев снова на нее, на его таком уверенном лице, вдруг отразилась тревога и даже подобие смущения.
Татьяна Федоровна посмотрела на него и уже готова была поблагодарить, но отказаться, однако же, вид его, удрученный и робкий, что никак не вязался с его фигурой, сильной и уверенной вызвал вдруг в ее кажущемся жестком, но мягкосердечном сердце, отклик и неожиданно для самой себя она ответила:
– Мне будет крайне приятно оказать вам помощь, тем более в таком пустячном и не трудном деле.
– Тогда до завтра. Ровно в два. Под шпилем, – коротко будто отдал приказ, произнес Игнатьев и, распрощавшись, вышел.
Придя на встречу задолго до обещанного часа, с прицелом оглядеться, поразмыслить, и обрести умиротворение, Петр Константинович через минуту об этом пожалел. Вместо спокойствия к нему пришла такая нервозность, и такое беспокойство, что в пору хоть беги.
Вот только незадача, бежать то некуда, увы.
Через час ожидания и бесполезной маяты, вдали показалась бричка Гаврон.
И он, задержав на минуту дыхание, одел улыбку, как самый дорогой галстук, нервно поправил бутоньерку из искусственных цветов в кармане сюртука, и шагнул на мостовую так же решительно как шагают только в будущее, минуя настоящее.
– Татьяна Федоровна! Вы обворожительны! – воскликнул Синицын и учтиво подал ей руку, помогая спуститься с брички.
Правда, была в том приветствии доля лукавства. Не то чтобы она не была обворожительна, хотя, к чему обманывать, в тот день, обворожительного в барышне Гаврон, было мало. Розовый цвет делал ее лицо болезненным, а огромные воланы на рукавах, делали ее приземистое низкорослое, но крупное тело почти квадратным. Он и вчера заметил, что миниатюрной назвать ее было нельзя, однако еще вчера она не выглядела столь пугающе громоздко.
Его чувства к ней будто качели, на середине – встреча первая, вверх – встреча вторая, ну а сейчас – черед вниз падать.
Она же глядела на него с тем же восхищением, что и вчера и даже больше. За годы, проведенные в Петербурге, он и правда приобрел лоск, пообтесался, стал гибче во вкусах и во взглядах. В нем не было больше той косности, и той узости мышления, что часто встречается у провинциальных жителей. А посему, для барышни Гаврон, неискушенной провинциальной старой девы, он был почти принц, из прекрасной и далекой страны.
– Татьяна Федоровна, я весь в вашей власти! Так что путь указывать только вам, за то время что меня не было здесь, так много изменилось. Гимназия, Народный дом, и дух, дух города другой, дух торговли, дух коммерции. Великолепно! Старый добрый уездный город Б, и не узнать.
– На заднем дворе гимназии есть сад, в будние дни он открыт для посетителей, и там чудо как хорошо.
Синицын галантно подставил ей руку, а она робко оперлась о нее.
Ее густые тяжелые русые волосы были зачесаны на прямой пробор и скреплены на затылке. Прямой крупный и решительный лоб. Чуть хмурые брови вразлет. Черты ее лица были правильны, однако же, излишне строги, если не сказать суровы.
Он с любопытством смотрел на нее сверху вниз, пока они шли к саду, и с удивлением осознавал, что может так случиться, а скорее более чем вероятно, в скором времени она станет его женой. И что прикажете с этим «счастьем» делать?
Эта мысль не была ему противна, и даже чем-то нравилась ему. Было в ее твердой фигуре нечто спокойное, надежное, и незыблемое, и устав трепетать на ветру то влево, то вправо, будто флюгер на ветреном месте, он был и рад тому спокойствию и ровным, но теплым чувствам.
Поговорили о книгах, о природе, немного о благоустройстве, но совсем чуть-чуть, и снова о книгах.
Он рассказывал о Петербурге, обо всем что видел и где бывал, разумеется, упуская подробности, что выставили бы его в нелестном свете в ее глазах. Она не знала о нем ничего, и это нравилось ему, так как давало возможность нарисовать образ самого себя таким, каким он хотел себя видеть, а не таким какой он есть. И все было прекрасно, до той поры, пока она не спросила:
– Значит ли это, что вы желаете и имеете намерение вернуться в Петербург, как только все ваши дела здесь будут улажены? – осторожно спросила она, стараясь не выдать свой главный страх.
От его взора не скрылось, как при этих словах она задержала дыхание, а взгляд предусмотрительно отвела, верно, чтобы он ничего не смог прочесть в них.
И неожиданно для самого себя, в ответ на чистоту и ясность этих женских чувств, перечеркнув весь тот образ бравого петербургского франта, который он так тщательно рисовал, он произнес:
– По правде сказать, не верьте всему тому, что я говорил вам минуту назад. Я лишь хотел очаровать вас и произвести благоприятное впечатление, но видимо перестарался, – полушутя произнес он. – Видите ли, Татьяна Федоровна, я глубокий провинциал, и как бы не было тяжело мне в том признаваться, я там чужой. И выглядел в том обществе нелепо, несуразно и даже старомодно. Я не вернусь туда, мне нет там места. Столицу покоряет тот, кому есть, что предложить, а мне нечего было предложить тогда, нечего предложить и сейчас. А посему в столице я обречен на поражение. Видите ли, Идолу тщеславия надобно приносить жертву не единожды, а каждый Божий день, но даже после того, ты не можешь быть уверен в результате. Он хитрый, он коварный, он так и норовит, взять, а тебя измолоть, уничтожить, а прах твой выкинуть, будто золу из печки.
И как только он произнес это, слова, которые до того момента казались искусственными цветами бутоньерки, оттаяли, ожили и зацвели. Их беседа, перестала быть фарсом и театральной пьесой, а стала подлинными диалогом жизни.
Он остановился и посмотрел на нее тревожно, но, не поняв по ее внимательным глазам ровным счетом ничего, спросил:
– Верно вы обо мне теперь дурного мнения? – и напряженно нахмурился.
– Вот видите, на переносице у вас морщинки, – и она дотронулась пальцем до сердитой складки между бровей. – Это хороший знак, люди без морщин меня пугают, такие гладкие, такие правильные, не хмурятся – а значит, не думают. – Затем немного помолчав, продолжила:
– Я, Петр Константинович, в юности тоже была о себе гораздо лучшего мнения, чем сейчас, все детство мне казалось, будто во мне нечто особенное, а теперь мне почти тридцать, а ничего особенного во мне так и нет. И знаете, и хорошо, великая свобода быть непримечательным человеком, ты никто, а до тебя и дела нет.
Не так далеко от них гуляла пара, чуть дальше еще одна, но он, словно забыв обо всем, будто были они в том саду одни, вдруг притянул ее к себе, наклонился и молниеносно поцеловал ее, так что их губы соприкоснулись лишь на миг, а затем так же резко выпустил из своих ладоней.