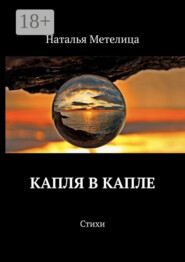По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
От шрама до шарма. Стихи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
в голод свой пришлось,
постигая в з г л я д о м
смысл тарелки.
Давай остановимся
Давай остановимся.
Лучше не будет.
А значит, и хуже не надо искать.
Я долго жила в полудетской причуде
и пальцем крутила сама у виска.
И вроде всё честно, и слёзы взаправду,
и смех настоящий, и почерк родной,
но даже той правде как будто не рада,
стихи закрывая в шкатулку для снов.
Пусть каждая буква болезненной блажи
дождётся своё сновиденье, и там
останется вечно – скитаться пропажей,
не нужной ни детским,
ни взрослым мирам.
Насмарку
Смешно ведь думать, что однажды
придут ко мне чужие дни
и убедительно докажут,
что и чужие – все м о и.
А я, проснувшись рано утром,
у них спрошу: «Не всё ль равно
уже, в какое время суток
снимать
н е з р я ч е е кино?»
Рассвет
…И даже если он не верил
в очередное пробужденье, —
вновь приходил. Стоял под дверью,
хотя и сам закрыл те двери
вчера… —
где он решил, что хватит
с него надежд на исцеленье,
когда лежал весь день в кровати,
виня других в хандрящей лени.
Да вот опять, болван упрямый,
пришёл к себе, как будто к людям.
А двери заперты.
«Где мама?
Меня хоть кто-нибудь здесь любит?!..»
…
Потом он вспомнил, что рассветы
живут без мамы. Только ветер
их иногда в руках качает
и шепчет в ушко:
«Всё сначала…»
Ах, ветер…
Одинокий врушка…
Медленно
Руки трогают медленно,
но успевают.
В этом главный секрет —
не спешить никуда.
Я запомнила всё —
значит, буду живая.
Даже если судьба —
опоздать.
Коновалы ни при чём
Не приезжай. Мой город занемог —
И выписал себе врача другого.
Иначе вновь припрёшься бестолково,
Надеясь, что решится всё само.
И будут дальше рушиться дома.
И улицы сбиваться с полдороги.
И каждый житель, с кем-то одинокий,
Сведёт его для равенства с ума.
Так неужели ты готов терпеть
Больного, кто тебя возненавидит,
Пока ты, ковыряясь в алфавите,
Словам и то приказывал болеть?!..
Без сладкого
Объятьем связаны как лентой.
Струится шёлк игривых ласк.
А в голове всё перепето
Сто тысяч никудышных раз.
постигая в з г л я д о м
смысл тарелки.
Давай остановимся
Давай остановимся.
Лучше не будет.
А значит, и хуже не надо искать.
Я долго жила в полудетской причуде
и пальцем крутила сама у виска.
И вроде всё честно, и слёзы взаправду,
и смех настоящий, и почерк родной,
но даже той правде как будто не рада,
стихи закрывая в шкатулку для снов.
Пусть каждая буква болезненной блажи
дождётся своё сновиденье, и там
останется вечно – скитаться пропажей,
не нужной ни детским,
ни взрослым мирам.
Насмарку
Смешно ведь думать, что однажды
придут ко мне чужие дни
и убедительно докажут,
что и чужие – все м о и.
А я, проснувшись рано утром,
у них спрошу: «Не всё ль равно
уже, в какое время суток
снимать
н е з р я ч е е кино?»
Рассвет
…И даже если он не верил
в очередное пробужденье, —
вновь приходил. Стоял под дверью,
хотя и сам закрыл те двери
вчера… —
где он решил, что хватит
с него надежд на исцеленье,
когда лежал весь день в кровати,
виня других в хандрящей лени.
Да вот опять, болван упрямый,
пришёл к себе, как будто к людям.
А двери заперты.
«Где мама?
Меня хоть кто-нибудь здесь любит?!..»
…
Потом он вспомнил, что рассветы
живут без мамы. Только ветер
их иногда в руках качает
и шепчет в ушко:
«Всё сначала…»
Ах, ветер…
Одинокий врушка…
Медленно
Руки трогают медленно,
но успевают.
В этом главный секрет —
не спешить никуда.
Я запомнила всё —
значит, буду живая.
Даже если судьба —
опоздать.
Коновалы ни при чём
Не приезжай. Мой город занемог —
И выписал себе врача другого.
Иначе вновь припрёшься бестолково,
Надеясь, что решится всё само.
И будут дальше рушиться дома.
И улицы сбиваться с полдороги.
И каждый житель, с кем-то одинокий,
Сведёт его для равенства с ума.
Так неужели ты готов терпеть
Больного, кто тебя возненавидит,
Пока ты, ковыряясь в алфавите,
Словам и то приказывал болеть?!..
Без сладкого
Объятьем связаны как лентой.
Струится шёлк игривых ласк.
А в голове всё перепето
Сто тысяч никудышных раз.