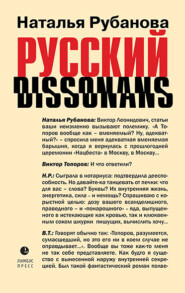По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Карлсон, танцующий фламенко. Неудобные сюжеты
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я промолчала. Вскоре мой дом начал отдалённо напоминать выставку «Мэй-хуа» в Красных палатах: по Остоженке летали тогда белые мухи: о, как же холодно им, должно быть, леталось! В Красных же палатах было тепло – оно шло от вееров, сандаловых шаров, нефритовых тушечниц, резного красного лака и всевозможных благовоний вперемешку с обволакивающей мой рассудок – прошлого уже века, подумать только! – пентатоникой из двухкассетника.
Теперь, вместо кровати и прочих предметов так называемой первой необходимости, у меня появилась вся эта обалденная хрупкая чушь. Спальник спрятался за ширмой, у которой прижился радужный ночник с красными рыбками, на кухне воцарились сандаловые палочки, а в коридоре – огромный напольный веер с тыквами-горлянками.
Наша дружба с китайцем была исключительно платонической: мужчины перестали интересовать меня как класс, я смотрела «сквозь» них, а не «на» – ведь они жили в аквариуме, а я – снаружи. Правда, я ещё возбуждала мужчин как класс, и это озадачивало, особенно когда они делали неи навязчивые попытки объяснить мне нечто, понятное лишь им самим. С китайцем же было всё по-другому – и – хорошо… С русским так быть не могло. Русский обязательно бы всё испортил! Пусть не сразу, но обязательно бы испортил. А с китайцем всё было по-другому хотя бы уже в силу того, что он не был русским… понятно, да?
К тому времени я одинаково снисходительно относилась как к нашим музыкантам, врачам, безработным, историкам, спортсменам, художникам, гениям, так и к не-нашим-тоже-приматам. К тому времени русские музыканты оставили свою музыку, врачи – больных, безработные – инфляцию, историки – ничего не оставили (как и спортсмены), художники – рисунки, гении тоже ничего не оставили, как и все прочие. Потребность в общении с отечественными мужчинами отпала как таковая, исключая вынужденное их лицезрение на улицах, да разве что на работке, с которой я собиралась слинять вот-вот. Итак, китаец не был русским — это стало его главным преимуществом и неоспоримым достоинством.
– Клеопатра! Вы любите рыбу? – спрашивал он и всегда улыбался.
Он, чайных дел мастер, готовил роскошную белую рыбу с роскошными красными специями и был предельно тактичен, благоразумно не спрашивая, почему я живу одна и никто ко мне не приходит. Он читал мне стихи Ли Бо, рассказывал о Кантоне, Пекине, Гонконге, учил моментально чистить креветку и даже не намекал на «горизонталь» – о чудо! Он, в конце концов, знал, что сплю я в спальнике, а этюды Шопена слушаю под чёрное пиво. Единственное, чему он удивлялся, так это градусам, принятым широкой русской душой по поводу и без.
– Зачем? – недоумевал он. – Зачем человек покупает ещё бутылку, если уже и так падает? Не понимаю, – китаец действительно не понимал (я в своё время тоже не понимала, зачем ещё, если и так). – Нет, в Китае так не пьют! – и улыбался.
Китаец учил меня правильно дышать: «Все проблемы Клеопатры оттого что она неправильно дышит!», потом принёс «Практику цигуна» с «Дао дэ цзин», и я перечитала их ещё раз. И ещё. И задышала.
Китаец относился ко мне как к младшей сестре, а, может, как к бездомной собаке: я не могла разобраться в этом, я тогда ни в чём не хотела разбираться – достаточно было того, что человек, сидящий напротив, не напрягал. Китайцу нравился старый «Чайф», солёные огурцы и «Медовое крепкое». За поглощением пива с огурцами под старый «Чайф» и накрыл нас звонок в дверь. У меня случился день рождения. Обо мне вспомнили. Загрузили цветами и улыбками. Удивлённо посмотрели на китайца. Старые друзья ведь не могли знать о китайце…
Старые друзья рассказали о жизни. Жизнь у старых друзей была старая и неинтересная, но не у всех – у некоторых была новая и на уровне, правда, те уже не были друзьями. После тостов я растрогалась и начала вещать что-то дикое о китайском национальном костюме. Старые друзья хлопали меня по плечу, я каялась в своей «пропаже» – но: не могла же я сказать им, что ищу собственную субстанцию, собственную потерянную изначальную структуру, которой, возможно, не существует?
Я могла только молчать об этом. С китайцем. Китаец исподволь открывал мне – меня же: о да, так бывает! Той осенью мы часто ездили за город. За городом всё другое: небо, деревья, земля… За городом мы с китайцем смотрели на рябину и жёлтый падающий лист… Шаркали ногами… Садились в электричку, которая странным образом не напрягала: наоборот – ведь я ехала с китайцем, и ничего другого просто не существовало. Я снова различала давно забытое и вспоминала запах опавшей листвы.
Он много чего рассказывал, китаец. Например, древний миф о рождении десяти солнц. Начало помню дословно: «За юго-восточным морем жила женщина по имени Си-хэ. После того, как она вышла за Ди-ку, Си-хэ родила десять солнц, купающихся в водоёме Благости…» Говорил и о великане Пань Гу, породившем из себя всё сущее (людей – из собственных, кстати, вшей), и о бабочке с Лао-цзы… Китаец чертил на песке иероглифы, повторяя, что их на самом деле придумали звери и птицы, оставлявшие на земле следы, а Жёлтый император лишь упорядочил странные знаки…
Однажды мы заехали совсем далеко. В том «далеко» существовала избушка на берегу реки, а в избушке существовал, как уж мог, друг китайца. Петляющая дорога, ведущая к избушке, располагала к возвращению в собственную (не)существующую изначальную структуру: узкая тропка, ёлки-сосны, птицы, облака, бульканье рисовой водки в сумке китайца, а также неожиданно открывающийся пейзаж с афроамериканцем, водоёмом и неиспорченной бледнолицыми природой.
– Это Джим, мой друг, – сказал китаец, указывая на чёрного человека.
– Он тоже китаец? – из фантома детской, должно быть, вредности буркнула я, словно мне было лет восемь.
– Нет, он негр… Он приехал из Вашингтона, он аспирант. Джим сам построил свой домик. Джим прекрасно разбирается во всём. Сейчас увидишь, – с этими словами китаец пригласил меня в галерейку. – Джим пишет и продаёт картины, он талантлив…
Кажется, Джим действительно был талантлив: у него получались неплохие копии Ци Байши. На мгновение я утонула в «Бабочке и цветущей сливе», незаслуженно постигнув вечный закон растения и насекомого, но мне помешал традиционный набор простейших фраз: «Hi, I’m Jim!.. What’s your name?.. Do you speak?..», etc.
Я обернулась, назвалась Клеопатрой и слабо спикнула по инглишу, снизу вверх – неправильным тоном иероглифа, – поглядывая на Джима. В нём умещалось метра два или около того. Ещё в нём умещались ночь и снег – угольно-чёрная кожа и белые-белые зубы, ногти, белки глаз – тоже чёрных. Курчавые волосы выбивались из-под треуголки времён, наверное, барона Мюнхгаузена. Остальное казалось вполне традиционным: джинсы, свитер, кеды, только всё очень большое и, как бы это сказать, понарошное.
Джим пригласил нас к столу: столом назывался ящик, служивший когда-то тарой марокканским апельсинам. Вместо стульев использовались точно такие же ящики, но для бананов и, видимо, распиленные. Китаец достал рисовую водку, огурцы и крабовые палочки. Джим крякнул от удовольствия – видимо, талантливые художники, неплохо копирующие Ци Байши в далёком российском лесу, всегда крякают от удовольствия при виде рисовой водки.
После третьей заговорили про гохуа[36 - Живопись тушью и водяными красками.] и традиционные каноны, а после пятой вышли к воде. Я мысленно просила реку раскрыть тайну её течения, но река молчала. Я вспомнила о Сиддхартхе и растрогалась – после рисовой водки я часто вспоминала Сиддхартху, да, впрочем, не только после рисовой! Стало грустно и я позволила себе прочесть то, что никогда раньше не позволяла – любимое стихотворение в жанре ци. И каково же было моё удивление, когда Джим на неизвестном мне инструменте заиграл ту самую мелодию «Ицзяннань»!
Я причесалась
И спешу скорей
Окинуть взглядом с башни
Даль речную —
Там всюду лодки,
Только нет одной…
Косой луч солнца
Гаснет над волной,
И отмель погрузилась
В тьму ночную[37 - Из китайской поэзии.].
– Оставь, – сказал после долгой паузы китаец. – Оставь.
– Кого? Что? – удивилась я.
Китаец смотрел на меня как на больного ребёнка и повторял «Оставь» как мантру, заглядывая в самую глубь. Я же долго-долго, как мне казалось, смотрела в самую глубь китайца, пока не поняла, что давно уже кричу на весь лес и бегу куда-то.
Картина была ещё та: так называемая Клеопатра, продирающаяся через ёлки-палки, а за ней – негр и китаец, тоже продирающиеся через ёлки-палки. Потом все устали и сникли. Джим, чтобы окончательно успокоиться, начал рассказывать об истоках спиричуэлса, плавно перейдя к своему первому «русскому» новому году:
– Я был в лесу, один. У меня была палатка «Зима» и две бутылки водки.
– Что такое палатка «Зима?» – спросила я.
– Обыкновенная, только тёплая и с трубой. В «Зиме» не холодно даже в минус двадцать.
Я поёжилась и, кажется, действительно оставила то, о чём говорил китаец час назад.
После той поездки я заболела, не могла ни говорить, ни ходить – мой китаец же отлично справлялся с ролью сиделки и носил меня на руках в туалет. Никогда в жизни ни один китаец не носил меня на руках в туалет и не смотрел так виновато:
– Это из-за меня! – говорил он, обматываю мою шею шарфом. – Нельзя после рисовой водки русской женщине лезть осенью в реку! Русская женщина, пусть даже Клеопатра, не может сочетать «Ицзяннань» и моржевание!
Я слабо хрипела и держала его за руку. В глазах плыло – во мне сидело все сорок; китаец поил мою оболочку горькими травами и аспирином.
Вскоре приехал Джим: увидев чёрную рожу, моя сорокоградусная кровь – да-да, именно такой порядок слов, всё прибито к больному месту как надо, – испугалась, но, вспомнив ящик из-под марокканских апельсинов в далёкой избушке, словно бы потянулась к нему. Я не представляла тогда более идеального цвета лица, нежели цвет лица Джима. А Джим улыбался… и я совсем уже его не боялась! Он указал на новый ящик с настоящими марокканскими апельсинами, а через несколько часов притащил кресло-кровать, на которое я благополучно перебралась. Джим приходил почти каждый вечер: рассказывал о спиричуэлсе и мурчал блюзы. Я же только моргала и кивала, питаясь исключительно сладкими апельсинами – никогда в жизни ни один негр не дарил мне столько сладких апельсинов! Я поняла, что не хочу видеть никого, кроме негра и китайца: я не бредила – я спала, наверное, несколько недель, пока однажды на кресло-кровать не присел Старик. От удивления я даже не шевельнулась, ну а он сказал:
– Ты живёшь неправильно. Ты не поправишься, если… – но исчез, не договорив.
«Что за чертовщина, – только и подумала я. – Что за чертовщина?»
Через сутки показалась Женщина в чём-то прозрачном и, покачав головой, произнесла:
– Ты не должна делать этого, иначе… – и тоже исчезла, не договорив, а я зажмурилась и выругалась.
На третью ночь увидела Мужчину. Он строго смотрел на меня, хмурился и многозначительно молчал, после чего вполне идиотично испарился.
На четвёртую прибежал дебиловатый Ребёнок с криком: «А король-то голый!» – и нагло растворился в воздухе.
Я начала думать, что погружаюсь в мрачное Бардо из «Тибетской книги мёртвых», которую мы читали с китайцем, и лишь крик: «А король-то голый!» вычеркнул из моих заумей остатки причинно-следственных связей. С трудом привстав, я взглянула на китайца: тот дремал. От страха мне захотелось дотронуться до него. Я коснулась его руки и вдруг поняла, что рука – ненастоящая. Я погладила эту ненастоящую руку, сбавив, если можно так выразиться, обороты ужаса: конечность очень напоминала резиновую, только была мягче. Я, кажется, закричала… а кто бы не закричал на моём месте? Китаец очнулся и вздохнул:
– Ну и что, что ненастоящая? Смотря что считать настоящим, – так объяснил он мне феномен своего тела. – Если бы не это «ненастоящее», ты свихнулась бы в своей квартирке. Да, ты ведь свихнулась бы, Клеопатра, признайся!
– А Джим тоже… такой? – робко спросила я.
– Нет, – китаец стал предельно серьёзен и через миг рассыпался на крошки. – Нет.
Я забралась под одеяло и вспомнила о голом короле, а потом незаметно для себя уснула, не веря в происходящее и почти поверив в то, что Земля стоит на трёх огромных черепахах.
Прошло сколько-то времени. Я почти успокоилась, спрятала веера, палочки, сандаловые шары… Но ключицы всё ещё болели. У меня всегда болели ключицы, когда кто-то внезапно исчезал – навсегда. Я хорошо знала эту боль: так было и сейчас. Мне не хватало китайца, пусть даже ненастоящего, пусть резинового, пусть игрушечного! Я не понимала, откуда он взялся и куда исчез. К тому же, с ним исчез и Джим – оставалось лишь сушить апельсиновые корки вместо их сове?ццкнутых сухарей.
Как-то вечером я возвращалась из социума домой. И не успела захлопнуться за социумом дверь, как в мою позвонили.
Теперь, вместо кровати и прочих предметов так называемой первой необходимости, у меня появилась вся эта обалденная хрупкая чушь. Спальник спрятался за ширмой, у которой прижился радужный ночник с красными рыбками, на кухне воцарились сандаловые палочки, а в коридоре – огромный напольный веер с тыквами-горлянками.
Наша дружба с китайцем была исключительно платонической: мужчины перестали интересовать меня как класс, я смотрела «сквозь» них, а не «на» – ведь они жили в аквариуме, а я – снаружи. Правда, я ещё возбуждала мужчин как класс, и это озадачивало, особенно когда они делали неи навязчивые попытки объяснить мне нечто, понятное лишь им самим. С китайцем же было всё по-другому – и – хорошо… С русским так быть не могло. Русский обязательно бы всё испортил! Пусть не сразу, но обязательно бы испортил. А с китайцем всё было по-другому хотя бы уже в силу того, что он не был русским… понятно, да?
К тому времени я одинаково снисходительно относилась как к нашим музыкантам, врачам, безработным, историкам, спортсменам, художникам, гениям, так и к не-нашим-тоже-приматам. К тому времени русские музыканты оставили свою музыку, врачи – больных, безработные – инфляцию, историки – ничего не оставили (как и спортсмены), художники – рисунки, гении тоже ничего не оставили, как и все прочие. Потребность в общении с отечественными мужчинами отпала как таковая, исключая вынужденное их лицезрение на улицах, да разве что на работке, с которой я собиралась слинять вот-вот. Итак, китаец не был русским — это стало его главным преимуществом и неоспоримым достоинством.
– Клеопатра! Вы любите рыбу? – спрашивал он и всегда улыбался.
Он, чайных дел мастер, готовил роскошную белую рыбу с роскошными красными специями и был предельно тактичен, благоразумно не спрашивая, почему я живу одна и никто ко мне не приходит. Он читал мне стихи Ли Бо, рассказывал о Кантоне, Пекине, Гонконге, учил моментально чистить креветку и даже не намекал на «горизонталь» – о чудо! Он, в конце концов, знал, что сплю я в спальнике, а этюды Шопена слушаю под чёрное пиво. Единственное, чему он удивлялся, так это градусам, принятым широкой русской душой по поводу и без.
– Зачем? – недоумевал он. – Зачем человек покупает ещё бутылку, если уже и так падает? Не понимаю, – китаец действительно не понимал (я в своё время тоже не понимала, зачем ещё, если и так). – Нет, в Китае так не пьют! – и улыбался.
Китаец учил меня правильно дышать: «Все проблемы Клеопатры оттого что она неправильно дышит!», потом принёс «Практику цигуна» с «Дао дэ цзин», и я перечитала их ещё раз. И ещё. И задышала.
Китаец относился ко мне как к младшей сестре, а, может, как к бездомной собаке: я не могла разобраться в этом, я тогда ни в чём не хотела разбираться – достаточно было того, что человек, сидящий напротив, не напрягал. Китайцу нравился старый «Чайф», солёные огурцы и «Медовое крепкое». За поглощением пива с огурцами под старый «Чайф» и накрыл нас звонок в дверь. У меня случился день рождения. Обо мне вспомнили. Загрузили цветами и улыбками. Удивлённо посмотрели на китайца. Старые друзья ведь не могли знать о китайце…
Старые друзья рассказали о жизни. Жизнь у старых друзей была старая и неинтересная, но не у всех – у некоторых была новая и на уровне, правда, те уже не были друзьями. После тостов я растрогалась и начала вещать что-то дикое о китайском национальном костюме. Старые друзья хлопали меня по плечу, я каялась в своей «пропаже» – но: не могла же я сказать им, что ищу собственную субстанцию, собственную потерянную изначальную структуру, которой, возможно, не существует?
Я могла только молчать об этом. С китайцем. Китаец исподволь открывал мне – меня же: о да, так бывает! Той осенью мы часто ездили за город. За городом всё другое: небо, деревья, земля… За городом мы с китайцем смотрели на рябину и жёлтый падающий лист… Шаркали ногами… Садились в электричку, которая странным образом не напрягала: наоборот – ведь я ехала с китайцем, и ничего другого просто не существовало. Я снова различала давно забытое и вспоминала запах опавшей листвы.
Он много чего рассказывал, китаец. Например, древний миф о рождении десяти солнц. Начало помню дословно: «За юго-восточным морем жила женщина по имени Си-хэ. После того, как она вышла за Ди-ку, Си-хэ родила десять солнц, купающихся в водоёме Благости…» Говорил и о великане Пань Гу, породившем из себя всё сущее (людей – из собственных, кстати, вшей), и о бабочке с Лао-цзы… Китаец чертил на песке иероглифы, повторяя, что их на самом деле придумали звери и птицы, оставлявшие на земле следы, а Жёлтый император лишь упорядочил странные знаки…
Однажды мы заехали совсем далеко. В том «далеко» существовала избушка на берегу реки, а в избушке существовал, как уж мог, друг китайца. Петляющая дорога, ведущая к избушке, располагала к возвращению в собственную (не)существующую изначальную структуру: узкая тропка, ёлки-сосны, птицы, облака, бульканье рисовой водки в сумке китайца, а также неожиданно открывающийся пейзаж с афроамериканцем, водоёмом и неиспорченной бледнолицыми природой.
– Это Джим, мой друг, – сказал китаец, указывая на чёрного человека.
– Он тоже китаец? – из фантома детской, должно быть, вредности буркнула я, словно мне было лет восемь.
– Нет, он негр… Он приехал из Вашингтона, он аспирант. Джим сам построил свой домик. Джим прекрасно разбирается во всём. Сейчас увидишь, – с этими словами китаец пригласил меня в галерейку. – Джим пишет и продаёт картины, он талантлив…
Кажется, Джим действительно был талантлив: у него получались неплохие копии Ци Байши. На мгновение я утонула в «Бабочке и цветущей сливе», незаслуженно постигнув вечный закон растения и насекомого, но мне помешал традиционный набор простейших фраз: «Hi, I’m Jim!.. What’s your name?.. Do you speak?..», etc.
Я обернулась, назвалась Клеопатрой и слабо спикнула по инглишу, снизу вверх – неправильным тоном иероглифа, – поглядывая на Джима. В нём умещалось метра два или около того. Ещё в нём умещались ночь и снег – угольно-чёрная кожа и белые-белые зубы, ногти, белки глаз – тоже чёрных. Курчавые волосы выбивались из-под треуголки времён, наверное, барона Мюнхгаузена. Остальное казалось вполне традиционным: джинсы, свитер, кеды, только всё очень большое и, как бы это сказать, понарошное.
Джим пригласил нас к столу: столом назывался ящик, служивший когда-то тарой марокканским апельсинам. Вместо стульев использовались точно такие же ящики, но для бананов и, видимо, распиленные. Китаец достал рисовую водку, огурцы и крабовые палочки. Джим крякнул от удовольствия – видимо, талантливые художники, неплохо копирующие Ци Байши в далёком российском лесу, всегда крякают от удовольствия при виде рисовой водки.
После третьей заговорили про гохуа[36 - Живопись тушью и водяными красками.] и традиционные каноны, а после пятой вышли к воде. Я мысленно просила реку раскрыть тайну её течения, но река молчала. Я вспомнила о Сиддхартхе и растрогалась – после рисовой водки я часто вспоминала Сиддхартху, да, впрочем, не только после рисовой! Стало грустно и я позволила себе прочесть то, что никогда раньше не позволяла – любимое стихотворение в жанре ци. И каково же было моё удивление, когда Джим на неизвестном мне инструменте заиграл ту самую мелодию «Ицзяннань»!
Я причесалась
И спешу скорей
Окинуть взглядом с башни
Даль речную —
Там всюду лодки,
Только нет одной…
Косой луч солнца
Гаснет над волной,
И отмель погрузилась
В тьму ночную[37 - Из китайской поэзии.].
– Оставь, – сказал после долгой паузы китаец. – Оставь.
– Кого? Что? – удивилась я.
Китаец смотрел на меня как на больного ребёнка и повторял «Оставь» как мантру, заглядывая в самую глубь. Я же долго-долго, как мне казалось, смотрела в самую глубь китайца, пока не поняла, что давно уже кричу на весь лес и бегу куда-то.
Картина была ещё та: так называемая Клеопатра, продирающаяся через ёлки-палки, а за ней – негр и китаец, тоже продирающиеся через ёлки-палки. Потом все устали и сникли. Джим, чтобы окончательно успокоиться, начал рассказывать об истоках спиричуэлса, плавно перейдя к своему первому «русскому» новому году:
– Я был в лесу, один. У меня была палатка «Зима» и две бутылки водки.
– Что такое палатка «Зима?» – спросила я.
– Обыкновенная, только тёплая и с трубой. В «Зиме» не холодно даже в минус двадцать.
Я поёжилась и, кажется, действительно оставила то, о чём говорил китаец час назад.
После той поездки я заболела, не могла ни говорить, ни ходить – мой китаец же отлично справлялся с ролью сиделки и носил меня на руках в туалет. Никогда в жизни ни один китаец не носил меня на руках в туалет и не смотрел так виновато:
– Это из-за меня! – говорил он, обматываю мою шею шарфом. – Нельзя после рисовой водки русской женщине лезть осенью в реку! Русская женщина, пусть даже Клеопатра, не может сочетать «Ицзяннань» и моржевание!
Я слабо хрипела и держала его за руку. В глазах плыло – во мне сидело все сорок; китаец поил мою оболочку горькими травами и аспирином.
Вскоре приехал Джим: увидев чёрную рожу, моя сорокоградусная кровь – да-да, именно такой порядок слов, всё прибито к больному месту как надо, – испугалась, но, вспомнив ящик из-под марокканских апельсинов в далёкой избушке, словно бы потянулась к нему. Я не представляла тогда более идеального цвета лица, нежели цвет лица Джима. А Джим улыбался… и я совсем уже его не боялась! Он указал на новый ящик с настоящими марокканскими апельсинами, а через несколько часов притащил кресло-кровать, на которое я благополучно перебралась. Джим приходил почти каждый вечер: рассказывал о спиричуэлсе и мурчал блюзы. Я же только моргала и кивала, питаясь исключительно сладкими апельсинами – никогда в жизни ни один негр не дарил мне столько сладких апельсинов! Я поняла, что не хочу видеть никого, кроме негра и китайца: я не бредила – я спала, наверное, несколько недель, пока однажды на кресло-кровать не присел Старик. От удивления я даже не шевельнулась, ну а он сказал:
– Ты живёшь неправильно. Ты не поправишься, если… – но исчез, не договорив.
«Что за чертовщина, – только и подумала я. – Что за чертовщина?»
Через сутки показалась Женщина в чём-то прозрачном и, покачав головой, произнесла:
– Ты не должна делать этого, иначе… – и тоже исчезла, не договорив, а я зажмурилась и выругалась.
На третью ночь увидела Мужчину. Он строго смотрел на меня, хмурился и многозначительно молчал, после чего вполне идиотично испарился.
На четвёртую прибежал дебиловатый Ребёнок с криком: «А король-то голый!» – и нагло растворился в воздухе.
Я начала думать, что погружаюсь в мрачное Бардо из «Тибетской книги мёртвых», которую мы читали с китайцем, и лишь крик: «А король-то голый!» вычеркнул из моих заумей остатки причинно-следственных связей. С трудом привстав, я взглянула на китайца: тот дремал. От страха мне захотелось дотронуться до него. Я коснулась его руки и вдруг поняла, что рука – ненастоящая. Я погладила эту ненастоящую руку, сбавив, если можно так выразиться, обороты ужаса: конечность очень напоминала резиновую, только была мягче. Я, кажется, закричала… а кто бы не закричал на моём месте? Китаец очнулся и вздохнул:
– Ну и что, что ненастоящая? Смотря что считать настоящим, – так объяснил он мне феномен своего тела. – Если бы не это «ненастоящее», ты свихнулась бы в своей квартирке. Да, ты ведь свихнулась бы, Клеопатра, признайся!
– А Джим тоже… такой? – робко спросила я.
– Нет, – китаец стал предельно серьёзен и через миг рассыпался на крошки. – Нет.
Я забралась под одеяло и вспомнила о голом короле, а потом незаметно для себя уснула, не веря в происходящее и почти поверив в то, что Земля стоит на трёх огромных черепахах.
Прошло сколько-то времени. Я почти успокоилась, спрятала веера, палочки, сандаловые шары… Но ключицы всё ещё болели. У меня всегда болели ключицы, когда кто-то внезапно исчезал – навсегда. Я хорошо знала эту боль: так было и сейчас. Мне не хватало китайца, пусть даже ненастоящего, пусть резинового, пусть игрушечного! Я не понимала, откуда он взялся и куда исчез. К тому же, с ним исчез и Джим – оставалось лишь сушить апельсиновые корки вместо их сове?ццкнутых сухарей.
Как-то вечером я возвращалась из социума домой. И не успела захлопнуться за социумом дверь, как в мою позвонили.