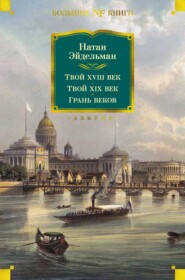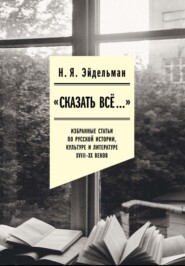По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Грань веков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пестель и Пален
Декабрист Николай Лорер вспомнит: «Раз Пестель мне рассказал, что, бывши адъютантом у графа Витгенштейна, стояли они с корпусом в Митаве, где Пестель познакомился с 80-летним Паленом, участвовавшим, как известно, в убийстве Павла I. Полюбив Пестеля, старик бывал с ним откровенен и, заметя у него еще тогда зародыш революционных идей, однажды ему сказал? «Слушайте, молодой человек! Если вы хотите что-нибудь сделать путем тайного общества, то это глупость. Потому что если вас двенадцать, то двенадцатый неизменно будет предателем! У меня есть опыт, и я знаю свет и людей».
Очень близкий к Пестелю член Южного общества делает эту запись в 1860-х годах. Однако большое временное расстояние между фактом и воспоминанием не мешает нам признать рассказ очень достоверным. Во-первых, записки декабриста довольно точны. Во-вторых, существует много примеров (и перед нами, по-видимому, один из них), когда декабристы, делясь своими воспоминаниями с друзьями по каторге и ссылке, сначала вырабатывали устную версию мемуаров и только позже закрепляли ее в письме. В-третьих, рассказ Лорера поддается документальной проверке.
Как раз в Митаву, рядом с имением, где с 1801 г. жил Пален, прибыл в начале 1817 г . Павел Пестель, молодой кавалергардский штаб-ротмистр, адъютант генерала Витгенштейна и один из основателей, «старейшина», первого декабристского тайного общества – «Союза спасения».
Пробыв в Курляндии более года (до весны 1818 г.), Пестель создал в Митаве отрасль декабристской организации, куда принял четырех членов, и несомненно вел деятельность, подчиненную задачам тайного союза.
Встреча 24-летнего Пестеля с 72-летним Паленом, часто ездившим в соседний с его имением город, была естественной, и столь же естественно было начаться разговору о способах достижения тайной цели. Как уже говорилось, декабристы, за многое не одобряя деятелей 1801 г., относились к некоторым из них с интересом, известным уважением. Пален, который подчеркивал свое самопожертвование, свою правоту в деле 11 марта, который, как знали многие, был не чужд конституционных идей, естественно интересен Пестелю. Так же как Постель, несомненно, заинтересовал старика: ведь при всей разнице их мировоззрений формула, явившаяся полным «заглавием» первого декабристского общества, – «Союз истинных сынов отечества» – эта формула была из числа тех, которыми Пален охотно оперировал. Добавим и такое с виду второстепенное, но сближавшее собеседников обстоятельство, как известная степень гвардейского землячества у кавалергарда Пестеля и Палена, начинавшего службу в конной гвардии, поскольку кавалергарды сформированы Павлом из нескольких эскадронов конногвардейского полка. Существовала определенная преемственность, особая близость двух гвардейских частей. Наконец, несомненное обилие общих знакомых, связи петербургские и курляндские – все это позволяло говорить откровенно.
Не исключено, что обиняками или прямо зашел разговор и о какой-то форме участия старого генерала в «Союзе спасения». Ведь принял же Пестель в тайное общество, уезжая из Петербурга, князя Павла Петровича Лопухина, флигель-адъютанта Павла I и действительного камергера при Александре I, – он был, между прочим, сыном князя П. В. Лопухина и родным братом покойной к тому времени фаворитки Павла I Анны Лопухиной (Гагариной). Как видим, Пестель не исключал введения в общество старшего слоя, исторически связанного с прежними политическими событиями и переворотами.
Восстановить беседу двух представителей разных эпох, разных принципов общественного сопротивления было бы крайне интересно. Оба собеседника противостояли «тиранам»; оба – мастера тайной конспирации; оба размышляли о будущем политическом строе России, хотя старший хотел лишь ограничить, а младший – уничтожить самодержавие.
Надо думать, Пален изрядно завышал в беседе идейные цели своего заговора и таким образом сближался с позицией Пестеля.
Однако, говоря о «средствах», декабрист помнил недавние горячие дискуссии его товарищей о способах достижения цели, о перемене царствования как удобном времени для революции. Ведь всего за год до этого Лунин спорил с Пестелем, считавшим, что нужно сначала подготовиться, выработать программу, план; Лунин тогда иронизировал, что «Пестель хочет сначала энциклопедию написать», а лишь потом действовать, и предлагал план: захватить Александра I небольшой группой самых решительных заговорщиков по дороге из Царского Села в Петербург.
Пален – при всем отличии его старинных планов от нынешних – явно ближе к «лунинским методам»: на 12 апостолов найдется Иуда, и он не советует Пестелю расширять круг посвященных, советует действовать паленским методом, который дал результат…
Возможно, бывший генерал-губернатор вспомнит позже об этом разговоре, когда узнает о восстании декабристов на севере и юге, об аресте Пестеля. Пестель же, судя по тому, как он рассказывал Лореру о Палене, тоже кое о чем задумался. Идеи более строгого, централизованного, конспиративного образа действия, идеи железной диктатуры, разумеется, родились не под влиянием Палена, но, возможно, были той встречей отчасти стимулированы. Лорер намекал на это. Другой декабрист, Иван Горбачевский (впрочем, лично не общавшийся с Пестелем, но попавший на каторгу вместе с Лорером), запишет много лет спустя: «Пестель был ученик графа Палена, ни более, ни менее. Он был отличный заговорщик». Однако односторонность, несправедливость подобного взгляда были ясны даже тем, кто его высказывал. Лорер не может ведь ни на минуту забыть, что Пестель, в сущности, не успел восстать, что власть опередила, что среди членов тайного общества нашлись предатели.
Рассказ о митавской беседе Лорер сопровождает восклицаниями: «Какая истина! Зловещее пророчество сбылось!» Однако очевидно, что Пестель, учась, соглашаясь, отвергая, размышляя над чужим опытом, никогда бы не мог стать Паленом.
У того, старого генерала, его дело вышло, может быть, именно благодаря недостатку принципов; у этого, молодого полковника, не выйдет, и, может быть, обилие благородных идей отчасти помешает… Один считал себя Брутом – потомки не согласились; другой принесет в жертву себя, попадет в герои, мученики – совсем в другую категорию, чем смелый цареубийца Пален. Но в 1817 г . еще далеко до развязки…
Пока же подведем некоторые итоги. Интерес Пестеля, и, конечно, не его одного, к недавнему военному перевороту носил, разумеется, политический характер. Поскольку чисто внешняя, непосредственная цель – захват власти, столицы – совпадает и в дворцовом, и в революционном перевороте, было важно понять, чем можно воспользоваться революционерам и что необходимо отбросить из опыта Палена.
Запись авторитетного и памятливого соратника Пестеля резко оттеняет разницу двух заговоров: декабристское движение не могло по природе своей не пройти стадии коллективного, осознанного обсуждения задач тайного сообщества.
Но разве Пален не привлек многих? Разве в деле 11 марта не участвовали десятки людей?
Представление о долгом существовании обширного антипавловского «комплота» очень распространено. Между тем дело было много сложнее, и слова Палена, сказанные Пестелю, помогают многое понять.
Своею «исповедью» лидер 11 марта признает, что, держа в резерве когорту недовольных, зондируя, прощупывая именно тех, кто «молчит и действует», он до поры не открывает замыслов и почти никого не осведомляет о конкретном плане, сроке, даже целях, например объясняется с близкими соучастниками насчет регентства, сохранения жизни Павла при внутренней убежденности, что царя надо убить.
Фактически в заговоре 1800 – 1801 гг. наблюдаются три категории заговорщиков: первая – вожди, самые посвященные; о главных тайнах были осведомлены заранее, пожалуй, еще Зубовы, и то не все, так как опасались болтливости жены Николая Зубова.
Вторая категория – позже вовлеченные, но не участвующие в разработке стратегии: главные исполнители. Их роль огромна непосредственно перед действием и во время него. Это командиры полков Талызин, Депрерадович, Уваров. Это Беннигсен, исключительная роль которого в решающий момент, однако, позволяет перевести его в «первую категорию».
Третья – средние и младшие офицеры, которые отобраны по принципу их недовольства, неприязни, ненависти к павловской системе. Они, как увидим, не осведомлены до последнего часа. Не они вступают в дело – их отправят.
Если до ноября – декабря 1800 г. действовали почти исключительно лидеры, первая категория, то теперь пришло время главных исполнителей, не все знающих, но высматривающих верных подчиненных, которые уж не знают практически ничего.
Методы вербовки разнообразны. Один путь уже обрисован: обеды, осторожное зондирование, постепенное привлечение к клану Зубовых – Палена. Второй путь – усиление, закрепление преданности наследнику Александру офицеров, «намеченных к заговору». Позже, перед 11 марта, великий князь не раз сам будет говорить с тем или иным колеблющимся офицером.
Третий способ – разжигание и без того распространявшегося в дворянстве недовольства: вернувшиеся на службу и непринятые офицеры – существенный резерв, из которого мог черпать Пален.
Как видим, осенью 1800 г. заговор приобретает контуры, близкие к тому, что произойдет несколько месяцев спустя.
Крайне редко выходят наружу смутные сведения о возможном «брутовском» плане против Павла: психология просвещенного дворянства, магия царского имени затрудняют «простой путь» (пример которого давала Швеция, где в 1792 г. граф Анкарстрем убил выстрелом из пистолета Густава III). К тому же индивидуальный удар все равно требует обеспечения воинской силой, для того чтобы гатчинцы, преданные Павлу, не взяли инициативу в свои руки; зато в случае неудачи репрессии Павла могли бы сокрушить всех конспираторов. Не было гарантий…
Так или иначе дело шло к офицерско-генеральскому заговору, где особую роль приобретали люди максимально хладнокровные, деятели, не связанные традицией, освящавшей враждебную власть: так Пален ищет в Беннигсене солдата, кондотьера, без излишних сантиментов и предрассудков.
Последний появляется в столице вскоре после Нового года (сохранилось его письмо к родным от 18 января 1801 г.).
И по-прежнему день переворота откладывается по двум причинам: нужно завербовать некий достаточный для успеха минимум офицеров и генералов; требуется окончательное согласие наследника. Согласие на действие, на точный день и час.
В таких хлопотах встречали девятнадцатое столетие.
Глава X
Новый век
…Опальному изгнаннику легко
Обдумывать мятеж и заговор –
Но мне ли, мне ль, любимцу
государя?..
Пушкин
Последний новый год в жизни Павла совпал с началом нового XIX века. Царь встретил эти даты как будто в неплохом настроении и 7 января весело писал московскому генерал-губернатору И. П. Салтыкову по поводу своей предполагавшейся (но так и не состоявшейся) поездки во вторую столицу.
Хорошее настроение царя не передавалось подданным, тем более что оно чередовалось с растущей подозрительностью. И. И. Дмитриев, уже отставной и приехавший в столицу по домашним делам, «несколько раз, по воскресным дням, бывал во дворце и, несмотря на все прощение исключенных, находил все комнаты почти пустыми. Вход для чиновников был уже ограничен; представление приезжих, откланивающихся и благодарящих, за исключением некоторых, было отставлено. Государь уже редко проходил в церковь через наружные комнаты. Строгость полиции была удвоена, и проходившие через площадь мимо дворца, кто бы то ни были, и в дождь, и в зимнюю вьюгу должны были снимать с головы шляпы и шапки».
Государственный казначей и поэт Гаврила Романович Державин решился «накануне крещения 1801 года» отобедать у князя Платона Зубова в Пажеском корпусе, в тот же вечер «государь подошел и, осмотря его с ног до головы несколько раз, сам сел на софу и, велев ему против себя сесть на стул, смотрел прилежно в глаза … не покажет ли какого смущения, а через то не покажет ли своего с ним [Зубовым] соучастия».
Любопытно, что предполагаемая поездка Павла расценивалась пристрастными современниками как результат страха перед англичанами. С. Р. Воронцов писал Новосильцову (все так же, лимонным соком): «Мне кажется, что наш храбрец собирается удалиться подальше от Кронштадта к концу апреля, надеясь, что англичане не появятся до этого срока. Это достойно его. (…) Я не огорчаюсь его путешествием в Москву, где больше истинных русских, чем в Петербурге, и я надеюсь, что они отдадут должное этому ( … )».
Действительно, Москва жила своей, во многих отношениях отличающейся жизнью. Павловский надзор здесь, понятно, не так силен, и если во время коронации в 1797 г. московское общество, привыкшее к вольностям, было особенно травмировано, то теперь как будто пообвыкло и пользовалось преимуществом трехдневной дистанции от «вахт-парада».
Приехавший во вторую столицу в конце 1800 г. образованный самарский дворянин И. А. Второв нашел там «Академию музыкальную и танцевальную». 14 февраля 1801 г. в круглой зале Петровского театра «вся Москва», около 3 тыс. слушателей, присутствовала на первом исполнении «Творения света» Иосифа Гайдна. На сцене 300 лучших музыкантов – ситуация почти немыслимая для тогдашнего напряженного, запуганного Петербурга, где всякое значительное сборище казалось подозрительным.
Приезжий знакомится на концерте с Карамзиным, который представляет его своим молодым друзьям – Жуковскому, Андрею Тургеневу и другим членам недавно созданного Дружеского литературного общества.
Гражданские, патриотические мотивы в речах, звучавших в этом обществе в начале 1801 г., были совершенно необычны, инородны для духа, практики тех месяцев. Ю.М. Лотман, исследовавший это примечательное общественное явление, справедливо видит здесь важные идеи «раннего, утробного» этапа дворянской революционности. Так, юный А. Ф. Воейков в своей речи под видом прославления отца царствующего императора дает ему смелую памфлетную характеристику. Тайную канцелярию он называет «тиранским трибуналом, в тысячу раз всякой инквизиции ужаснейшим», призывает слушателей «бросить патриотический взор» на Россию до Петра III, «обремененную цепями, рабствующую, не смеющую произнести ни одного слова, ни одного вопля против своих мучителей»; на самом деле оратор рисовал картину, вызывавшую ассоциации с эпохой Павла I.
Финал речи Воейкова – просвещенный, патриотический, тираноборческий призыв: «Воззри на собравшихся здесь юных россиян, оживленных пламенною любовию к отечеству! И если нужна кровавая жертва для его счастья, вот сердца наши! Они не боятся кинжалов!».
Хотя подобный ход мыслей, ведущий к проблемам политическим, вызвал на следующем заседании споры и возражения со стороны Жуковского и других «умеренных членов», однако 16 февраля 1801 г. (через день после Гайднова концерта) с «левого крыла» Дружеского общества прозвучала благородная речь Андрея Тургенева – о любви к отечеству: «О ты, пред которым в сии минуты благоговеют сердца наши в восторге радости! Цари хотят, чтоб пред ними пресмыкались во прахе рабы; пусть же ползают пред ними льстецы с мертвою душою; здесь пред тобою стоят сыны твои!.. Но горе нам, если мы когда-нибудь забудем этот день, в который мы свободно произнесли обеты наши пред алтарем отечества». Близкой к позиции Тургенева была позиция Андрея Сергеевича Кайсарова.
Разумеется, эта группа литераторов не определяла всего спектра московских настроений (хотя представляла в павловское время едва ли не всю действующую русскую литературу). Разумеется, не только подобных молодых людей имел в виду С. Р. Воронцов, когда надеялся, что в Москве «много истинных русских». Ведь отношение Тургеневых, Воейкова и других к Павлу – тема деликатная, трудно выявляемая. Они, конечно, далеко в стороне от павловской консервативней идейности, но, может быть, еще дальше от цинизма заговорщиков; они готовы умереть за отечество, но и не обрадуются, узнав, как погиб «тиран».
Карамзин, едва ли не самый умеренный среди них, позже сравнит павловские годы с террором Ивана Грозного; другие же, вероятно согласившись в принципе, найдут в таком обличении ушедшего времени чрезмерное восхваление александровского…