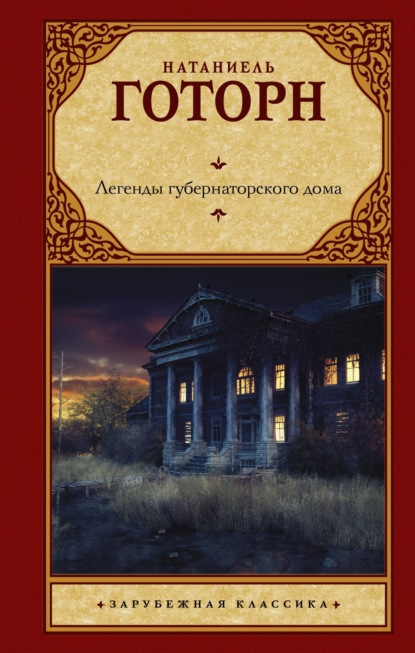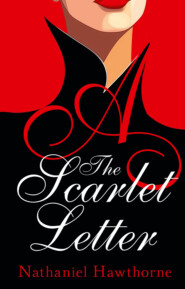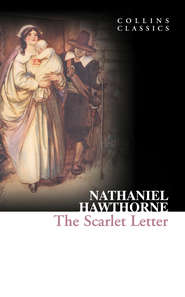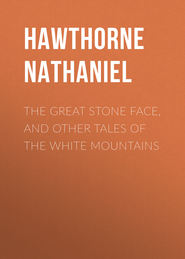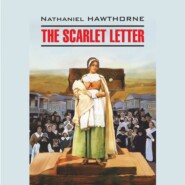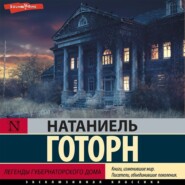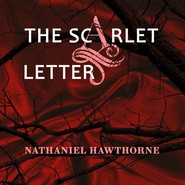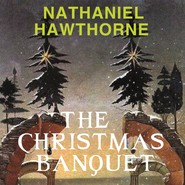По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Легенды губернаторского дома
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так вот, чтобы раз и навсегда покончить с этим делом, – весьма уязвленным тоном проговорил Гудман Браун. – У меня есть жена Вера. Это разбило бы ей сердечко, а я уж лучше свое разобью.
– Если так, то я отказываюсь, – ответил его спутник. – Ступай своей дорогой, Гудман Браун. Я не смог бы причинить Вере зла даже ради двадцати старушек вроде той, что идет перед нами.
С этими словами он указал посохом на шагавшую по той же тропинке женскую фигуру, в которой Гудман Браун узнал набожную и благообразную даму, что учила его в детстве катехизису и до сих пор была его советчицей и наставницей в вопросах веры вместе с дьяконом Гукином.
– Воистину удивительно, что благочестивая Клойз оказалась ночью в таком пустынном месте, – проговорил он. – Но с твоим уходом, друг, я двинусь напрямик через лес, пока эта добропорядочная женщина не останется позади. Будучи с тобой не знакомой, она может спросить, с кем я говорю и куда иду.
– Да будет так, – согласился его спутник. – Иди лесом, а я пойду по тропинке.
По уговору молодой человек свернул в сторону, но при этом не терял из виду спутника, мягко шагавшего по тропинке, пока не оказался от старухи не дальше, чем на длину посоха. Она тем временем двигалась вперед с необыкновенной для своего возраста прытью, что-то бормоча себе под нос – несомненно, молитву. Путник вытянул вперед посох и коснулся им морщинистой шеи женщины, словно змеиным хвостом.
– Дьявол! – вскричала набожная пожилая дама.
– Значит, благочестивая Клойз узнаёт старого друга? – заметил путник, остановившись чуть впереди и опершись на кривую палку.
– Ой, и вправду! Вы ли это, ваша милость?! – воскликнула добропорядочная старушка. – Да, верно, да еще в образе моего кума, констебля Брауна, деда того молодого недоумка, который сейчас здравствует. Однако поверит ли ваша милость в то, что у меня странным образом пропала метла? Подозреваю, что ее украла эта неповешенная ведьма Кори, да к тому же тогда, когда я вся натерлась снадобьем из сока сельдерея, лапчатки и бореца.
– Смешанных с мукой и жиром новорожденного младенца, – дополнило обличье констебля Брауна.
– Ой, ваша милость знает этот рецепт! – громко хихикая, вскричала старуха. – Так вот, продолжу. Приготовилась я ехать, а коня не было, вот я и решила идти пешком. Говорят, нынче ночью посвящают приятного молодого человека. Но если ваша милость предложит мне руку, то мы домчим в одно мгновение.
– Это вряд ли, – ответил ее друг. – Не смогу предложить тебе руку, благочестивая Клойз. Но если нужен мой посох, то вот он.
С этими словами он бросил посох к ее ногам, где, возможно, тот ожил, поскольку был одним из жезлов, которые его владелец некогда одолжил египетским чародеям. Однако об этом Гудман Браун знать не знал. Он изумленно взглянул вверх, а когда снова опустил глаза, то не увидел ни благочестивой Клойз, ни аспидного посоха. На тропинке остался лишь его спутник, дожидавшийся его с таким спокойным видом, словно ничего и не случилось.
– Эта старуха учила меня катехизису, – проговорил молодой человек, и в этом простом замечании содержалась глубокая многозначительность.
Они продолжили идти вперед, а путник постарше все увещевал Брауна прибавить шагу и поторопиться, подбирая слова так, что его доводы словно рождались в груди слушателя, а не исходили от него самого. По дороге он сорвал с клена огромный сук, чтобы сделать себе новый посох, и начал очищать его от веточек и сучков, мокрых от вечерней росы. Едва он касался их пальцами, они странно вяли и засыхали так быстро, словно их неделю жгло яркое солнце. Так они двигались широким шагом, пока, спустившись в небольшую темную лощину, Гудман Браун вдруг не присел на пенек, отказавшись идти дальше.
– Друг, – упрямо заявил он, – я все для себя решил. По этому делу я больше шага не сделаю. Что если эта вздорная старуха решила отправиться к дьяволу, когда я подумал, что она устремилась в ад? Разве это причина, чтобы я бросил дорогую Веру и последовал за ней?
– Постепенно ты передумаешь, – сдержанно ответил его спутник. – Посиди, передохни немного, а когда захочешь снова двинуться в путь, вот тебе в помощь мой посох.
Не говоря больше ни слова, он бросил своему спутнику посох и так быстро исчез из виду, что как будто растворился в сгущавшейся темноте. Молодой человек несколько мгновений посидел на обочине, аплодируя сам себе и думая, с какой чистой совестью завтра встретит пастора во время его утренней прогулки и не станет отводить глаза от доброго дьякона Гукина. И каким сладким будет его сон в эту ночь, которую он собирался провести столь нечестиво, но теперь столь целомудренно и сладко проведет в объятиях Веры! Эти приятные и достойные похвалы размышления были прерваны топотом копыт где-то на дороге, и Гудман Браун счел разумным скрыться в лесу, памятуя о приведшем его туда нечестивом искусе, хотя уже и счастливо отринутом.
Все ближе становились цокот копыт и голоса всадников – два старца рассудительно и неспешно вели разговор. Эти звуки, похоже, двигались вдоль дороги всего в нескольких метрах от того места, где спрятался молодой человек. Но, вне всякого сомнения, благодаря сгустившейся над лощиной темноте ни всадников, ни лошадей разглядеть было нельзя. Хотя их фигуры задевали ветки у самой обочины, они даже на мгновение не заслонили слабую полоску света от ночного неба, которую наверняка пересекали. Гудман Браун то приседал на корточки, то вставал на цыпочки, раздвигая ветки и вытягивая голову, насколько осмеливался, но видел лишь размытые тени. Еще больше его раздражало то, что он мог поклясться – будь это мыслимо, – что опознал голоса, принадлежавшие пастору и дьякону Гукину, когда они, по обыкновению, ехали неспешной рысью, направляясь на рукоположение или заседание церковного совета. Их еще было слышно, когда один их всадников остановился сорвать прутик.
– Из двух оказий, ваше преподобие, – произнес похожий на дьяконов голос, – я бы скорее пропустил ужин по случаю рукоположения, нежели нынешний ночной сбор. Говорят, кто-то из нашего братства собирается прибыть из Фалмута и даже из более дальних мест: из Коннектикута и Род-Айленда. Плюс еще несколько индейских жрецов, в которых по-своему больше дьявольщины, как и у лучших из нас. Более того, будут посвящать одну благочестивую молодую женщину.
– Просто отлично, дьякон Гукин! – внушительно пророкотал голос пожилого пастора. – Пришпорьте лошадь, иначе мы опоздаем. Сами знаете, ничего не начнется, пока я не слезу с коня.
Снова застучали копыта, и голоса, столь странно говорившие в пустынном лесу, растаяли в чаще, где никогда не собирались верующие и никогда не молился одинокий путник-христианин. Тогда куда же направлялись двое святых отцов, так далеко заехав в языческие дебри? Гудман Браун вцепился в дерево, чтобы не упасть, вот-вот готовый осесть наземь, ослабев от непомерной тяжести на сердце. Он поднял глаза, сомневаясь, осталось ли над ним небо. Однако он увидел темно-синий небосвод с ярко сверкающими на нем звездами.
– С небесами надо мною и Верой в сердце я выстою против дьявола! – воскликнул Гудман Браун.
Пока он глядел на простиравшуюся над ним небесную твердь и молитвенно воздевал к ней руки, набежала какая-то туча, несмотря на безветрие, и скрыла ярко сверкающие звезды. Все еще проглядывало синее небо, лишь прямо над головой Брауна темнело, и облако быстро мчалось на север. Откуда-то с высоты, будто бы из самой тучи, послышался сумбурный гомон. Если прислушаться, то можно было различить голоса земляков, мужчин и женщин, набожных и неверующих, многих из которых он встречал в церкви, а других видел бесчинствующими в кабаке. Но голоса звучали так неясно, что в следующее мгновение Брауну показалось, будто слышит он лишь шелест листвы в притихшем лесу. Затем снова накатил вал голосов, которые он каждый божий день слышал на улицах Салема, но ни разу под покровом тьмы. Среди остальных выделялся голос молодой женщины, причитавшей громко, но не очень горестно, и молившей о какой-то милости, которую, возможно, она сама боялась получить. Невидимая толпа святых и грешников, казалось, подбадривала ее и не давала умолкнуть.
– Вера! – с тоской и отчаянием вскрикнул Гудман Браун, и лесное эхо глумливо откликнулось «Вера! Вера!», словно сбитые с толку чудища бросились искать ее в пустынной чаще.
Не успел этот крик горя, злобы и ужаса смолкнуть в ночи, как несчастный муж затаил дыхание в ожидании ответа. Раздался визг, тотчас же потонувший в громком гомоне, переходящем в смех и удалявшемся по мере того, как ветер уносил тучу прочь. Над головой Гудмана Брауна снова воцарилось ясное и безмолвное небо. Но что-то еле заметно прилетело сверху и зацепилось за ветку. Молодой человек вытянул руку и увидел зажатую в пальцах розовую ленту.
– Моей Веры больше нет! – вскричал он, оправившись от оцепенения. – Нет на земле добра, а грех – всего лишь слово. Приди, дьявол, ибо тебе отдан этот мир.
И после, обезумев от отчаяния, Гудман Браун хохотал долго и громко, а затем схватил посох и снова зашагал с такой скоростью, что, казалось, он не шел и не бежал по тропинке, а летел над нею. Тем временем тропинка становилась все мрачнее и неприветливее, ее становилось все труднее разглядеть, и, наконец, она совсем исчезла, оставив его посреди темной чащи. Но Браун по-прежнему рвался вперед, повинуясь инстинкту, который влечет смертного к греху. Лес был полон пугающих звуков: скрипа деревьев, воя диких зверей и криков индейцев. Ветер временами заунывно гудел, словно далекий церковный колокол, иногда окутывал путника громким ревом, словно природа презрительно насмехалась над ним. Но главный ужас являл собою он сам и не шарахался от прочих ужасов.
– Ха-ха-ха! – громко ревел Гудман Браун, когда над ним смеялся ветер. – Давай послушаем, кто смеется громче. И не вздумай напугать меня своей чертовщиной. Выходи ведьма, выходи, колдун, выходи, индейский жрец, выходи хоть сам дьявол – вот идет Гудман Браун. Бойся меня, как я тебя.
По правде говоря, во всем лесу не было никого страшнее Гудмана Брауна. Он рвался вперед среди черных сосен, неистово размахивая посохом, то разражаясь жуткими богохульными проклятиями, то хохоча так, что весь лес оглашался демоническим эхом. Демон в его собственном обличье куда ужаснее, чем когда вселяется в человека. Так и мчался одержимый им Браун, пока не увидел за деревьями мерцающий красный свет, похожий на пламя, когда на вырубке сжигают поваленные стволы и ветви, и свет этот в полночный час озарял небо грозным сиянием. Когда гнавшая его вперед буря унялась, он остановился и услышал доносившийся издалека многоголосый хор, певший что-то наподобие гимна. Браун узнал мелодию – ее пели хором в деревенском молельном доме. Последняя строфа тревожно смолкла, за ней раздался припев, исполняемый не человеческими голосами, а звуками ночной чащи, сливавшимися в жуткую гармонию. Гудман Браун закричал, но крик его поглотил вопль лесной глуши.
В наступившем безмолвии он пробирался вперед, пока свет не ударил ему в глаза. На краю большой поляны, окруженной темной стеной леса, высился огромный камень, очертаниями отдаленно напоминавший алтарь или церковную кафедру, окруженный четырьмя соснами с пылающими верхушками и нетронутыми жаром стволами, похожими на свечи, зажигаемые перед вечерней молитвой. Листва выше верхней оконечности камня горела, озаряя ночь всполохами огня и ярко освещая поляну. Каждую веточку и каждый листик объяло пламя. Когда его яркие языки то взмывали к небу, то опадали, всполохи то высвечивали многочисленных собравшихся, то погружали их во тьму, то снова вырывали из нее, наполняя жизнью глухую лесную чащу.
– Мрачное собрание в темных одеяниях, – проговорил Гудман Браун.
Правду сказать – это так и было. Среди собравшихся, то озаряемые светом, то поглощаемые тьмой, мелькали лица, которые назавтра увидишь в совете округа; которые каждое воскресенье благочестиво возносят глаза к небу и со священных алтарей благосклонно взирают на сидевшую на скамьях паству. Некоторые утверждают, что видели там жену губернатора. По крайней мере, на собрании присутствовали приближенные к ней высокопоставленные дамы и жены почтенных мужей, вдовы в огромном количестве, и старые девы с безупречной репутацией, и хорошенькие девицы, трепетавшие при одной мысли, что за ними проследят матери. Или Гудмана Брауна ослепили всполохи яркого света над далекой поляной, или он и впрямь узнал нескольких прихожан салемской церкви, известных особой набожностью. Благочестивый дьякон Гукин уже прибыл и ждал подле преподобного старца, досточтимого пастора. Но там же, вызывающе близко от почтенных, уважаемых и набожных людей, церковных старшин, благонравных дам и целомудренных дев, стояли известные своей распутной жизнью мужчины и женщины с запятнанной репутацией, негодяи, подверженные всем и всяческим порокам и даже подозреваемые в жутких преступлениях. Странно было видеть, как благочестивые не шарахались от нечестивых, а святые не смущались присутствием грешников. Среди бледнолицых врагов то и дело попадались индейские жрецы, или шаманы, наводившие на леса страх такими жуткими заклинаниями, какие и не снились ни одной английской ведьме.
«Но где же Вера?» – подумал Гудман Браун и задрожал, когда сердце его озарилось надеждой.
Медленно и скорбно зазвучала очередная строфа гимна, который так любят набожные люди, но в нее вплетались слова, выражавшие все, что природа наша связывает с грехом. Премудрость асмодеев недоступна пониманию простых смертных. Пели строфу за строфой, и после каждой все так же взлетал припев хора лесной чащи, похожий на самый низкий бас могучего органа. После заключительного раската этого жуткого песнопения раздался звук, словно ревущий ветер, бурные реки, воющие звери и все нестройные голоса лесной чащи слились с голосом грешника, воздающего хвалу князю тьмы. Огонь с пылающих сосен взметнулся еще выше и смутно высветил жуткие призраки в клубах дыма, поднимающихся над сборищем нечестивцев. В то же мгновение красное пламя рванулось вверх, образовав у основания камня светящуюся арку, под которой возникла человеческая фигура. Да будет это сказано с глубоким почтением, фигура эта никоим образом – ни одеянием, ни манерою – не походила ни на одно почтенное духовное лицо церквей Новой Англии.
– Приведите новообращенных! – крикнул голос, эхом разнесшийся по поляне и затихший в лесу.
Услышав эти слова, Гудман Браун вышел из тени деревьев и приблизился к собравшимся, с которыми он почувствовал греховное единение во всем нечестивом, что таилось в его душе. Он мог поклясться, что из клуба дыма его поманил призрак родного отца, а женщина со смутным выражением отчаяния на лице предостерегающе протянула руку с поднятой ладонью. Возможно, это его мать? Однако он не нашел в себе сил ни отступить даже на шаг, ни воспротивиться, когда пастор и благочестивый дьякон Гукин схватили его под руки и повели к ярко сверкавшему камню. Туда же подошла стройная женщина с закрытым вуалью лицом, которую с обеих сторон поддерживали благочестивая Клойз, набожная учительница катехизиса, и Марта Кэрриер, получившая от дьявола обещание сделать ее царицей ада. Это была свирепая ведьма. Оба новообращенных остановились под огненным куполом.
– Добро пожаловать, дети мои, – произнесла темная фигура, – в приобщение к племени своему. В младости вы обрели сущность и судьбу. Оглянитесь, чада!
Они обернулись, и в ярко вспыхнувшем языке пламени стали видны поклоняющиеся демону. На каждом лице мрачно сияла приветственная улыбка.
– Там, – продолжила черная фигура, – собрались все, кого вы чтите с младых ногтей. Вы считали их благочестивее себя и отвращались от грехов, сравнивая жизнь с жизнью этих праведников, полной молитв и небесных устремлений. Однако все они поклоняются мне. Этой ночью вам будет дано познать их тайные дела: как седобородые богобоязненные старики шептали блудные слова молоденьким служанкам в своих домах, как многие женщины, стремившиеся украсить себя трауром, перед сном давали мужьям питье и позволяли им заснуть у них на груди последним сном. Как безусые юноши торопились унаследовать отцовские богатства, как хорошенькие девицы благородного звания – не краснейте, красотки! – копали в садах могилки и звали меня одиноким плакальщиком на похороны младенцев. Благодаря расположенности человеческого сердца к греху вы всюду почувствуете его запах – в церкви, в спальне, на улице, в поле или в лесу – там, где совершалось преступление, и возрадуетесь, увидев, что вся земля есть пятно греховное, пятно кровавое. Более того, вам будет дано проникать в каждое сердце и видеть там глубоко спрятанную тайну греха и источник нечестивых ухищрений, который неистощимо питает куда больше злокозненных помыслов, нежели власть человеческая – нежели моя безграничная власть – способна воплотить в деяниях. А теперь, дети мои, поглядите друг на друга.
Они поглядели, и в свете зажженных от адского огня факелов несчастный увидел Веру, а жена – мужа, дрожавшего у неосвященного алтаря.
– Вот вы стоите тут, дети мои, – медленно и торжественно провозгласила фигура почти грустно с ужасающим отчаянием в голосе, как будто некогда падший ангел все еще мог скорбеть о жалком роде человеческом. – Взаимно связанные сердечными узами, вы все-таки надеялись, что добродетель не есть мечта. Теперь вы избавлены от обмана. Природа человеческая есть зло. Зло должно стать вашей единственной отрадой. Еще раз добро пожаловать, дети мои, в приобщение к племени своему.
– Добро пожаловать, – повторили почитатели дьявола единым возгласом отчаяния и торжества.
Они стояли рядом, единственная пара, казалось, еще не решившаяся преступить грань грехопадения в этом темном мире. В камне виднелось углубление. Была ли там вода, красноватая от огненных всполохов? Или кровь? Или, возможно, жидкий огонь? Зловещая фигура погрузила туда руку и изготовилась пометить их чело знаком крещения, дабы они приобщились к тайнам греха, узнали тайные прегрешения других, в деяниях и помыслах куда больше, нежели собственные. Муж взглянул на побледневшую жену, а Вера на него. Каких отвратительных чудищ они увидят друг в друге при следующем взгляде, оба содрогнулись при виде открывшегося им!
– Вера! Вера! – вскричал Гудман Браун. – Взгляни на небо и отринь нечистого!
Послушалась его Вера или нет, Браун не знал. Едва он умолк, как оказался один среди ночной тишины, где прислушивался к реву стихавшего в лесной чаще ветра. Он покачнулся и вцепился в камень, холодный и влажный, а свисавшая ветка, недавно вся пылавшая, брызнула на него холодной, как лед, росой.
На следующее утро молодой Гудман Браун медленно вышел на улицу Салема, смущенно оглядываясь по сторонам. Благочестивый пожилой пастор прохаживался по кладбищу, нагуливая аппетит перед завтраком и обдумывая предстоящую проповедь. Увидев Брауна, он благословил его. Тот шарахнулся от святого отца, будто от анафемы. Старый дьякон читал молитву своим домочадцам, и слова ее доносились из открытого окна. «Какому Богу молится этот колдун?» – еле слышно проговорил Гудман Браун. Благочестивая Клойз, образцовая христианка, стояла у забора и наставляла маленькую девочку, принесшую ей кружку свеженадоенного молока. Гудман Браун схватил девочку и потащил прочь, словно вырвал ее из лап самого дьявола. Повернув за угол у молитвенного дома, он заметил Веру в чепце с розовыми лентами, встревоженно всматривавшуюся вдаль. Она так обрадовалась, увидев мужа, что бросилась бежать по улице и едва не расцеловала его на глазах у всей деревни. Но Гудман Браун лишь сурово и грустно посмотрел ей в глаза и пошел дальше, не сказав ни единого слова.
Может, Гудман Браун заснул в лесу, а ведьмин шабаш ему лишь приснился?
Пусть так и будет, если вам угодно. Но увы! Для Гудмана Брауна этот сон стал зловещим предзнаменованием. С той ночи, когда ему привиделся этот жуткий кошмар, он сделался суровым, грустным, мрачно-задумчивым, недоверчивым, если не вконец отчаявшимся человеком. В день субботний, когда собравшаяся паства пела псалмы, он не мог их слушать, поскольку в ушах у него грохотал гимн греха, заглушая песнопения Божьи. Когда пастор, положив руку на раскрытую Библию, авторитетно и страстно-красноречиво вещал с кафедры о священных истинах нашей веры, о праведной жизни и достойной смерти, о грядущем блаженстве и непередаваемых словами страданиях, Гудман Браун бледнел, боясь, как бы крыша с грохотом не обрушилась на седого богохульника и его слушателей. Частенько, внезапно проснувшись в полночь, он резко отодвигался от Веры, а утром или на закате, когда семья преклоняла колени в молитве, он хмурился, бормотал что-то себе под нос, сердито смотрел на жену и отворачивался. А когда он прожил долгую жизнь и его, поседевшего, чинно отнесли на кладбище в сопровождении постаревшей Веры, детей, внуков и нескольких соседей, то на надгробном камне не высекли возвышенной эпитафии, ибо его смертный час был мрачен и печален.
Майское дерево Мерри-Маунта
– Если так, то я отказываюсь, – ответил его спутник. – Ступай своей дорогой, Гудман Браун. Я не смог бы причинить Вере зла даже ради двадцати старушек вроде той, что идет перед нами.
С этими словами он указал посохом на шагавшую по той же тропинке женскую фигуру, в которой Гудман Браун узнал набожную и благообразную даму, что учила его в детстве катехизису и до сих пор была его советчицей и наставницей в вопросах веры вместе с дьяконом Гукином.
– Воистину удивительно, что благочестивая Клойз оказалась ночью в таком пустынном месте, – проговорил он. – Но с твоим уходом, друг, я двинусь напрямик через лес, пока эта добропорядочная женщина не останется позади. Будучи с тобой не знакомой, она может спросить, с кем я говорю и куда иду.
– Да будет так, – согласился его спутник. – Иди лесом, а я пойду по тропинке.
По уговору молодой человек свернул в сторону, но при этом не терял из виду спутника, мягко шагавшего по тропинке, пока не оказался от старухи не дальше, чем на длину посоха. Она тем временем двигалась вперед с необыкновенной для своего возраста прытью, что-то бормоча себе под нос – несомненно, молитву. Путник вытянул вперед посох и коснулся им морщинистой шеи женщины, словно змеиным хвостом.
– Дьявол! – вскричала набожная пожилая дама.
– Значит, благочестивая Клойз узнаёт старого друга? – заметил путник, остановившись чуть впереди и опершись на кривую палку.
– Ой, и вправду! Вы ли это, ваша милость?! – воскликнула добропорядочная старушка. – Да, верно, да еще в образе моего кума, констебля Брауна, деда того молодого недоумка, который сейчас здравствует. Однако поверит ли ваша милость в то, что у меня странным образом пропала метла? Подозреваю, что ее украла эта неповешенная ведьма Кори, да к тому же тогда, когда я вся натерлась снадобьем из сока сельдерея, лапчатки и бореца.
– Смешанных с мукой и жиром новорожденного младенца, – дополнило обличье констебля Брауна.
– Ой, ваша милость знает этот рецепт! – громко хихикая, вскричала старуха. – Так вот, продолжу. Приготовилась я ехать, а коня не было, вот я и решила идти пешком. Говорят, нынче ночью посвящают приятного молодого человека. Но если ваша милость предложит мне руку, то мы домчим в одно мгновение.
– Это вряд ли, – ответил ее друг. – Не смогу предложить тебе руку, благочестивая Клойз. Но если нужен мой посох, то вот он.
С этими словами он бросил посох к ее ногам, где, возможно, тот ожил, поскольку был одним из жезлов, которые его владелец некогда одолжил египетским чародеям. Однако об этом Гудман Браун знать не знал. Он изумленно взглянул вверх, а когда снова опустил глаза, то не увидел ни благочестивой Клойз, ни аспидного посоха. На тропинке остался лишь его спутник, дожидавшийся его с таким спокойным видом, словно ничего и не случилось.
– Эта старуха учила меня катехизису, – проговорил молодой человек, и в этом простом замечании содержалась глубокая многозначительность.
Они продолжили идти вперед, а путник постарше все увещевал Брауна прибавить шагу и поторопиться, подбирая слова так, что его доводы словно рождались в груди слушателя, а не исходили от него самого. По дороге он сорвал с клена огромный сук, чтобы сделать себе новый посох, и начал очищать его от веточек и сучков, мокрых от вечерней росы. Едва он касался их пальцами, они странно вяли и засыхали так быстро, словно их неделю жгло яркое солнце. Так они двигались широким шагом, пока, спустившись в небольшую темную лощину, Гудман Браун вдруг не присел на пенек, отказавшись идти дальше.
– Друг, – упрямо заявил он, – я все для себя решил. По этому делу я больше шага не сделаю. Что если эта вздорная старуха решила отправиться к дьяволу, когда я подумал, что она устремилась в ад? Разве это причина, чтобы я бросил дорогую Веру и последовал за ней?
– Постепенно ты передумаешь, – сдержанно ответил его спутник. – Посиди, передохни немного, а когда захочешь снова двинуться в путь, вот тебе в помощь мой посох.
Не говоря больше ни слова, он бросил своему спутнику посох и так быстро исчез из виду, что как будто растворился в сгущавшейся темноте. Молодой человек несколько мгновений посидел на обочине, аплодируя сам себе и думая, с какой чистой совестью завтра встретит пастора во время его утренней прогулки и не станет отводить глаза от доброго дьякона Гукина. И каким сладким будет его сон в эту ночь, которую он собирался провести столь нечестиво, но теперь столь целомудренно и сладко проведет в объятиях Веры! Эти приятные и достойные похвалы размышления были прерваны топотом копыт где-то на дороге, и Гудман Браун счел разумным скрыться в лесу, памятуя о приведшем его туда нечестивом искусе, хотя уже и счастливо отринутом.
Все ближе становились цокот копыт и голоса всадников – два старца рассудительно и неспешно вели разговор. Эти звуки, похоже, двигались вдоль дороги всего в нескольких метрах от того места, где спрятался молодой человек. Но, вне всякого сомнения, благодаря сгустившейся над лощиной темноте ни всадников, ни лошадей разглядеть было нельзя. Хотя их фигуры задевали ветки у самой обочины, они даже на мгновение не заслонили слабую полоску света от ночного неба, которую наверняка пересекали. Гудман Браун то приседал на корточки, то вставал на цыпочки, раздвигая ветки и вытягивая голову, насколько осмеливался, но видел лишь размытые тени. Еще больше его раздражало то, что он мог поклясться – будь это мыслимо, – что опознал голоса, принадлежавшие пастору и дьякону Гукину, когда они, по обыкновению, ехали неспешной рысью, направляясь на рукоположение или заседание церковного совета. Их еще было слышно, когда один их всадников остановился сорвать прутик.
– Из двух оказий, ваше преподобие, – произнес похожий на дьяконов голос, – я бы скорее пропустил ужин по случаю рукоположения, нежели нынешний ночной сбор. Говорят, кто-то из нашего братства собирается прибыть из Фалмута и даже из более дальних мест: из Коннектикута и Род-Айленда. Плюс еще несколько индейских жрецов, в которых по-своему больше дьявольщины, как и у лучших из нас. Более того, будут посвящать одну благочестивую молодую женщину.
– Просто отлично, дьякон Гукин! – внушительно пророкотал голос пожилого пастора. – Пришпорьте лошадь, иначе мы опоздаем. Сами знаете, ничего не начнется, пока я не слезу с коня.
Снова застучали копыта, и голоса, столь странно говорившие в пустынном лесу, растаяли в чаще, где никогда не собирались верующие и никогда не молился одинокий путник-христианин. Тогда куда же направлялись двое святых отцов, так далеко заехав в языческие дебри? Гудман Браун вцепился в дерево, чтобы не упасть, вот-вот готовый осесть наземь, ослабев от непомерной тяжести на сердце. Он поднял глаза, сомневаясь, осталось ли над ним небо. Однако он увидел темно-синий небосвод с ярко сверкающими на нем звездами.
– С небесами надо мною и Верой в сердце я выстою против дьявола! – воскликнул Гудман Браун.
Пока он глядел на простиравшуюся над ним небесную твердь и молитвенно воздевал к ней руки, набежала какая-то туча, несмотря на безветрие, и скрыла ярко сверкающие звезды. Все еще проглядывало синее небо, лишь прямо над головой Брауна темнело, и облако быстро мчалось на север. Откуда-то с высоты, будто бы из самой тучи, послышался сумбурный гомон. Если прислушаться, то можно было различить голоса земляков, мужчин и женщин, набожных и неверующих, многих из которых он встречал в церкви, а других видел бесчинствующими в кабаке. Но голоса звучали так неясно, что в следующее мгновение Брауну показалось, будто слышит он лишь шелест листвы в притихшем лесу. Затем снова накатил вал голосов, которые он каждый божий день слышал на улицах Салема, но ни разу под покровом тьмы. Среди остальных выделялся голос молодой женщины, причитавшей громко, но не очень горестно, и молившей о какой-то милости, которую, возможно, она сама боялась получить. Невидимая толпа святых и грешников, казалось, подбадривала ее и не давала умолкнуть.
– Вера! – с тоской и отчаянием вскрикнул Гудман Браун, и лесное эхо глумливо откликнулось «Вера! Вера!», словно сбитые с толку чудища бросились искать ее в пустынной чаще.
Не успел этот крик горя, злобы и ужаса смолкнуть в ночи, как несчастный муж затаил дыхание в ожидании ответа. Раздался визг, тотчас же потонувший в громком гомоне, переходящем в смех и удалявшемся по мере того, как ветер уносил тучу прочь. Над головой Гудмана Брауна снова воцарилось ясное и безмолвное небо. Но что-то еле заметно прилетело сверху и зацепилось за ветку. Молодой человек вытянул руку и увидел зажатую в пальцах розовую ленту.
– Моей Веры больше нет! – вскричал он, оправившись от оцепенения. – Нет на земле добра, а грех – всего лишь слово. Приди, дьявол, ибо тебе отдан этот мир.
И после, обезумев от отчаяния, Гудман Браун хохотал долго и громко, а затем схватил посох и снова зашагал с такой скоростью, что, казалось, он не шел и не бежал по тропинке, а летел над нею. Тем временем тропинка становилась все мрачнее и неприветливее, ее становилось все труднее разглядеть, и, наконец, она совсем исчезла, оставив его посреди темной чащи. Но Браун по-прежнему рвался вперед, повинуясь инстинкту, который влечет смертного к греху. Лес был полон пугающих звуков: скрипа деревьев, воя диких зверей и криков индейцев. Ветер временами заунывно гудел, словно далекий церковный колокол, иногда окутывал путника громким ревом, словно природа презрительно насмехалась над ним. Но главный ужас являл собою он сам и не шарахался от прочих ужасов.
– Ха-ха-ха! – громко ревел Гудман Браун, когда над ним смеялся ветер. – Давай послушаем, кто смеется громче. И не вздумай напугать меня своей чертовщиной. Выходи ведьма, выходи, колдун, выходи, индейский жрец, выходи хоть сам дьявол – вот идет Гудман Браун. Бойся меня, как я тебя.
По правде говоря, во всем лесу не было никого страшнее Гудмана Брауна. Он рвался вперед среди черных сосен, неистово размахивая посохом, то разражаясь жуткими богохульными проклятиями, то хохоча так, что весь лес оглашался демоническим эхом. Демон в его собственном обличье куда ужаснее, чем когда вселяется в человека. Так и мчался одержимый им Браун, пока не увидел за деревьями мерцающий красный свет, похожий на пламя, когда на вырубке сжигают поваленные стволы и ветви, и свет этот в полночный час озарял небо грозным сиянием. Когда гнавшая его вперед буря унялась, он остановился и услышал доносившийся издалека многоголосый хор, певший что-то наподобие гимна. Браун узнал мелодию – ее пели хором в деревенском молельном доме. Последняя строфа тревожно смолкла, за ней раздался припев, исполняемый не человеческими голосами, а звуками ночной чащи, сливавшимися в жуткую гармонию. Гудман Браун закричал, но крик его поглотил вопль лесной глуши.
В наступившем безмолвии он пробирался вперед, пока свет не ударил ему в глаза. На краю большой поляны, окруженной темной стеной леса, высился огромный камень, очертаниями отдаленно напоминавший алтарь или церковную кафедру, окруженный четырьмя соснами с пылающими верхушками и нетронутыми жаром стволами, похожими на свечи, зажигаемые перед вечерней молитвой. Листва выше верхней оконечности камня горела, озаряя ночь всполохами огня и ярко освещая поляну. Каждую веточку и каждый листик объяло пламя. Когда его яркие языки то взмывали к небу, то опадали, всполохи то высвечивали многочисленных собравшихся, то погружали их во тьму, то снова вырывали из нее, наполняя жизнью глухую лесную чащу.
– Мрачное собрание в темных одеяниях, – проговорил Гудман Браун.
Правду сказать – это так и было. Среди собравшихся, то озаряемые светом, то поглощаемые тьмой, мелькали лица, которые назавтра увидишь в совете округа; которые каждое воскресенье благочестиво возносят глаза к небу и со священных алтарей благосклонно взирают на сидевшую на скамьях паству. Некоторые утверждают, что видели там жену губернатора. По крайней мере, на собрании присутствовали приближенные к ней высокопоставленные дамы и жены почтенных мужей, вдовы в огромном количестве, и старые девы с безупречной репутацией, и хорошенькие девицы, трепетавшие при одной мысли, что за ними проследят матери. Или Гудмана Брауна ослепили всполохи яркого света над далекой поляной, или он и впрямь узнал нескольких прихожан салемской церкви, известных особой набожностью. Благочестивый дьякон Гукин уже прибыл и ждал подле преподобного старца, досточтимого пастора. Но там же, вызывающе близко от почтенных, уважаемых и набожных людей, церковных старшин, благонравных дам и целомудренных дев, стояли известные своей распутной жизнью мужчины и женщины с запятнанной репутацией, негодяи, подверженные всем и всяческим порокам и даже подозреваемые в жутких преступлениях. Странно было видеть, как благочестивые не шарахались от нечестивых, а святые не смущались присутствием грешников. Среди бледнолицых врагов то и дело попадались индейские жрецы, или шаманы, наводившие на леса страх такими жуткими заклинаниями, какие и не снились ни одной английской ведьме.
«Но где же Вера?» – подумал Гудман Браун и задрожал, когда сердце его озарилось надеждой.
Медленно и скорбно зазвучала очередная строфа гимна, который так любят набожные люди, но в нее вплетались слова, выражавшие все, что природа наша связывает с грехом. Премудрость асмодеев недоступна пониманию простых смертных. Пели строфу за строфой, и после каждой все так же взлетал припев хора лесной чащи, похожий на самый низкий бас могучего органа. После заключительного раската этого жуткого песнопения раздался звук, словно ревущий ветер, бурные реки, воющие звери и все нестройные голоса лесной чащи слились с голосом грешника, воздающего хвалу князю тьмы. Огонь с пылающих сосен взметнулся еще выше и смутно высветил жуткие призраки в клубах дыма, поднимающихся над сборищем нечестивцев. В то же мгновение красное пламя рванулось вверх, образовав у основания камня светящуюся арку, под которой возникла человеческая фигура. Да будет это сказано с глубоким почтением, фигура эта никоим образом – ни одеянием, ни манерою – не походила ни на одно почтенное духовное лицо церквей Новой Англии.
– Приведите новообращенных! – крикнул голос, эхом разнесшийся по поляне и затихший в лесу.
Услышав эти слова, Гудман Браун вышел из тени деревьев и приблизился к собравшимся, с которыми он почувствовал греховное единение во всем нечестивом, что таилось в его душе. Он мог поклясться, что из клуба дыма его поманил призрак родного отца, а женщина со смутным выражением отчаяния на лице предостерегающе протянула руку с поднятой ладонью. Возможно, это его мать? Однако он не нашел в себе сил ни отступить даже на шаг, ни воспротивиться, когда пастор и благочестивый дьякон Гукин схватили его под руки и повели к ярко сверкавшему камню. Туда же подошла стройная женщина с закрытым вуалью лицом, которую с обеих сторон поддерживали благочестивая Клойз, набожная учительница катехизиса, и Марта Кэрриер, получившая от дьявола обещание сделать ее царицей ада. Это была свирепая ведьма. Оба новообращенных остановились под огненным куполом.
– Добро пожаловать, дети мои, – произнесла темная фигура, – в приобщение к племени своему. В младости вы обрели сущность и судьбу. Оглянитесь, чада!
Они обернулись, и в ярко вспыхнувшем языке пламени стали видны поклоняющиеся демону. На каждом лице мрачно сияла приветственная улыбка.
– Там, – продолжила черная фигура, – собрались все, кого вы чтите с младых ногтей. Вы считали их благочестивее себя и отвращались от грехов, сравнивая жизнь с жизнью этих праведников, полной молитв и небесных устремлений. Однако все они поклоняются мне. Этой ночью вам будет дано познать их тайные дела: как седобородые богобоязненные старики шептали блудные слова молоденьким служанкам в своих домах, как многие женщины, стремившиеся украсить себя трауром, перед сном давали мужьям питье и позволяли им заснуть у них на груди последним сном. Как безусые юноши торопились унаследовать отцовские богатства, как хорошенькие девицы благородного звания – не краснейте, красотки! – копали в садах могилки и звали меня одиноким плакальщиком на похороны младенцев. Благодаря расположенности человеческого сердца к греху вы всюду почувствуете его запах – в церкви, в спальне, на улице, в поле или в лесу – там, где совершалось преступление, и возрадуетесь, увидев, что вся земля есть пятно греховное, пятно кровавое. Более того, вам будет дано проникать в каждое сердце и видеть там глубоко спрятанную тайну греха и источник нечестивых ухищрений, который неистощимо питает куда больше злокозненных помыслов, нежели власть человеческая – нежели моя безграничная власть – способна воплотить в деяниях. А теперь, дети мои, поглядите друг на друга.
Они поглядели, и в свете зажженных от адского огня факелов несчастный увидел Веру, а жена – мужа, дрожавшего у неосвященного алтаря.
– Вот вы стоите тут, дети мои, – медленно и торжественно провозгласила фигура почти грустно с ужасающим отчаянием в голосе, как будто некогда падший ангел все еще мог скорбеть о жалком роде человеческом. – Взаимно связанные сердечными узами, вы все-таки надеялись, что добродетель не есть мечта. Теперь вы избавлены от обмана. Природа человеческая есть зло. Зло должно стать вашей единственной отрадой. Еще раз добро пожаловать, дети мои, в приобщение к племени своему.
– Добро пожаловать, – повторили почитатели дьявола единым возгласом отчаяния и торжества.
Они стояли рядом, единственная пара, казалось, еще не решившаяся преступить грань грехопадения в этом темном мире. В камне виднелось углубление. Была ли там вода, красноватая от огненных всполохов? Или кровь? Или, возможно, жидкий огонь? Зловещая фигура погрузила туда руку и изготовилась пометить их чело знаком крещения, дабы они приобщились к тайнам греха, узнали тайные прегрешения других, в деяниях и помыслах куда больше, нежели собственные. Муж взглянул на побледневшую жену, а Вера на него. Каких отвратительных чудищ они увидят друг в друге при следующем взгляде, оба содрогнулись при виде открывшегося им!
– Вера! Вера! – вскричал Гудман Браун. – Взгляни на небо и отринь нечистого!
Послушалась его Вера или нет, Браун не знал. Едва он умолк, как оказался один среди ночной тишины, где прислушивался к реву стихавшего в лесной чаще ветра. Он покачнулся и вцепился в камень, холодный и влажный, а свисавшая ветка, недавно вся пылавшая, брызнула на него холодной, как лед, росой.
На следующее утро молодой Гудман Браун медленно вышел на улицу Салема, смущенно оглядываясь по сторонам. Благочестивый пожилой пастор прохаживался по кладбищу, нагуливая аппетит перед завтраком и обдумывая предстоящую проповедь. Увидев Брауна, он благословил его. Тот шарахнулся от святого отца, будто от анафемы. Старый дьякон читал молитву своим домочадцам, и слова ее доносились из открытого окна. «Какому Богу молится этот колдун?» – еле слышно проговорил Гудман Браун. Благочестивая Клойз, образцовая христианка, стояла у забора и наставляла маленькую девочку, принесшую ей кружку свеженадоенного молока. Гудман Браун схватил девочку и потащил прочь, словно вырвал ее из лап самого дьявола. Повернув за угол у молитвенного дома, он заметил Веру в чепце с розовыми лентами, встревоженно всматривавшуюся вдаль. Она так обрадовалась, увидев мужа, что бросилась бежать по улице и едва не расцеловала его на глазах у всей деревни. Но Гудман Браун лишь сурово и грустно посмотрел ей в глаза и пошел дальше, не сказав ни единого слова.
Может, Гудман Браун заснул в лесу, а ведьмин шабаш ему лишь приснился?
Пусть так и будет, если вам угодно. Но увы! Для Гудмана Брауна этот сон стал зловещим предзнаменованием. С той ночи, когда ему привиделся этот жуткий кошмар, он сделался суровым, грустным, мрачно-задумчивым, недоверчивым, если не вконец отчаявшимся человеком. В день субботний, когда собравшаяся паства пела псалмы, он не мог их слушать, поскольку в ушах у него грохотал гимн греха, заглушая песнопения Божьи. Когда пастор, положив руку на раскрытую Библию, авторитетно и страстно-красноречиво вещал с кафедры о священных истинах нашей веры, о праведной жизни и достойной смерти, о грядущем блаженстве и непередаваемых словами страданиях, Гудман Браун бледнел, боясь, как бы крыша с грохотом не обрушилась на седого богохульника и его слушателей. Частенько, внезапно проснувшись в полночь, он резко отодвигался от Веры, а утром или на закате, когда семья преклоняла колени в молитве, он хмурился, бормотал что-то себе под нос, сердито смотрел на жену и отворачивался. А когда он прожил долгую жизнь и его, поседевшего, чинно отнесли на кладбище в сопровождении постаревшей Веры, детей, внуков и нескольких соседей, то на надгробном камне не высекли возвышенной эпитафии, ибо его смертный час был мрачен и печален.
Майское дерево Мерри-Маунта