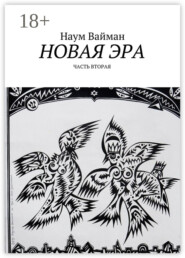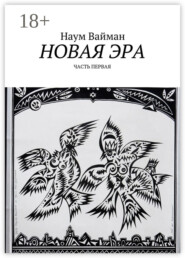По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Преображения Мандельштама
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кровь «хозяйничает» в поэзии: «В хороших стихах слышно, как шьются черепные швы, как набирает власти [и чувственной горечи] рот и [воздуха лобные пазухи, как изнашиваются аорты] хозяйничает океанской солью кровь»[17 - «Вокруг “Путешествия в Армению”» (1931–1932).]. И его, комариного князя, «песенка», ставшая звоном высохших трав (ведь он считал свой народ, сухой, мертвой травой[18 - Христианское представление об истории евреев сводилось к тому, что с потерей государственности и изгнания со своей земли после войны с Римом евреи перестали быть субъектом истории, ее активным фактором, их история кончилась, в религиозном же смысле их жалкое положение в изгнании есть вечное наказание за непринятие Христа и активное участие в его казни, в чем евреи сами признались, как сказано в Евангелии от Матфея (27:25): «кровь его на нас и детях наших». Все те евреи, кто в эпоху Просвещения старались всеми силами приобщиться к окружающей христианской культуре чтобы стать частью немецкого или французского гражданского общества, не могли не испытывать влияние этого взгляда. И этот период массового «исхода из гетто» (в России он произошел на полвека позже) сопровождался не только выходом за рамки еврейской общинной организации, отходом от религиозных и культурных традиций, но и полным разрывом с еврейством, включая переход в христианство. Как пишет Моше Гесс в книге «Рим и Иерусалим» (вышла в 1862 году), «просвещение и выход из еврейства были синонимами», и добавляет: «Немецкий еврей, испытывая на каждом шагу ненависть антисемитов, всегда склонен вытравить в себе все еврейское и даже отречься от своей расы», и уж тем более он «с отвращением отвергает еврейские национальные устремления».]), ищет уворованную связь «розовой крови».
Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась, —
Не по ней ли шуршит вор,
Комариный звенит князь?
Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать ночь, разбудить;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная нашлась
Через век, сеновал, сон.
(1922)
Вор и комариный князь это он сам («комарик из Египта», «князь невезения» из «Египетской марки»), иссохший «черствый пасынок веков», и «песня» для него – «ворованный воздух»…
В «Шуме времени» он говорит о книжном шкафе, где пластами лежали еврейские, немецкие и русские книги: этот шкапчик был историей духовного напряжения целого рода и прививки к нему чужой крови (выделено мною).
* * *
Для Гете и для представителей «философии жизни» (Шопенгауэр, Ницше, Шпенглер, Бергсон, Зиммель и др), мир был организмом, существом. Таким он был и для Мандельштама. Его восприятие мира было «физиологическим». «Notre Dame» – живописный «праздник физиологии»[19 - Статья «Утро акмеизма».]: чудовищные ребра, распластанные нервы, крестовый свод, играющий мышцами. Мощь этой архитектуры – «египетская», а христианство здесь впадает в «робость». Жизнь – «стихийный лабиринт», «непостижимый лес», и фаллос «дерзкого свода» собора таранит небо. Именно это буйство жизни поэт полагает прекрасным, мечтая ему подражать («из тяжести недоброй и я когда?нибудь…»). Вяч. Вс. Иванов пишет в предисловии к Полному собранию сочинений поэта о его «биологической концепции искусства»:
Он хотел вернуться к 13 веку, когда готический собор казался «логическим развитием концепции организма». Мандельштаму мечталась такая новая поэтика, которая и словесные образы понимала бы как органы организма.
Поэт действительно считал, что словесные представления
можно рассматривать не только как объективную данность сознания, но и как органы человека, совершенно так же точно, как печень, сердце[20 - Статья «О природе слова» (1920–22).].
Архитектура, вообще, его важнейшая тема. И тут стоит заметить, что для языческой культуры, и не только античной, архитектура – главное из искусств, основа представлений язычника о мироздании (для античного грека – о мире как стройном и совершенном Космосе). В эпоху Возрождения Европа вернулась к образцам древнегреческого и древнеримского искусства, провозгласив его «классическим». Красотой считались стройность, упорядоченность, эталонная «взвешенность» вечно незыблемых геометрических пропорций. Но в эпоху раннего, «темного» Средневековья Европа была хаотичной, животворной, «физиологичной», жила верой и страстями, и в этом смысле далеко ушла от античных образцов. В архитектуре царила готическая стихия. Готический собор похож на взрыв, на извержение жизненной силы, на бьющий ввысь фонтан. Кстати, фонтан – один из образов «жизненного порыва» Анри Бергсона, и у Мандельштама есть раннее стихотворение «Единственной отрадой/Отныне сердцу дан,/ Неутомимо падай/Таинственный фонтан».
Все растет как организм. И растет благодаря току крови. Жизнь есть становление, история. Потому и век у Мандельштама «зверь», и оживить его, склеить его раздробленный хребет может только «кровь?строительница»[21 - Стихотворение «Век» (1922).]. Ток времени есть ток крови. Время – кровь жизни.
Поэт интересовался науками жизненного роста, возникновения жизненных форм, на этой почве подружился с биологом Борисом Сергеевичем Кузиным, увлекался ламаркизмом. А Ламарк учил, что физические признаки не только могут приобретаться в течение жизни, но и могут наследоваться, Мандельштам и писал, что природа – черновик, она «учится» и меняется вследствие обучения! Поэтому Ламарк у него «за честь природы фехтовальщик»[22 - Стихотворение «Ламарк» (1932).]. И поэт близко, как свое, кровное мироощущение, воспринял философию Бергсона, в ее основе «элан виталь» – жизненный порыв, бьющий из сердцевины мирозданья. Т.е. в основе творения не вечные, неизменные и умопостигаемые структуры, а становление жизни во времени, стихийное, хаотическое, глубоко спрятавшее свой «тайный план».
* * *
Однако, «с другой стороны», как отмечал, например, В.М. Жирмунский в статье «Преодолевшие символизм» (1916), у Мандельштама с живой и твердой реальной действительностью, с плотью жизни разорваны все связи, и он
не только не знает лирики любви или лирики природы, обычных тем эмоциональных и лирических стихов, он вообще никогда не рассказывает о себе, о своей душе, о своем непосредственном восприятии жизни, внешней или внутренней. Пользуясь терминологией Фридриха Шлегеля, можно назвать его стихи не поэзией жизни, а «поэзией поэзии» («die Poesie der Poesie»), т. е. поэзией, имеющей своим предметом не жизнь, непосредственно воспринятую самим поэтом, а чужое художественное восприятие жизни. Мандельштаму свойственно чувствовать своеобразие чужих поэтических индивидуальностей и чужих художественных культур, и эти культуры он воспроизводит по?своему, проникновенным творческим воображением.
То есть, его стихи не поэзия жизни, а поэзия «культуры». Но разве культура не продолжение жизни, возведение ее построек («надстроек») над непосредственной природой, постоянно и непрерывно, этаж за этажом? Так Вильгельм Дильтей «трактует жизнь как реальность не просто природную и не только психическую, но прежде всего, культурноисторическую»[23 - Цитирую по книге П.П. Гайденко «Время Длительность Вечность».]. Вот и для Мандельштама жизнь – это строительство культуры, от архитектуры до поэзии. И воздвигнутые постройки – вызов небесам: башни?стрелы целятся в небо («Я ненавижу свет/ Однообразных звезд./ Здравствуй, мой давний бред – / Башни стрельчатый рост! // Кружевом, камень, будь/ И паутиною стань,/ Неба пустую грудь/ Тонкой иглой рань»), а купола – его таранят, как огромные фаллосы («И под каждым ударом тарана/ Осыпаются звезды без глав»). Мандельштам видит жизнь, как историю, но не как мелькание событий, а как рост культуры. И, будучи сыном своего племени, бездомным скитальцем по местам и эпохам (он и в бытовом плане всю жизнь не имел своего угла), ищет, как потерявшееся дитя ищет мать, свою культурную родину – место в культуре. Культура, история, память – святая троица. Он молился ей, и его настоящей страстью было запечатлеть, почувствовать время[24 - «Время,… по Дильтею, есть первое определение жизни» (Гайденко, «Время Длительность Вечность»).] («А я пою вино времен»[25 - Стихотворение «Зверинец» (1916).]; «Золотая забота, как времени бремя избыть»[26 - Стихотворение «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы…» (1920).]). У Пушкина «Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу», но у великого русского поэта только одно такое стихотворение, где его «тревожит» «ход часов однозвучный»[27 - «Пан Зюзя, а почему часы бегут, ведь они на цепочке?» (шутка из «Кабачка 13 стульев», цитирую по памяти).]. И не потому, что Пушкин недостаточно философичен, он просто был человеком других культурных корней, он был эллином, поклонником античных канонов. Время навевало на него меланхолию. Ибо время в античной культуре – космический круговорот вечного возвращения, конкретная жизнь бесследно исчезает в этой воронке. Все «вечности жерлом пожрется», выбил Державин на скрижалях русской культуры. У евреев же время, история и память – субстанция жизни, вязь жизни?бытия?становления[28 - К середине 19 века к идее времени, как истории становления Абсолютного Духа по выражению Гегеля, пришла и немецкая философия.]. Время – это банк, в который мы вкладываем наши усилия. Становление против вечного возвращения, текучесть против неизменности, время против пространства – вот главная коллизия двух великих культур, иудаизма и античной Греции, до сих пор определяющих тенденции мирового развития и творческие усилия художников. И если пространство можно видеть и измерить, то как «увидеть» время? Только в изменениях жизни, пойманных на звук, время можно только услышать. «В ком сердце есть – тот должен слышать время»[29 - Стихотворение «Сумерки свободы» (1918).]. Слово телесно, оно «плоть и хлеб», говорит Мандельштам, Вячеслав Иванов называет свое стихотворение о языке «Слово?Плоть», в нем, в словесном образе, метафоре, рассказе, живет время. Поэтому главное занятие для иудея – литература, создание, изучение и толкование текстов, прежде всего, сложившегося канона. Притом что сама библейская литература – не описательная, а повествовательная. Это не искусство, а мифология становления, хроника, ставшая мифологией. И если сюжет греческой трагедии неизменен, это повторяющийся мятежный вызов героя узилищу своей судьбы, то судьба еврея открыта[30 - Эрих Фромм в работе «Библейская концепция человека» утверждает, что согласно еврейской традиции «человек <…> представляет из себя открытую систему, которая способна развиваться до тех пор, пока он не станет свободен. Для этого он должен быть покорным Богу, с тем чтобы суметь освободиться от своей фиксации на первичных связях и не позволить другому человеку поработить себя».], она – часть общенародной участи, направляемой волей Становления, волей Божьей, он должен за ней следовать, притом, что История движется и меняется, и ее «общий вид» неизвестен, а богоявление надо «ловить» в переменах[31 - «О самом Господе человеку известно лишь в той мере, в какой Тот выявляет себя «исторически». Когда Господь напрямую является народу на горе Синай, Он ничего не говорит о своих атрибутах (всемогуществе, всеведении и т.д.), но заявляет лишь: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исх. 20:2). Этого достаточно. Ибо здесь, как и повсюду, древний Израиль познает, что такое Бог, через те деяния, которые Он совершил в прошлом, в Истории. Коль скоро так, то память действительно приобретает решающее значение для еврейской веры и в конечном счете для еврейского существования». (Иосиф Йерушалми, «Захор (Помни): еврейская история и еврейская память», Мосты культуры, М, 2004, стр. 10)].
* * *
Столкновение «хаоса иудейского» и «стройного миража Петербурга» – лейтмотив не только отроческих впечатлений в «Шуме времени», но и всех дальнейших жизненных коллизий Мандельштама. Этот хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры угрозой разрушения. И уже было понимание, что все это: столпотворение сотни оркестров, поле, колосящееся штыками, чересполосица пешего и конного строя, <…> конногвардейские латы и римские шлемы кавалергардов, – лишь блистательный покров, накинутый над бездной[32 - «Что есть красота?», спрашивает Заболоцкий в стихотворении «Некрасивая девочка», «Сосуд она, в котором пустота,/Или огонь, мерцающий в сосуде?». Но если говорить не о живой грации, а о каменных громадах, то вспоминается великолепная ирония фильма Паоло Соррентино «Великая красота», где великая красота руин античного Рима стала обрамлением великой пустоты Рима нынешнего, свалкой декораций некогда грандиозной пьесы, которая уже не идет в этом театре…]. Античная стройность Петербурга напоминает парадный военный строй[33 - «Не знаю, чем населял воображение маленьких римлян их Капитолий, я же населял эти твердыни и стогны каким?то немыслимым и идеальным всеобщим военным парадом» («Шум времени»).], и «ранний» Мандельштам выстраивает свои стихи в ритме торжественной, чеканной имперской поступи. Хотя уже пробивалось осознание этого «парада» как
вороха военщины и даже какой?то полицейской эстетики. Да какое мне дело было до гвардейских праздников, однообразной красивости пехотных ратей и коней, до батальонов с каменными лицами, текущих гулким шагом по седой от гранита и мрамора Миллионной?[34 - «Шум времени» (1923–24).]
Но только гораздо позже, и постепенно, понятие архитектуры превратилось в метафору «тайного плана» жизни, а первенство в строительстве культуры заняла речь…
Языковед и исследователь творчества Мандельштама Лев Городецкий утверждает: вся еврейская диаспоральная цивилизация есть, в сущности, «цивилизация Текста и Метафоры»[35 - Л. Городецкий, «Пульса ди?нура Осипа Мандельштама: последний террорист БО», М, Таргум, 2018. «Пульса ди нура» в прямом переводе с иврита – удар света, или удар огня, понятие в еврейской мистике, «огненные розги» для наказания злых духом. Не забудем, что сам Господь явился народу Израиля как столп огня, бичом огненным.]. Цитируя работу Мандельштама «Вокруг “Разговора о Данте”», он пишет:
РоД: «Я сравниваю – значит, я живу, – мог бы сказать Дант. Он был Декартом метафоры. Ибо для нашего сознания (а где взять другое?) только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть – сравнение». Ср. частотное и рутинное выражение в Талмуде, применяемое, когда нужно понять «значение» (смысл) рассматриваемого объекта (предмета, ситуации, высказывания и т. п.): hейхе даме? = арам. «на что это похоже?», после чего создаётся «рабочая метафора», улучшающая понимание объекта. Эта традиционная еврейская (она же мандельштамовская) установка на симулятивность/ имитационность часто вызывала неприятие и неприязнь у «других»: с точки зрения «европейского» (христианского) мира, это «симулякризация» действительности, замена «реальных вещей» текстуальными симулякрами, приводящая к «тотальной семиотизации бытия вплоть до обретения знаковой сферой статуса единственной и самодостаточной реальности».
Соглашусь с Городецким, когда он называет Мандельштама фокусом матриц еврейской культурно?цивилизационной системы. Только добавлю: всей своей личностью, судьбой и творчеством Мандельштам стал полем столкновения двух культур, двух представлений о мире, фокусом их борьбы (культуры времени и культуры пространства, и для культуры пространства время воистину разрушительно). И его жизнь – история высвобождения из вязких объятий эклектической великодержавной русской культуры[36 - Нужно внести поправку: схожие мотивы, хотя и с другими акцентами, есть и у Городецкого в его книгах «Текст и мир на листе Мёбиуса» и «Квантовые смыслы Осипа Мандельштама», которые я, ко времени написания своего текста, не читал. Но я рад, что мы, «не сговариваясь», пришли к тому же пониманию этого аспекта творчества Мандельштама, залог того, что понимание верно.].
Да и все эти «200 лет вместе» были эпохой выживания и прорастания сквозь щели имперских плит обновленного ростка еврейской культуры, его прорыва в среду русской цивилизации и столкновения с ней. Русская культура, благодаря «административному ресурсу» и авторитету империи многим евреям казалась выходом к европейскому универсализму, к «мировой культуре», не говоря уже о практической пользе включения в общей социум, причем на ведущих ролях, поскольку культура всегда была локомотивом общественного развития, а «культурность», соответственно, критерием общественной значимости. Даже в России на рубеже 19?го – 20?го веков элитами общества все больше ценилась уже не этническая, и не сословная, а культурная принадлежность.
Возможно, именно поэтому вторжение евреев в русскую культуру многими ее «коренными» представителями воспринималось столь болезненно: появился мощный конкурент в борьбе за ведущие позиции в обществе! И даже более того – за власть над умами. В противовес выдумали (и лучше выдумать не мог) глубокомысленную теорию о том, что евреи, именно в силу их этнической чуждости, «органически» не в состоянии «понять» русскую душу и русский дух[37 - В свое время это утверждал Вагнер в памфлете «Еврейство в музыке» (в соответствие с общим романтическим представлением о «природности» коренной культуры): необходимо иметь в виду то обстоятельство, что еврей, научившись говорить на всех европейских языках, но не владея ими как языками природными, окончательно лишён какой бы то ни было способности выражаться на них вполне самостоятельно и индивидуально своеобразно. «Природное» у Вагнера противостоит «надуманному».]. Можно вспомнить знаменитое письмо Куприна о евреях (1909): дескать, будьте кем угодно, хоть генералами, но не трогайте нашего языка, который вам чужд[38 - Из письма А. Куприна Д. Батюшкову от 1909 года. Приведу еще фрагмент: «Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю в самомсамом хвосте) давно бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь». Похоже, что собственный народ знаменитый русский писатель считает лошадью в болоте…], или известный скандал, вызванный статьей Чуковского «Евреи в русской литературе» (1908 год, период формирования поэта Мандельштама), где милый полуеврей?полуукраинец Корней Иваныч постулировал:
духовное сближение наций это беседа глухонемых, а еврей, вступая в русскую литературу, идет в ней на десятые роли не потому, что он бездарен, а потому, что язык, на котором он здесь пишет, не его язык.
Зинаида Гиппиус вспоминала о Волынском (Флексере):
Он, впрочем, еврейства своего и не скрывал (как Льдов?Розенблюм), а, напротив, им даже гордился. <…> Вначале я была так наивна, что раз искренне стала его жалеть: сказала, что <…> писать действительно литературно можно только на одном, и вот этом именно, внутренне родном языке. <…> Но этот язык <…> им не «родной» не «отечественный», ибо у них «родина» не совпадает с «отечеством», которого у евреев – нет. <…> Все это я ему высказала совершенно просто, в начале наших добрых отношений, повторяю – с наивностью, без всякого антисемитизма… И была испугана его возмущенным протестом[39 - Хаим Лейбович Флексер (1861–1926), он же Аким Волынский, журналист, критик и литератор, был любопытной фигурой русского Серебряного века, а на упомянутую тему можно вспомнить его иронический отпор выпадам знаменитого журналиста Буренина против жидовского засилья в русской литературе: «Понятно, что во всем виноваты евреи, у которых нет искусства – есть только ремесло; и напрасно говорят, будто в искусстве бывали гении от евреев: бывали только виртуозы, но отнюдь не гении. Генрих Гейне, и тот только виртуоз, а отнюдь не истинный художник…» Буренин писал о новой русской литературе – это конец 80?х 19?го столетия: «Искривлены четыре позвонка, /Поставлены лопатки скверно, /И в общем – пакостный скелет /В жидовском стиле русского модерна». На тему Волынского горячо рекомендую книгу Елены Толстой «Бедный рыцарь» («Мосты культуры», М, 2013).].
По Розанову
Все весело у них. Все траурно у нас. Ведь это у нас «плакучие ивы», а у евреев в Ханаане – нарды, гранаты и виноградная лоза. И «бедных селений» России они никогда не поймут и никогда их не примут во внимание[40 - В. В. Розанов, «Осязательное и обонятельное отношение евреев к крови», главка «В “вечер Бейлиса"…» (1914).].
Такого рода примерам несть числа. Это все были простоватые попытки отмахнуться от непрошенных сотрудников по культуре. Но были и более основательные попытки интеллектуальной борьбы с этакой напастью, например, показать духовную нищету или моральную несостоятельность «колонизаторов духа», представить их «культурную систему» как в корне чуждую и даже враждебную духовным скрепам т. ск. отечественного разлива. В качестве идейных борцов с «еврейством» можно назвать таких выдающихся русских мыслителей как о. П. Флоренский, В.В.Розанов, А.Ф.Лосев, Ф. М. Достоевский[41 - Отношение Достоевского к еврейству это, конечно, отдельная песня и – яркая иллюстрация «теории замещения» (христиане – Новый Израиль). Достоевский был повернут на мессианской избранности русского народа?богоносца, и конкретные живые евреи в эту картину мира не вписывались… Но при всей его неприязни к конкретным и живым евреям, к ветхозаветным он испытывает чуть ли не благоговение: «Ибо люблю книгу сию! – говорит старец Зосима, герой «Братьев Карамазовых». – Какое чудо и какая сила, данные в ней человеку. Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все, и указано на веки веков». В известной главе «Еврейский вопрос» (в «Дневнике писателя»), заслуженно названной «Библией русских антисемитов» (цитаты из нее гитлеровцы разбрасывали во время войны над советскими окопами как листовки), он пишет с пророческим пафосом: «Не настали еще все времена и сроки, несмотря на протекшие сорок веков, и окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди. <…> И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохоранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произносить своего последнего слова». И там же он называет евреев «народом – беспримерным в мире». А.З. Штейнберг сравнивает Достоевского с библейским прорицателем Валаамом, что должен был проклясть Израиль, но вынужден был благословить его. Вообще, надо сказать, что именно в русской культуре заметно такое обостренное внимание к метафизике еврейства и ее влиянии на русскую судьбу, об этом писали (кроме выше перечисленных гениев русской культуры) и Лев Толстой, и Николай Лесков, и Владимир Соловьев, и Николай Бердяев, и Лев Карсавин и еще многие другие.]. Основные тезисы этого «духовного сопротивления» лапидарно сформулировал известный российский историк античности Ф.Ф. Зелинский в своем фундаментальном труде «Эллинизм и иудаизм»: если для «эллина» «божество открывается в добре, в правде, в красоте», то для иудея «в добре и правде Иегова открывается лишь частично, а в красоте не открывается вовсе»[42 - Зелинский подробно разбирает «недостатки» иудейской веры: «неспособность ощутить божественное откровение в красоте»; «негостеприимный образ жизни»; отношение к женщине («в этом состязании эллинизму принадлежит неоспоримое первенство»); правила приготовления пищи, кои «были настолько многочисленны, настолько суровы и настолько неуместны, что сам иудей <…> мог пояснить их появление только тем, что святой законодатель хотел каменной стеной оградить своих приверженцев от всего мира и, можно добавить, посеять семена ненависти между одними и другими, чтобы эти семена прорастали и колосились все буйнее с каждым новым поколением», презрение к простому человеку («простой человек (am ha?arez, terraefilius) не может быть благочестивым», – говорил раввин Гиллель, человек, вообще?то, мягкий и либеральный»); обряд обрезания, который «подверг Израиль осмеянию на все времена»; празднование субботы, что «в греко?римском обществе высмеивалась как праздник лени»; и, конечно, «основная черта иудаизма» – то, что он был религией страха». Как опытный пропагандист Зелинский не чурается передержек, подтасовок и прямых насмешек, вроде таких, например: «раввины признают женщину зрелой для супружеского сожительства – настоящего, а не фиктивного – уже с трех лет: такое сладострастное калечение и уничтожение девочек, для которого наш закон предусматривает самые строгие наказания, рассматривается там как вещь вполне естественная»; святость свитка Торы он считает «фетишизмом»; но «изредка мы бываем приятно удивлены неожиданными проблесками здравого рассудка. Так, на вопрос, что следует делать, если на ручку посуды упала капля нечистой жидкости, раввин отвечает: «Ее следует вытереть, и она будет чистой». Но это белые вороны. Возможно, даже эллинского происхождения». Ну и т.д. и т.п.].
* * *
На самом деле евреи, стремящиеся к культурной ассимиляции, и Мандельштам в их числе, попали в силовое поле обновленной (после реформ Петра), но не устоявшейся, эклектичной культуры, во многих своих основаниях заимствованной, частично, через библейскую традицию, у тех же евреев, но в основном у Европы Нового Времени, и мучительно ищущей свой путь, свои каноны. Сама Европа, к началу 20 века уже отвернувшаяся от христианства и оставившая идею возврата к античности, оказалась в ситуации разброда, раздрая и декаданса. И русский «Серебряный век», подражавший европейским декадентам, прошел в непримиримой борьбе между позитивизмом (в основном марксистского толка) и отчаянным поиском новых религиозных основ. В той борьбе и сгорел.
А после Революции произошла очередная в истории России смена вех, сопровождавшаяся разгромом старой культуры, и прежде всего милой сердцу поэта филологии. В статье «Государство и ритм» 1918 года Мандельштам пишет о «филологическом оскудении» и даже об «антифилологическом характере нашей эпохи». Над нами варварское небо, и все?таки мы эллины, восклицает он. Это чужое, варварское небо[43 - «Но северные скальды грубы,/ Не знают радостей игры… Им только снится воздух юга – / Чужого неба волшебство…» («Когда на площадях и в тишине келейно…»)] невольно подталкивает его, всю жизнь пытавшегося уйти от «своих»[44 - Мандельштам долгое время разделял убеждение многих соплеменников об исчерпанности еврейской истории. Так Борис Пастернак, устами Гордона, героя романа «Доктор Живаго», говорит о еврействе: «Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков». «Только народом» означает, по мнению Пастернака, быть народом без истории, вне путей мировой культуры. И тут же у него прорывается совершенно уже истеричный выкрик: «Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь…»], на путь возвращения к культурному наследию предков, и даже осознать свое вольное или невольное противостояние русской культуре.
Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе, и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского отродья.
Это «Четвертая проза», 30?ый год. Хотя страх перед «Русью» был всегда, изначально, с первых стихов («Что?то ползет, надвигается тучею,/Что?то наводит испуг…»). После Армении отторжение стало явным, на уровне не только культуры, но и «физиологии».
Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая всетаки украшает жизнь. <…> И я благодарил свое рождение за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу лучших своих лет. Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России…[45 - «Путешествие в Армению» (1931–32).]
Это сказано именно в контрасте с Арменией, которую он называл «страной субботней» и «младшей сестрой земли иудейской». Надежда Яковлевна пишет в мемуарах:
Для Мандельштама приезд в Армению был возвращением в родное лоно – туда, где все началось, к отцам, к истокам, к источнику.
* * *
Я как?то участвовал в телепередаче «Наши с Новоженовым», и Лев Юрьевич меня спросил: «Как Вы думаете, если бы Мандельштам дожил до наших дней, уехал бы он в Израиль?» Я тогда неловко отшутился, а через некоторое время раздался звонок из Хайфы: говорит Мандельштам, прочитал Вашу интересную книжку, приезжайте, поговорим. Я, конечно, помчался, открывается дверь и – передо мной, ну живой Иосиф Эмильевич! Мистика! Это был Александр Александрович Мандельштам, племянник поэта – поразило родовое сходство…
Так вот, если снова вернуться к вопросу Новоженова: да, конечно уехал бы, потому что поехал в Армению, разыгрывая Исход. И неслучайно в «Четвертой прозе» упомянуты «еврейский посох» и «мужество»:
Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего щелоком белья… И я бы вышел на вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой – моим еврейским посохом – в другой.
Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась, —
Не по ней ли шуршит вор,
Комариный звенит князь?
Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать ночь, разбудить;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная нашлась
Через век, сеновал, сон.
(1922)
Вор и комариный князь это он сам («комарик из Египта», «князь невезения» из «Египетской марки»), иссохший «черствый пасынок веков», и «песня» для него – «ворованный воздух»…
В «Шуме времени» он говорит о книжном шкафе, где пластами лежали еврейские, немецкие и русские книги: этот шкапчик был историей духовного напряжения целого рода и прививки к нему чужой крови (выделено мною).
* * *
Для Гете и для представителей «философии жизни» (Шопенгауэр, Ницше, Шпенглер, Бергсон, Зиммель и др), мир был организмом, существом. Таким он был и для Мандельштама. Его восприятие мира было «физиологическим». «Notre Dame» – живописный «праздник физиологии»[19 - Статья «Утро акмеизма».]: чудовищные ребра, распластанные нервы, крестовый свод, играющий мышцами. Мощь этой архитектуры – «египетская», а христианство здесь впадает в «робость». Жизнь – «стихийный лабиринт», «непостижимый лес», и фаллос «дерзкого свода» собора таранит небо. Именно это буйство жизни поэт полагает прекрасным, мечтая ему подражать («из тяжести недоброй и я когда?нибудь…»). Вяч. Вс. Иванов пишет в предисловии к Полному собранию сочинений поэта о его «биологической концепции искусства»:
Он хотел вернуться к 13 веку, когда готический собор казался «логическим развитием концепции организма». Мандельштаму мечталась такая новая поэтика, которая и словесные образы понимала бы как органы организма.
Поэт действительно считал, что словесные представления
можно рассматривать не только как объективную данность сознания, но и как органы человека, совершенно так же точно, как печень, сердце[20 - Статья «О природе слова» (1920–22).].
Архитектура, вообще, его важнейшая тема. И тут стоит заметить, что для языческой культуры, и не только античной, архитектура – главное из искусств, основа представлений язычника о мироздании (для античного грека – о мире как стройном и совершенном Космосе). В эпоху Возрождения Европа вернулась к образцам древнегреческого и древнеримского искусства, провозгласив его «классическим». Красотой считались стройность, упорядоченность, эталонная «взвешенность» вечно незыблемых геометрических пропорций. Но в эпоху раннего, «темного» Средневековья Европа была хаотичной, животворной, «физиологичной», жила верой и страстями, и в этом смысле далеко ушла от античных образцов. В архитектуре царила готическая стихия. Готический собор похож на взрыв, на извержение жизненной силы, на бьющий ввысь фонтан. Кстати, фонтан – один из образов «жизненного порыва» Анри Бергсона, и у Мандельштама есть раннее стихотворение «Единственной отрадой/Отныне сердцу дан,/ Неутомимо падай/Таинственный фонтан».
Все растет как организм. И растет благодаря току крови. Жизнь есть становление, история. Потому и век у Мандельштама «зверь», и оживить его, склеить его раздробленный хребет может только «кровь?строительница»[21 - Стихотворение «Век» (1922).]. Ток времени есть ток крови. Время – кровь жизни.
Поэт интересовался науками жизненного роста, возникновения жизненных форм, на этой почве подружился с биологом Борисом Сергеевичем Кузиным, увлекался ламаркизмом. А Ламарк учил, что физические признаки не только могут приобретаться в течение жизни, но и могут наследоваться, Мандельштам и писал, что природа – черновик, она «учится» и меняется вследствие обучения! Поэтому Ламарк у него «за честь природы фехтовальщик»[22 - Стихотворение «Ламарк» (1932).]. И поэт близко, как свое, кровное мироощущение, воспринял философию Бергсона, в ее основе «элан виталь» – жизненный порыв, бьющий из сердцевины мирозданья. Т.е. в основе творения не вечные, неизменные и умопостигаемые структуры, а становление жизни во времени, стихийное, хаотическое, глубоко спрятавшее свой «тайный план».
* * *
Однако, «с другой стороны», как отмечал, например, В.М. Жирмунский в статье «Преодолевшие символизм» (1916), у Мандельштама с живой и твердой реальной действительностью, с плотью жизни разорваны все связи, и он
не только не знает лирики любви или лирики природы, обычных тем эмоциональных и лирических стихов, он вообще никогда не рассказывает о себе, о своей душе, о своем непосредственном восприятии жизни, внешней или внутренней. Пользуясь терминологией Фридриха Шлегеля, можно назвать его стихи не поэзией жизни, а «поэзией поэзии» («die Poesie der Poesie»), т. е. поэзией, имеющей своим предметом не жизнь, непосредственно воспринятую самим поэтом, а чужое художественное восприятие жизни. Мандельштаму свойственно чувствовать своеобразие чужих поэтических индивидуальностей и чужих художественных культур, и эти культуры он воспроизводит по?своему, проникновенным творческим воображением.
То есть, его стихи не поэзия жизни, а поэзия «культуры». Но разве культура не продолжение жизни, возведение ее построек («надстроек») над непосредственной природой, постоянно и непрерывно, этаж за этажом? Так Вильгельм Дильтей «трактует жизнь как реальность не просто природную и не только психическую, но прежде всего, культурноисторическую»[23 - Цитирую по книге П.П. Гайденко «Время Длительность Вечность».]. Вот и для Мандельштама жизнь – это строительство культуры, от архитектуры до поэзии. И воздвигнутые постройки – вызов небесам: башни?стрелы целятся в небо («Я ненавижу свет/ Однообразных звезд./ Здравствуй, мой давний бред – / Башни стрельчатый рост! // Кружевом, камень, будь/ И паутиною стань,/ Неба пустую грудь/ Тонкой иглой рань»), а купола – его таранят, как огромные фаллосы («И под каждым ударом тарана/ Осыпаются звезды без глав»). Мандельштам видит жизнь, как историю, но не как мелькание событий, а как рост культуры. И, будучи сыном своего племени, бездомным скитальцем по местам и эпохам (он и в бытовом плане всю жизнь не имел своего угла), ищет, как потерявшееся дитя ищет мать, свою культурную родину – место в культуре. Культура, история, память – святая троица. Он молился ей, и его настоящей страстью было запечатлеть, почувствовать время[24 - «Время,… по Дильтею, есть первое определение жизни» (Гайденко, «Время Длительность Вечность»).] («А я пою вино времен»[25 - Стихотворение «Зверинец» (1916).]; «Золотая забота, как времени бремя избыть»[26 - Стихотворение «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы…» (1920).]). У Пушкина «Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу», но у великого русского поэта только одно такое стихотворение, где его «тревожит» «ход часов однозвучный»[27 - «Пан Зюзя, а почему часы бегут, ведь они на цепочке?» (шутка из «Кабачка 13 стульев», цитирую по памяти).]. И не потому, что Пушкин недостаточно философичен, он просто был человеком других культурных корней, он был эллином, поклонником античных канонов. Время навевало на него меланхолию. Ибо время в античной культуре – космический круговорот вечного возвращения, конкретная жизнь бесследно исчезает в этой воронке. Все «вечности жерлом пожрется», выбил Державин на скрижалях русской культуры. У евреев же время, история и память – субстанция жизни, вязь жизни?бытия?становления[28 - К середине 19 века к идее времени, как истории становления Абсолютного Духа по выражению Гегеля, пришла и немецкая философия.]. Время – это банк, в который мы вкладываем наши усилия. Становление против вечного возвращения, текучесть против неизменности, время против пространства – вот главная коллизия двух великих культур, иудаизма и античной Греции, до сих пор определяющих тенденции мирового развития и творческие усилия художников. И если пространство можно видеть и измерить, то как «увидеть» время? Только в изменениях жизни, пойманных на звук, время можно только услышать. «В ком сердце есть – тот должен слышать время»[29 - Стихотворение «Сумерки свободы» (1918).]. Слово телесно, оно «плоть и хлеб», говорит Мандельштам, Вячеслав Иванов называет свое стихотворение о языке «Слово?Плоть», в нем, в словесном образе, метафоре, рассказе, живет время. Поэтому главное занятие для иудея – литература, создание, изучение и толкование текстов, прежде всего, сложившегося канона. Притом что сама библейская литература – не описательная, а повествовательная. Это не искусство, а мифология становления, хроника, ставшая мифологией. И если сюжет греческой трагедии неизменен, это повторяющийся мятежный вызов героя узилищу своей судьбы, то судьба еврея открыта[30 - Эрих Фромм в работе «Библейская концепция человека» утверждает, что согласно еврейской традиции «человек <…> представляет из себя открытую систему, которая способна развиваться до тех пор, пока он не станет свободен. Для этого он должен быть покорным Богу, с тем чтобы суметь освободиться от своей фиксации на первичных связях и не позволить другому человеку поработить себя».], она – часть общенародной участи, направляемой волей Становления, волей Божьей, он должен за ней следовать, притом, что История движется и меняется, и ее «общий вид» неизвестен, а богоявление надо «ловить» в переменах[31 - «О самом Господе человеку известно лишь в той мере, в какой Тот выявляет себя «исторически». Когда Господь напрямую является народу на горе Синай, Он ничего не говорит о своих атрибутах (всемогуществе, всеведении и т.д.), но заявляет лишь: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исх. 20:2). Этого достаточно. Ибо здесь, как и повсюду, древний Израиль познает, что такое Бог, через те деяния, которые Он совершил в прошлом, в Истории. Коль скоро так, то память действительно приобретает решающее значение для еврейской веры и в конечном счете для еврейского существования». (Иосиф Йерушалми, «Захор (Помни): еврейская история и еврейская память», Мосты культуры, М, 2004, стр. 10)].
* * *
Столкновение «хаоса иудейского» и «стройного миража Петербурга» – лейтмотив не только отроческих впечатлений в «Шуме времени», но и всех дальнейших жизненных коллизий Мандельштама. Этот хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры угрозой разрушения. И уже было понимание, что все это: столпотворение сотни оркестров, поле, колосящееся штыками, чересполосица пешего и конного строя, <…> конногвардейские латы и римские шлемы кавалергардов, – лишь блистательный покров, накинутый над бездной[32 - «Что есть красота?», спрашивает Заболоцкий в стихотворении «Некрасивая девочка», «Сосуд она, в котором пустота,/Или огонь, мерцающий в сосуде?». Но если говорить не о живой грации, а о каменных громадах, то вспоминается великолепная ирония фильма Паоло Соррентино «Великая красота», где великая красота руин античного Рима стала обрамлением великой пустоты Рима нынешнего, свалкой декораций некогда грандиозной пьесы, которая уже не идет в этом театре…]. Античная стройность Петербурга напоминает парадный военный строй[33 - «Не знаю, чем населял воображение маленьких римлян их Капитолий, я же населял эти твердыни и стогны каким?то немыслимым и идеальным всеобщим военным парадом» («Шум времени»).], и «ранний» Мандельштам выстраивает свои стихи в ритме торжественной, чеканной имперской поступи. Хотя уже пробивалось осознание этого «парада» как
вороха военщины и даже какой?то полицейской эстетики. Да какое мне дело было до гвардейских праздников, однообразной красивости пехотных ратей и коней, до батальонов с каменными лицами, текущих гулким шагом по седой от гранита и мрамора Миллионной?[34 - «Шум времени» (1923–24).]
Но только гораздо позже, и постепенно, понятие архитектуры превратилось в метафору «тайного плана» жизни, а первенство в строительстве культуры заняла речь…
Языковед и исследователь творчества Мандельштама Лев Городецкий утверждает: вся еврейская диаспоральная цивилизация есть, в сущности, «цивилизация Текста и Метафоры»[35 - Л. Городецкий, «Пульса ди?нура Осипа Мандельштама: последний террорист БО», М, Таргум, 2018. «Пульса ди нура» в прямом переводе с иврита – удар света, или удар огня, понятие в еврейской мистике, «огненные розги» для наказания злых духом. Не забудем, что сам Господь явился народу Израиля как столп огня, бичом огненным.]. Цитируя работу Мандельштама «Вокруг “Разговора о Данте”», он пишет:
РоД: «Я сравниваю – значит, я живу, – мог бы сказать Дант. Он был Декартом метафоры. Ибо для нашего сознания (а где взять другое?) только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть – сравнение». Ср. частотное и рутинное выражение в Талмуде, применяемое, когда нужно понять «значение» (смысл) рассматриваемого объекта (предмета, ситуации, высказывания и т. п.): hейхе даме? = арам. «на что это похоже?», после чего создаётся «рабочая метафора», улучшающая понимание объекта. Эта традиционная еврейская (она же мандельштамовская) установка на симулятивность/ имитационность часто вызывала неприятие и неприязнь у «других»: с точки зрения «европейского» (христианского) мира, это «симулякризация» действительности, замена «реальных вещей» текстуальными симулякрами, приводящая к «тотальной семиотизации бытия вплоть до обретения знаковой сферой статуса единственной и самодостаточной реальности».
Соглашусь с Городецким, когда он называет Мандельштама фокусом матриц еврейской культурно?цивилизационной системы. Только добавлю: всей своей личностью, судьбой и творчеством Мандельштам стал полем столкновения двух культур, двух представлений о мире, фокусом их борьбы (культуры времени и культуры пространства, и для культуры пространства время воистину разрушительно). И его жизнь – история высвобождения из вязких объятий эклектической великодержавной русской культуры[36 - Нужно внести поправку: схожие мотивы, хотя и с другими акцентами, есть и у Городецкого в его книгах «Текст и мир на листе Мёбиуса» и «Квантовые смыслы Осипа Мандельштама», которые я, ко времени написания своего текста, не читал. Но я рад, что мы, «не сговариваясь», пришли к тому же пониманию этого аспекта творчества Мандельштама, залог того, что понимание верно.].
Да и все эти «200 лет вместе» были эпохой выживания и прорастания сквозь щели имперских плит обновленного ростка еврейской культуры, его прорыва в среду русской цивилизации и столкновения с ней. Русская культура, благодаря «административному ресурсу» и авторитету империи многим евреям казалась выходом к европейскому универсализму, к «мировой культуре», не говоря уже о практической пользе включения в общей социум, причем на ведущих ролях, поскольку культура всегда была локомотивом общественного развития, а «культурность», соответственно, критерием общественной значимости. Даже в России на рубеже 19?го – 20?го веков элитами общества все больше ценилась уже не этническая, и не сословная, а культурная принадлежность.
Возможно, именно поэтому вторжение евреев в русскую культуру многими ее «коренными» представителями воспринималось столь болезненно: появился мощный конкурент в борьбе за ведущие позиции в обществе! И даже более того – за власть над умами. В противовес выдумали (и лучше выдумать не мог) глубокомысленную теорию о том, что евреи, именно в силу их этнической чуждости, «органически» не в состоянии «понять» русскую душу и русский дух[37 - В свое время это утверждал Вагнер в памфлете «Еврейство в музыке» (в соответствие с общим романтическим представлением о «природности» коренной культуры): необходимо иметь в виду то обстоятельство, что еврей, научившись говорить на всех европейских языках, но не владея ими как языками природными, окончательно лишён какой бы то ни было способности выражаться на них вполне самостоятельно и индивидуально своеобразно. «Природное» у Вагнера противостоит «надуманному».]. Можно вспомнить знаменитое письмо Куприна о евреях (1909): дескать, будьте кем угодно, хоть генералами, но не трогайте нашего языка, который вам чужд[38 - Из письма А. Куприна Д. Батюшкову от 1909 года. Приведу еще фрагмент: «Все мы, лучшие люди России (себя я к ним причисляю в самомсамом хвосте) давно бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь». Похоже, что собственный народ знаменитый русский писатель считает лошадью в болоте…], или известный скандал, вызванный статьей Чуковского «Евреи в русской литературе» (1908 год, период формирования поэта Мандельштама), где милый полуеврей?полуукраинец Корней Иваныч постулировал:
духовное сближение наций это беседа глухонемых, а еврей, вступая в русскую литературу, идет в ней на десятые роли не потому, что он бездарен, а потому, что язык, на котором он здесь пишет, не его язык.
Зинаида Гиппиус вспоминала о Волынском (Флексере):
Он, впрочем, еврейства своего и не скрывал (как Льдов?Розенблюм), а, напротив, им даже гордился. <…> Вначале я была так наивна, что раз искренне стала его жалеть: сказала, что <…> писать действительно литературно можно только на одном, и вот этом именно, внутренне родном языке. <…> Но этот язык <…> им не «родной» не «отечественный», ибо у них «родина» не совпадает с «отечеством», которого у евреев – нет. <…> Все это я ему высказала совершенно просто, в начале наших добрых отношений, повторяю – с наивностью, без всякого антисемитизма… И была испугана его возмущенным протестом[39 - Хаим Лейбович Флексер (1861–1926), он же Аким Волынский, журналист, критик и литератор, был любопытной фигурой русского Серебряного века, а на упомянутую тему можно вспомнить его иронический отпор выпадам знаменитого журналиста Буренина против жидовского засилья в русской литературе: «Понятно, что во всем виноваты евреи, у которых нет искусства – есть только ремесло; и напрасно говорят, будто в искусстве бывали гении от евреев: бывали только виртуозы, но отнюдь не гении. Генрих Гейне, и тот только виртуоз, а отнюдь не истинный художник…» Буренин писал о новой русской литературе – это конец 80?х 19?го столетия: «Искривлены четыре позвонка, /Поставлены лопатки скверно, /И в общем – пакостный скелет /В жидовском стиле русского модерна». На тему Волынского горячо рекомендую книгу Елены Толстой «Бедный рыцарь» («Мосты культуры», М, 2013).].
По Розанову
Все весело у них. Все траурно у нас. Ведь это у нас «плакучие ивы», а у евреев в Ханаане – нарды, гранаты и виноградная лоза. И «бедных селений» России они никогда не поймут и никогда их не примут во внимание[40 - В. В. Розанов, «Осязательное и обонятельное отношение евреев к крови», главка «В “вечер Бейлиса"…» (1914).].
Такого рода примерам несть числа. Это все были простоватые попытки отмахнуться от непрошенных сотрудников по культуре. Но были и более основательные попытки интеллектуальной борьбы с этакой напастью, например, показать духовную нищету или моральную несостоятельность «колонизаторов духа», представить их «культурную систему» как в корне чуждую и даже враждебную духовным скрепам т. ск. отечественного разлива. В качестве идейных борцов с «еврейством» можно назвать таких выдающихся русских мыслителей как о. П. Флоренский, В.В.Розанов, А.Ф.Лосев, Ф. М. Достоевский[41 - Отношение Достоевского к еврейству это, конечно, отдельная песня и – яркая иллюстрация «теории замещения» (христиане – Новый Израиль). Достоевский был повернут на мессианской избранности русского народа?богоносца, и конкретные живые евреи в эту картину мира не вписывались… Но при всей его неприязни к конкретным и живым евреям, к ветхозаветным он испытывает чуть ли не благоговение: «Ибо люблю книгу сию! – говорит старец Зосима, герой «Братьев Карамазовых». – Какое чудо и какая сила, данные в ней человеку. Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все, и указано на веки веков». В известной главе «Еврейский вопрос» (в «Дневнике писателя»), заслуженно названной «Библией русских антисемитов» (цитаты из нее гитлеровцы разбрасывали во время войны над советскими окопами как листовки), он пишет с пророческим пафосом: «Не настали еще все времена и сроки, несмотря на протекшие сорок веков, и окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди. <…> И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохоранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произносить своего последнего слова». И там же он называет евреев «народом – беспримерным в мире». А.З. Штейнберг сравнивает Достоевского с библейским прорицателем Валаамом, что должен был проклясть Израиль, но вынужден был благословить его. Вообще, надо сказать, что именно в русской культуре заметно такое обостренное внимание к метафизике еврейства и ее влиянии на русскую судьбу, об этом писали (кроме выше перечисленных гениев русской культуры) и Лев Толстой, и Николай Лесков, и Владимир Соловьев, и Николай Бердяев, и Лев Карсавин и еще многие другие.]. Основные тезисы этого «духовного сопротивления» лапидарно сформулировал известный российский историк античности Ф.Ф. Зелинский в своем фундаментальном труде «Эллинизм и иудаизм»: если для «эллина» «божество открывается в добре, в правде, в красоте», то для иудея «в добре и правде Иегова открывается лишь частично, а в красоте не открывается вовсе»[42 - Зелинский подробно разбирает «недостатки» иудейской веры: «неспособность ощутить божественное откровение в красоте»; «негостеприимный образ жизни»; отношение к женщине («в этом состязании эллинизму принадлежит неоспоримое первенство»); правила приготовления пищи, кои «были настолько многочисленны, настолько суровы и настолько неуместны, что сам иудей <…> мог пояснить их появление только тем, что святой законодатель хотел каменной стеной оградить своих приверженцев от всего мира и, можно добавить, посеять семена ненависти между одними и другими, чтобы эти семена прорастали и колосились все буйнее с каждым новым поколением», презрение к простому человеку («простой человек (am ha?arez, terraefilius) не может быть благочестивым», – говорил раввин Гиллель, человек, вообще?то, мягкий и либеральный»); обряд обрезания, который «подверг Израиль осмеянию на все времена»; празднование субботы, что «в греко?римском обществе высмеивалась как праздник лени»; и, конечно, «основная черта иудаизма» – то, что он был религией страха». Как опытный пропагандист Зелинский не чурается передержек, подтасовок и прямых насмешек, вроде таких, например: «раввины признают женщину зрелой для супружеского сожительства – настоящего, а не фиктивного – уже с трех лет: такое сладострастное калечение и уничтожение девочек, для которого наш закон предусматривает самые строгие наказания, рассматривается там как вещь вполне естественная»; святость свитка Торы он считает «фетишизмом»; но «изредка мы бываем приятно удивлены неожиданными проблесками здравого рассудка. Так, на вопрос, что следует делать, если на ручку посуды упала капля нечистой жидкости, раввин отвечает: «Ее следует вытереть, и она будет чистой». Но это белые вороны. Возможно, даже эллинского происхождения». Ну и т.д. и т.п.].
* * *
На самом деле евреи, стремящиеся к культурной ассимиляции, и Мандельштам в их числе, попали в силовое поле обновленной (после реформ Петра), но не устоявшейся, эклектичной культуры, во многих своих основаниях заимствованной, частично, через библейскую традицию, у тех же евреев, но в основном у Европы Нового Времени, и мучительно ищущей свой путь, свои каноны. Сама Европа, к началу 20 века уже отвернувшаяся от христианства и оставившая идею возврата к античности, оказалась в ситуации разброда, раздрая и декаданса. И русский «Серебряный век», подражавший европейским декадентам, прошел в непримиримой борьбе между позитивизмом (в основном марксистского толка) и отчаянным поиском новых религиозных основ. В той борьбе и сгорел.
А после Революции произошла очередная в истории России смена вех, сопровождавшаяся разгромом старой культуры, и прежде всего милой сердцу поэта филологии. В статье «Государство и ритм» 1918 года Мандельштам пишет о «филологическом оскудении» и даже об «антифилологическом характере нашей эпохи». Над нами варварское небо, и все?таки мы эллины, восклицает он. Это чужое, варварское небо[43 - «Но северные скальды грубы,/ Не знают радостей игры… Им только снится воздух юга – / Чужого неба волшебство…» («Когда на площадях и в тишине келейно…»)] невольно подталкивает его, всю жизнь пытавшегося уйти от «своих»[44 - Мандельштам долгое время разделял убеждение многих соплеменников об исчерпанности еврейской истории. Так Борис Пастернак, устами Гордона, героя романа «Доктор Живаго», говорит о еврействе: «Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков». «Только народом» означает, по мнению Пастернака, быть народом без истории, вне путей мировой культуры. И тут же у него прорывается совершенно уже истеричный выкрик: «Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь…»], на путь возвращения к культурному наследию предков, и даже осознать свое вольное или невольное противостояние русской культуре.
Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе, и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского отродья.
Это «Четвертая проза», 30?ый год. Хотя страх перед «Русью» был всегда, изначально, с первых стихов («Что?то ползет, надвигается тучею,/Что?то наводит испуг…»). После Армении отторжение стало явным, на уровне не только культуры, но и «физиологии».
Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая всетаки украшает жизнь. <…> И я благодарил свое рождение за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу лучших своих лет. Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России…[45 - «Путешествие в Армению» (1931–32).]
Это сказано именно в контрасте с Арменией, которую он называл «страной субботней» и «младшей сестрой земли иудейской». Надежда Яковлевна пишет в мемуарах:
Для Мандельштама приезд в Армению был возвращением в родное лоно – туда, где все началось, к отцам, к истокам, к источнику.
* * *
Я как?то участвовал в телепередаче «Наши с Новоженовым», и Лев Юрьевич меня спросил: «Как Вы думаете, если бы Мандельштам дожил до наших дней, уехал бы он в Израиль?» Я тогда неловко отшутился, а через некоторое время раздался звонок из Хайфы: говорит Мандельштам, прочитал Вашу интересную книжку, приезжайте, поговорим. Я, конечно, помчался, открывается дверь и – передо мной, ну живой Иосиф Эмильевич! Мистика! Это был Александр Александрович Мандельштам, племянник поэта – поразило родовое сходство…
Так вот, если снова вернуться к вопросу Новоженова: да, конечно уехал бы, потому что поехал в Армению, разыгрывая Исход. И неслучайно в «Четвертой прозе» упомянуты «еврейский посох» и «мужество»:
Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего щелоком белья… И я бы вышел на вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой – моим еврейским посохом – в другой.