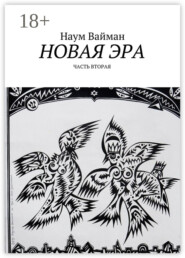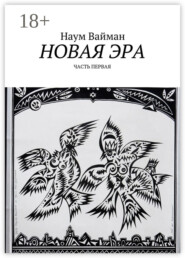По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Преображения Мандельштама
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…вся античная философия с начала до конца, включая всех идеалистов и мистиков, отличается приматом вещественных и телесных интуиций, т.е. вся античная философия в значительной мере пронизана более или менее материалистической тенденцией. <…> настоящие греческие боги сконструированы… в мифологической фантазии не иначе, как именно тела, как здоровые, прекрасные и вечные тела[63 - Все цитаты из титанического труда Лосева «История античной эстетики».].
И конечно, античное искусство связано с телесностью и пространством, а наивысшим и совершеннейшим произведением искусства является сам космос.
…учение Аристотеля о четырех причинах является не только онтологией, т.е. учением о бытии, но и… эстетикой[64 - Там же.].
И русскую культуру Мандельштам мыслил именно «эллинистической»:
Русский язык – язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий, живые силы эллинской культуры… устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью (выделено поэтом – Н.В.).
Поэт подчеркивает свой взгляд на русский язык, как на плоть, то есть тело. Он видит русскую культуру, как наследницу античной культуры телесности и пространства. «Нам четырех стихий приязненно господство», пишет поэт, но тут же, как иная стихия, в его голос врывается альтернатива, которую он невольно носит в себе как принцип иной культуры, не связанной с материей и пространством: «Но создал пятую свободный человек».
Пятую стихию, или пятый элемент тоже «придумал» Аристотель, и из этого пятого элемента возникает разум и мысль.
Поскольку мысли и ощущения не могут быть сведены ни к одному из четырех известных простых тел – Аристотель ввел пятую природу, которую он называет первой (по значению – Н.В.), и благодаря которой все живые существа оказываются наделены памятью, рассудком, способностью ощущения и предвидения (Цицерон, «Тускуланские беседы»).
Аристотель назвал эту «пятую природу» эфиром, а Цицерон предпочитал называть на стоический лад «небесным огнем» (coeli ardor). Он также сообщает, что «в третьей книге диалога «О философии» Аристотель называет небесный огонь Богом»[65 - Цицерон, «О природе богов».]. Некоторые исследователи считают, что и Аристотель почерпнул эту идею у стоиков, а это уже почти «иудейский след» (об иудейском происхождении основателя стоицизма Зенона Китийского и ряда стоических идей существует обширная литература). Сегодня эту «пятую природу», этот
«эфир» мы могли бы, вслед за В.И. Вернадским, назвать ноосферой (сознанием, памятью), то есть некой семиотической средой, которая все в большей степени определяет бытие человека. На создание Вернадским теории ноосферы повлияли идеи Бергсона[66 - Жизнь по Бергсону, если вкратце, есть «длительность» (во времени), запущенная «жизненным порывом».], чьим поклонником был и Мандельштам, назвавший Бергсона «глубоко иудаистическим умом»[67 - Статья «О природе слова» (1922).]. Эта среда (сознание) оперирует смыслами и их обозначениями, и основы иудейской цивилизации (знака и памяти[68 - Как считает Йерушалми («Захор»), память, религиозный запрет «забывать», это то, что сохранило еврейский народ в истории.]) не только прекрасно подходят для бытия в этой новой среде, но и в заметной степени послужили её созданию.
«Адмиралтейство» написано в период, когда Мандельштам причислял себя к литературному движению, получившему название «акмеизм». Но чем был для него акмеизм? Какой смысл поэт вкладывал в это слово? Свой выбор он пытается разъяснить в статье «Утро акмеизма», над которой работал как раз в период создания «Адмиралтейства» (1913 год). Главное внимание в статье уделяется пониманию значения поэтического слова. Символизм, для которого слово в поэзии есть символ, некое указание на «высший мир» («от реального к реальнейшему»), Мандельштам отвергает, для него слово в поэзии – сама реальность, но не простая, а «чудовищноуплотненная». И простой, «сознательный смысл» слова только часть, элемент этой чудовищно?уплотненной реальности. Он сравнивает слово с камнем, предназначенным для строительства, камень этот – «голос материи», в его «тяжести» спят «архитектурные силы», которые надо разбудить, и поэзия это, по сути, строительство все новых и новых смыслов, она сродни архитектуре и выстраивает текст из слов, как храм из камней, или башню («мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить»). Я вижу здесь отголосок бергсоновой идеи жизни, как становления, о временном, а не пространственном представлении о мире[69 - Это совпадает (почти «буквально») с воззрениями на слово и бытие еще одного «бергсониста», Хайдеггера. «Бытие, высветляясь, просит слова» («Письма о гуманизме»); «Только там, где есть речь, там есть мир» («Гёльдерлин и сущность поэзии»). А в мире, в коем поэзия ушла из народной жизни, поэты – последние хранители языка, а значит и жизни. У Мандельштама в совсем еще юношеском стихотворении (1910 г.) о том же, об «оживлении» мира словами, именами: Как облаком сердце одето/И камнем прикинулась плоть,/Пока назначенье поэта/Ему не откроет Господь:/Какая?то страсть налетела,/Какая?то тяжесть жива;/И призраки требуют тела,/И плоти причастны слова./Как женщины, жаждут предметы,/Как ласки, заветных имен./Но тайные ловит приметы/Поэт, в темноту погружен./Он ждет сокровенного знака,/На песнь, как на подвиг, готов:/И дышит таинственность брака/В простом сочетании слов.]. У Бергсона жизнь растет, как снежный ком, становясь со временем «чудовищноуплотненной реальностью», и ни одна снежинка в нем не теряется, а «идет в дело», меняя эту реальность, жизнь есть становление. Бергсон разделяет?сопоставляет античный порядок?красоту и иудейский «хаос», как «геометрическое и жизненное». В природе нет беспорядка, а есть различные уровни порядка[70 - «Творческая эволюция» (с. 236).]. Т.е. хаос иудейский не есть беспорядок по отношению к порядку?красоте античного мира, хаос тоже порядок, только на порядок сложнее…[71 - Как пишут Пригожин и Стенгерс в книге «Порядок из хаоса» (М.: Прогресс, 1986), «Под самоорганизацией в синергетике понимаются процессы возникновения макроскопически упорядоченных пространственновременных структур в сложных нелинейных системах, находящихся в далеких от равновесия состояниях, вблизи особых критических точек – точек бифуркации, в окрестности которых поведение системы становится неустойчивым. Последнее означает, что в этих точках система под воздействием самых незначительных воздействий, или флуктуаций, может резко изменить свое состояние. Этот переход часто характеризуют как возникновение порядка из хаоса».] Демон этого высшего порядка «сопровождал меня всю жизнь», пишет Мандельштам в «Путешествии в Армению». Рассматривая строение шишек, он чувствовал «в их геометрическом ротозействе… начатки архитектуры» высшего, органического строя. Здесь, как пишет Аверинцев, «архитектура versus хаос, готика versus русское»[72 - С.С. Аверинцев, «Страх, как инициация…», сборник материалов конференции по Мандельштаму «Смерть и бессмертие поэта», М, 2001.]. То есть, как видит Аверинцев, хаос для Мандельштама (черед 20 лет после «Адмиралтейства») – именно русский удел[73 - Здесь поэт следует за своим любимцем Чаадаевым, придававшим времени?истории первостепенное значение для становления и человека и нации («В чем заключается жизнь человека – пишет он в «Первом философическом письме» —, если память о протекших временах не связывает настоящего с прошлым? <…> Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. <…> У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. <…> Мы растем, но не созреваем»), и главный изъян России видел в ее «географии» («Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера»). Впрочем, Мандельштам уже в 1914 году, в статье «Петр Чаадаев» разделяет этот взгляд Чаадаева на Россию, как на хаос: «Россия, в глазах Чаадаева, принадлежала еще вся целиком к неорганизованному миру. <…> Начертав прекрасные слова: «истина дороже родины», Чаадаев не раскрыл их вещего смысла. Но разве не удивительное зрелище та «истина», которая со всех сторон, как неким хаосом, окружена чуждой и странной «родиной»?»]. Мандельштам говорит о «любви к организму» (имеющему внутреннюю организацию, архитектонику, «тайный план»), и акмеисты, мол, ее «разделяют с физиологически?гениальным средневековьем».
Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу символов», потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес – божественная сложность нашего темного организма[74 - Статья «Утро акмеизма».].
То есть и в «поэтическом деле» Мандельштам осознанно или, в тот период, интуитивно, выбирает цивилизацию времени, а не пространства, не Афины, а Иерусалим. Об этом говорит и слово «ковчег», указывая на исток этой альтернативы. Важно и слово «целомудренно». Здесь вряд ли имеется в виду его общепринятое значение «невинности» или «девственности», здесь смысл буквальный: этот ковчег построен мудростью Целого (Единого), и мудрость ковчега отрицает превосходство пространства[75 - Ковчег Завета представляется мне метафорой памяти, потому что его всегда можно взять с собой и унести в другое место.]. Гимн архитектуре становится песней о ковчеге, потому что любовь к архитектуре для Мандельштама – это любовь к «тайному плану» («Но выдает себя снаружи тайный план»[76 - стихотворение «Notre Dame» (1912).]), по которому идет становлениестроительство жизни. Максимилиан Волошин писал в «Ликах творчества»:
Архитектура – не человеческое искусство. Пусть художник чертит план. Пусть рабочие складывают камни. Мертвы стены, возведенные ими. Они посеяли только семя храма. Только когда время овеет их крыльями столетий, только тогда мертвые камни станут живыми. Надо, чтобы человеческая кровь окропила, молитвы обожгли, дыхание города проникло в эти стены. Архитектура создается не людьми, а временем. Разрушительным время может показаться лишь домовладельцам и реставраторам, для художника же время – великий созидатель.
Конечно, греческая «цивилизация пространства», или иудейская «цивилизация времени» – это метафоры. И не надо прямо считывать отсюда национальное происхождение, как и не надо считать национальное происхождение признаком той или иной цивилизации, и даже цивилизованности. Речь идет не о национальной борьбе, а о столкновении основополагающих принципов бытия, о борьбе культур, хотя культуры корнями уходят в этносы. Мудрости хватало и у греков. И философы «с обеих сторон» могли бы найти, да и находили общий язык. Не зря греческий философ Феофаст, ученик Аристотеля, называл евреев «племенем мудрецов», т.е. философов[77 - Как пишет Моше Гесс («Рим и Иерусалим»), «Еврею предписывается не верить, но попытаться познать Бога».]. Но уже здесь видна существенная разница: Феофаст говорит не об отдельных мудрецах, а обо всем племени, и дело не в количестве умников и не в силе их ума, а в основах цивилизации. Греков никто не называл «народом философов», он им и не был. Различие цивилизаций – в «различном понимании универсума», как пишет С.С. Аверинцев.
Греческий мир – это «космос», по изначальному смыслу слова такой «наряд», который есть «ряд» и «порядок»; иначе говоря, законосообразная и симметричная пространственная структура. Древнееврейский мир – это «олам», <…> поток времени, несущий в себе все вещи: мир как история. Внутри «космоса» даже время дано в модусе пространственности… Внутри «олама» даже пространство дано в модусе временного движения – как «вместилище» необратимых событий. <…> Структуру можно созерцать, в истории приходится участвовать. Поэтому мир как «космос» оказывается адекватно схваченным через незаинтересованное статичное описание, а мир как «олам», напротив – через направленное во время повествование, соотнесенное с концом, с исходом, с результатом, подгоняемое вопросом: «а что дальше?»[78 - С. Аверинцев, «Греческая «литература» и ближневосточная «словесность».].
Греческий мир статичен, иудейский – текуч, он весь – история. Конечно, определенные греческие философы тоже считали, что «все течет, все изменяется», как учил Гераклит Темный (не случайно, наверное, он и пришел к единобожию). Его учение – плод греческой цивилизации, но оно этой цивилизацией не стало, не стало верой и образом жизни, потому что для этого нужна не удачная мысль человека, а вера народа. И сама по себе «готовность мыслить» не создает цивилизацию времени. Так Европа в Новое время с ее культом Разума пошла по пути рационализма, позитивизма и технического прогресса, указанном античной философией с ее материалистическим мироощущением и верой в незыблемые начала. Хотя этому мощному интеллектуальному движению тут же возникло противодействие (романтизм, иррационализм, философия жизни) и стремление обосновать иной подход к мирозданию[79 - Так, например, Гердер назвал философию позднего Канта, одного из отцов европейского рационализма, «глухой пустыней, наполненной пустыми порождениями ума и словесным туманом с большим притязанием».]. В идейной борьбе вокруг этих вопросов на русской почве Мандельштам, с его «глубоко иудаистическим умом, одержимым настойчивой потребностью практического монотеизма»[80 - Статья «О природе слова» (1920–22).], оказался на стороне философии жизни, решительно отвергая детерминизм причинно?следственных связей и «теорию прогресса», которую вульгарные позитивисты переносили с технического прогресса на все остальные проявления жизни, включая культуру:
Наука, построенная на принципе связи, а не причинности, избавляет нас от дурной бесконечности эволюционной теории, не говоря уже о ее вульгарном прихвостне – теории прогресса. Движение бесконечной цепи явлений, без начала и конца, есть именно дурная бесконечность, ничего не говорящая уму, ищущему единства и связи, усыпляющая научную мысль легким и доступным эволюционизмом, дающим, правда, видимость научного обобщения, но ценою отказа от всякого синтеза и внутреннего строя. <…> Никакого «лучше», никакого прогресса в литературе быть не может – просто потому, что нет никакой литературной машины и нет старта, куда нужно скорее других доскакать[81 - Там же.].
Конечно, в «Адмиралтействе» поэт еще не осознал свои сомнения и колебания в выборе культурных основ как результат «иудейских веяний». Более того, в этот период он вовсе не был поклонником иудейства, и это еще мягко сказано, а был, как воспитанник русской культуры, как раз поклонником эллинизма. Но тем удивительнее его сомнения в «превосходстве» пространственного мировоззрения. И в последней строфе «Адмиралтейства» поэт вообще порывает с трехмерным пространством:
Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря —
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря.
«Всемирные моря» это уже не моря мореплавателей, это открывшаяся бесконечность во времени, «чудовищноуплотненная» в сознании человека. А предназначенные для водных пространств якоря ржавеют, как брошенные плуги, и не зря капризные античные Медузы сердятся – цивилизация пространства всегда уходит в руины.
Мотив разрыва с «пространством» в «Адмиралтействе» вернется через двадцать лет в «Восьмистишиях» как осознанный, решительный и окончательный разрыв с пространственной цивилизацией:
И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосознанье причин.
В «Адмиралтействе» была еще одна строфа, отброшенная автором после того, как, согласно сообщению Георгия Иванова, она была на собрании Цеха Поэтов «по общему цеховому согласию уничтожена». То есть убийственно раскритикована. Но она важна для нашего разговора о «столкновении цивилизаций». Там была строка «Так музой зодчества был вскормлен мудрый лебедь», которая повторяет?усиливает мотив трансформации одного основополагающего принципа в другой, пространственной архитектуры в «архитектуру» тайного замысла, что лишь мудрость в силах изведать. (Нет ли здесь «намека» на то, что сам поэт и есть тот «мудрый лебедь», вскормленный «музой зодчества» русской культуры?) Конечный вариант отброшенной строфы звучит так:
Живая линия меняется, как лебедь.
Я с Музой зодчего беседую опять.
Взор открывается, стихает жизни трепет.
Мне все равно, когда и где существовать!
Если твоя родина – культура, дочь времени, то ты существуешь всегда и везде. Тут появляется одна из центральных идей позднего Мандельштама (идущая от Бергсона), которую я называю «соборностью времен», когда «все хотят увидеть всех, рожденных, гибельных и смерти не имущих»[82 - Вполне себе талмудическая идея. Йерушалми пишет в книге «Захор»: «…есть что?то неотразимо влекущее в этой огромной раввинистической вселенной, которая не признает никаких временных барьеров и сводит воедино все эпохи в вечно текущей перекличке друг с другом» (стр. 19).]. А «живая линия», что меняется, как лебедь, уже не геометрическая прямая, а изогнутая линия модерна, арт?нуво, «философии жизни». По?мальчишески вызывающая интонация последней строки напоминает по интенции восклицание в стихотворении «О свободе небывалой» (1913):
Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!
Но здесь вызов уже отдает горечью, даже отчаянием человека, не нашедшего выход, «брошенного в пространстве», то есть богооставленного и «обреченного умереть», но еще бравирующего «небывалой свободой» (к черту верность, нас ждут всемирные моря!).
А с «Музой зодчего», превратившейся в «Чертежника пустыни», поэт продолжает беседовать в «Восьмистишиях», когда разговор уже полностью осознается, как непримиримый спор античной, «геометрической» цивилизации с иудейской культурой памяти и «лепета» (слов), возникающего из жизненного опыта?трепета.
Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?
– Меня не касается трепет
Его иудейских забот —
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.
Так через 20 лет «жизни трепет» прямо назван трепетом иудейских забот. И если в «Адмиралтействе» он «стихает», Бог с циркулем, Бог?геометр «открывает поэту глаза» на бесконечность пространств и лирический герой пленяется этим открытием, как греческие моряки – пением сирен, то в «Восьмистишиях» – разрыв: Бог?чертежник отворачивается от иудея и его иудейских забот, мол, тут ничего не поделаешь, коса на камень, иные начала – не бесконечность пространств, а вечная круговерть опыта и лепета…
И не случайно, наверное, «жизни трепет» появляется вместе с «заботой», естественно «иудейской», ибо забота там, где время (как у Хайдеггера: «Время вызывает заботу»[83 - «Время и бытие». Кстати, возникает интересный вопрос: почему в модерной европейской философии жизни, она же философия времени, так много немецких имен, Ницше, Шопенгауэр, романтики, наконец, Хайдеггер – все, как на подбор, – поклонники античности? И Гегель, кстати, считал, что «становление есть истина бытия», а в Европе возникло настоящее обожествление исторического процесса. Нет ли здесь тайны взаимопроникновения культур? Так Матвей Каган в книге о «О ходе истории» (М, Языки славянской культуры, 2004, стр. 174) пишет: «Сегодня уже нельзя не считаться с тем, что… на протяжении двух тысячелетий происходила иудаизация европейской культуры». Мирча Элиаде в книге «Миф о вечном возвращении» пишет: «мы наблюдаем явный параллелизм между гегелевской философией и теологией истории у еврейских пророков».]). А Бог геометрической красоты становится Демиургом пустынных пространств, и Иудей к нему обращается не с вопрошанием, а с подначкой: кто тут старший, Бог безжизненных пустынь, как гераклитово дитя рисующий на песке «безудержные линии», или Бог жизненного порыва, что, как писал Бергсон, «бьет беспрерывной струей», он же Дух, веющий, как ветер[84 - И «где хочет», по выражению Гете.]? И не забудем, что на древнееврейском дух и ветер – одно и то же слово, руах.
Вопрос риторический, и ответ таится в самом вопрошании: Бог пространств – чертежник пустыни, геометр арабских песков – художник смерти. Вслед за Пушкиным, у коего «аравийский ураган» подобен «дуновению чумы», «арабская», «аравийская» пустыня связана у Мандельштама со смертью («аравийское месиво, крошево»[85 - «Стихи о неизвестном солдате» (1937).]). Не удивительно, что Демиург просто отворачивается от наглеца, Он «в другом измерении».
Арабы говорят: все боятся времени, а время боится пирамид. Сами арабы и поныне живут как бы у подножья пирамид, этих недвижных чудес архитектуры, не думая о времени, они тоже мыслят пространственными представлениями, и можно сказать, что и греческая и арабская – цивилизации пространства, по Мандельштаму – пустыни и смерти. В «Восьмистишиях», назвав бабочку «мусульманкой», он сравнивает ее крылья с саваном («О флагом развернутый саван, сложи свои крылья – боюсь!»). А в жутком стихотворении «Фаэтонщик» о вырезанном мусульманами армянском городке Шуша, написанном в ритме и духе пушкинских «Бесов» («Страшно, страшно поневоле/Средь неведомых равнин»), смертью окрашена вся «мусульманская сторона» («На высоком перевале/В мусульманской стороне/Мы со смертью пировали – /Было страшно, как во сне»). Он считал[86 - См. свидетельство Надежды Яковлевны Мандельштам в книге «Воспоминания», первом томе ее мемуаров.], что ислам характеризует «детерминизм, растворение личности в священном воинстве, орнаментальные надписи на подавляющей человека архитектуре…», все то, что было для него неприемлемо.
Как пишет Анри Корбен в своей «Истории исламской философии»:
Философское мышление в исламе не сталкивалось с проблемами, проистекшими из того, что мы называем «историческим сознанием»… Формы мыслятся здесь скорее в пространстве, чем во времени. <…> Время становится пространством.
И арабы были великими мореплавателями. Этимология слова «Адмиралтейство» указывает на глубинную связь с пространством: адмирал – от искаженного арабского выражения «амир аль бахр» (повелитель моря), в современном значении «командующий флотом», слово пришло в Европу в 12 веке, полагают, что от венецианцев и генуэзцев, торговавших с Востоком, на французском звучит «амираль». А корень слова семитский – эмир, или амир, повелитель. Но на иврите тот же корень, амар, означает «сказал», а с другой огласовкой – «слово», в некоторых случаях – «повелел» и «решил». В другой конструкции корня (ээмир) означает «поднялся», «возвысился». В исламе слово обрело значение высшего титула, в том числе и духовного (повелитель правоверных).
Интересно, что другие семиты, финикийцы, были покорителями морей, но не оставили миростроительных идей, а их соседи, говорившие почти на том же языке, евреи, не были мореплавателями, но зато оставили миру великую литературу…
И в европейской поэзии море зачастую – пустыня и смерть. Шарль Бодлер, кумир Мандельштама и всего русского Серебряного века, поет в своем знаменитом стихотворении «Плаванье»[87 - Цитирую по классическому переводу Марины Цветаевой.] песню скитальцев по водяным пустыням: «Мы всходим на корабль, и происходит встреча безмерности мечты с предельностью морей». Их «мир велик», но «в памяти очах – как бесконечно мал!» В этих скитаниях нет цели: «Но истые пловцы – те, что плывут без цели:/Плывущие, чтоб плыть! Глотатели широт…». «Бесплодна и горька наука дальних странствий», и мореплаватели «шарам катящимся подобны», а в путь их ведет смерть: «Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!»
У Мандельштама в стихотворении 1917 года «Золотистого меда струя из бутылки текла…», обращенном к России, как тонущей Элладе, и конкретно – к «печальной Тавриде, куда нас судьба занесла», есть хрестоматийные строки: «Одиссей возвратился, пространством и временем полный». Думаю, что Мандельштам имеет в виду себя, это он возвращается из поэтических странствий переполненный пространством и временем. Сам же Одиссей, во всяком случае, у Гомера, остался сыном пространств.
И конечно, античное искусство связано с телесностью и пространством, а наивысшим и совершеннейшим произведением искусства является сам космос.
…учение Аристотеля о четырех причинах является не только онтологией, т.е. учением о бытии, но и… эстетикой[64 - Там же.].
И русскую культуру Мандельштам мыслил именно «эллинистической»:
Русский язык – язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий, живые силы эллинской культуры… устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью (выделено поэтом – Н.В.).
Поэт подчеркивает свой взгляд на русский язык, как на плоть, то есть тело. Он видит русскую культуру, как наследницу античной культуры телесности и пространства. «Нам четырех стихий приязненно господство», пишет поэт, но тут же, как иная стихия, в его голос врывается альтернатива, которую он невольно носит в себе как принцип иной культуры, не связанной с материей и пространством: «Но создал пятую свободный человек».
Пятую стихию, или пятый элемент тоже «придумал» Аристотель, и из этого пятого элемента возникает разум и мысль.
Поскольку мысли и ощущения не могут быть сведены ни к одному из четырех известных простых тел – Аристотель ввел пятую природу, которую он называет первой (по значению – Н.В.), и благодаря которой все живые существа оказываются наделены памятью, рассудком, способностью ощущения и предвидения (Цицерон, «Тускуланские беседы»).
Аристотель назвал эту «пятую природу» эфиром, а Цицерон предпочитал называть на стоический лад «небесным огнем» (coeli ardor). Он также сообщает, что «в третьей книге диалога «О философии» Аристотель называет небесный огонь Богом»[65 - Цицерон, «О природе богов».]. Некоторые исследователи считают, что и Аристотель почерпнул эту идею у стоиков, а это уже почти «иудейский след» (об иудейском происхождении основателя стоицизма Зенона Китийского и ряда стоических идей существует обширная литература). Сегодня эту «пятую природу», этот
«эфир» мы могли бы, вслед за В.И. Вернадским, назвать ноосферой (сознанием, памятью), то есть некой семиотической средой, которая все в большей степени определяет бытие человека. На создание Вернадским теории ноосферы повлияли идеи Бергсона[66 - Жизнь по Бергсону, если вкратце, есть «длительность» (во времени), запущенная «жизненным порывом».], чьим поклонником был и Мандельштам, назвавший Бергсона «глубоко иудаистическим умом»[67 - Статья «О природе слова» (1922).]. Эта среда (сознание) оперирует смыслами и их обозначениями, и основы иудейской цивилизации (знака и памяти[68 - Как считает Йерушалми («Захор»), память, религиозный запрет «забывать», это то, что сохранило еврейский народ в истории.]) не только прекрасно подходят для бытия в этой новой среде, но и в заметной степени послужили её созданию.
«Адмиралтейство» написано в период, когда Мандельштам причислял себя к литературному движению, получившему название «акмеизм». Но чем был для него акмеизм? Какой смысл поэт вкладывал в это слово? Свой выбор он пытается разъяснить в статье «Утро акмеизма», над которой работал как раз в период создания «Адмиралтейства» (1913 год). Главное внимание в статье уделяется пониманию значения поэтического слова. Символизм, для которого слово в поэзии есть символ, некое указание на «высший мир» («от реального к реальнейшему»), Мандельштам отвергает, для него слово в поэзии – сама реальность, но не простая, а «чудовищноуплотненная». И простой, «сознательный смысл» слова только часть, элемент этой чудовищно?уплотненной реальности. Он сравнивает слово с камнем, предназначенным для строительства, камень этот – «голос материи», в его «тяжести» спят «архитектурные силы», которые надо разбудить, и поэзия это, по сути, строительство все новых и новых смыслов, она сродни архитектуре и выстраивает текст из слов, как храм из камней, или башню («мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить»). Я вижу здесь отголосок бергсоновой идеи жизни, как становления, о временном, а не пространственном представлении о мире[69 - Это совпадает (почти «буквально») с воззрениями на слово и бытие еще одного «бергсониста», Хайдеггера. «Бытие, высветляясь, просит слова» («Письма о гуманизме»); «Только там, где есть речь, там есть мир» («Гёльдерлин и сущность поэзии»). А в мире, в коем поэзия ушла из народной жизни, поэты – последние хранители языка, а значит и жизни. У Мандельштама в совсем еще юношеском стихотворении (1910 г.) о том же, об «оживлении» мира словами, именами: Как облаком сердце одето/И камнем прикинулась плоть,/Пока назначенье поэта/Ему не откроет Господь:/Какая?то страсть налетела,/Какая?то тяжесть жива;/И призраки требуют тела,/И плоти причастны слова./Как женщины, жаждут предметы,/Как ласки, заветных имен./Но тайные ловит приметы/Поэт, в темноту погружен./Он ждет сокровенного знака,/На песнь, как на подвиг, готов:/И дышит таинственность брака/В простом сочетании слов.]. У Бергсона жизнь растет, как снежный ком, становясь со временем «чудовищноуплотненной реальностью», и ни одна снежинка в нем не теряется, а «идет в дело», меняя эту реальность, жизнь есть становление. Бергсон разделяет?сопоставляет античный порядок?красоту и иудейский «хаос», как «геометрическое и жизненное». В природе нет беспорядка, а есть различные уровни порядка[70 - «Творческая эволюция» (с. 236).]. Т.е. хаос иудейский не есть беспорядок по отношению к порядку?красоте античного мира, хаос тоже порядок, только на порядок сложнее…[71 - Как пишут Пригожин и Стенгерс в книге «Порядок из хаоса» (М.: Прогресс, 1986), «Под самоорганизацией в синергетике понимаются процессы возникновения макроскопически упорядоченных пространственновременных структур в сложных нелинейных системах, находящихся в далеких от равновесия состояниях, вблизи особых критических точек – точек бифуркации, в окрестности которых поведение системы становится неустойчивым. Последнее означает, что в этих точках система под воздействием самых незначительных воздействий, или флуктуаций, может резко изменить свое состояние. Этот переход часто характеризуют как возникновение порядка из хаоса».] Демон этого высшего порядка «сопровождал меня всю жизнь», пишет Мандельштам в «Путешествии в Армению». Рассматривая строение шишек, он чувствовал «в их геометрическом ротозействе… начатки архитектуры» высшего, органического строя. Здесь, как пишет Аверинцев, «архитектура versus хаос, готика versus русское»[72 - С.С. Аверинцев, «Страх, как инициация…», сборник материалов конференции по Мандельштаму «Смерть и бессмертие поэта», М, 2001.]. То есть, как видит Аверинцев, хаос для Мандельштама (черед 20 лет после «Адмиралтейства») – именно русский удел[73 - Здесь поэт следует за своим любимцем Чаадаевым, придававшим времени?истории первостепенное значение для становления и человека и нации («В чем заключается жизнь человека – пишет он в «Первом философическом письме» —, если память о протекших временах не связывает настоящего с прошлым? <…> Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. <…> У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. <…> Мы растем, но не созреваем»), и главный изъян России видел в ее «географии» («Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера»). Впрочем, Мандельштам уже в 1914 году, в статье «Петр Чаадаев» разделяет этот взгляд Чаадаева на Россию, как на хаос: «Россия, в глазах Чаадаева, принадлежала еще вся целиком к неорганизованному миру. <…> Начертав прекрасные слова: «истина дороже родины», Чаадаев не раскрыл их вещего смысла. Но разве не удивительное зрелище та «истина», которая со всех сторон, как неким хаосом, окружена чуждой и странной «родиной»?»]. Мандельштам говорит о «любви к организму» (имеющему внутреннюю организацию, архитектонику, «тайный план»), и акмеисты, мол, ее «разделяют с физиологически?гениальным средневековьем».
Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу символов», потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес – божественная сложность нашего темного организма[74 - Статья «Утро акмеизма».].
То есть и в «поэтическом деле» Мандельштам осознанно или, в тот период, интуитивно, выбирает цивилизацию времени, а не пространства, не Афины, а Иерусалим. Об этом говорит и слово «ковчег», указывая на исток этой альтернативы. Важно и слово «целомудренно». Здесь вряд ли имеется в виду его общепринятое значение «невинности» или «девственности», здесь смысл буквальный: этот ковчег построен мудростью Целого (Единого), и мудрость ковчега отрицает превосходство пространства[75 - Ковчег Завета представляется мне метафорой памяти, потому что его всегда можно взять с собой и унести в другое место.]. Гимн архитектуре становится песней о ковчеге, потому что любовь к архитектуре для Мандельштама – это любовь к «тайному плану» («Но выдает себя снаружи тайный план»[76 - стихотворение «Notre Dame» (1912).]), по которому идет становлениестроительство жизни. Максимилиан Волошин писал в «Ликах творчества»:
Архитектура – не человеческое искусство. Пусть художник чертит план. Пусть рабочие складывают камни. Мертвы стены, возведенные ими. Они посеяли только семя храма. Только когда время овеет их крыльями столетий, только тогда мертвые камни станут живыми. Надо, чтобы человеческая кровь окропила, молитвы обожгли, дыхание города проникло в эти стены. Архитектура создается не людьми, а временем. Разрушительным время может показаться лишь домовладельцам и реставраторам, для художника же время – великий созидатель.
Конечно, греческая «цивилизация пространства», или иудейская «цивилизация времени» – это метафоры. И не надо прямо считывать отсюда национальное происхождение, как и не надо считать национальное происхождение признаком той или иной цивилизации, и даже цивилизованности. Речь идет не о национальной борьбе, а о столкновении основополагающих принципов бытия, о борьбе культур, хотя культуры корнями уходят в этносы. Мудрости хватало и у греков. И философы «с обеих сторон» могли бы найти, да и находили общий язык. Не зря греческий философ Феофаст, ученик Аристотеля, называл евреев «племенем мудрецов», т.е. философов[77 - Как пишет Моше Гесс («Рим и Иерусалим»), «Еврею предписывается не верить, но попытаться познать Бога».]. Но уже здесь видна существенная разница: Феофаст говорит не об отдельных мудрецах, а обо всем племени, и дело не в количестве умников и не в силе их ума, а в основах цивилизации. Греков никто не называл «народом философов», он им и не был. Различие цивилизаций – в «различном понимании универсума», как пишет С.С. Аверинцев.
Греческий мир – это «космос», по изначальному смыслу слова такой «наряд», который есть «ряд» и «порядок»; иначе говоря, законосообразная и симметричная пространственная структура. Древнееврейский мир – это «олам», <…> поток времени, несущий в себе все вещи: мир как история. Внутри «космоса» даже время дано в модусе пространственности… Внутри «олама» даже пространство дано в модусе временного движения – как «вместилище» необратимых событий. <…> Структуру можно созерцать, в истории приходится участвовать. Поэтому мир как «космос» оказывается адекватно схваченным через незаинтересованное статичное описание, а мир как «олам», напротив – через направленное во время повествование, соотнесенное с концом, с исходом, с результатом, подгоняемое вопросом: «а что дальше?»[78 - С. Аверинцев, «Греческая «литература» и ближневосточная «словесность».].
Греческий мир статичен, иудейский – текуч, он весь – история. Конечно, определенные греческие философы тоже считали, что «все течет, все изменяется», как учил Гераклит Темный (не случайно, наверное, он и пришел к единобожию). Его учение – плод греческой цивилизации, но оно этой цивилизацией не стало, не стало верой и образом жизни, потому что для этого нужна не удачная мысль человека, а вера народа. И сама по себе «готовность мыслить» не создает цивилизацию времени. Так Европа в Новое время с ее культом Разума пошла по пути рационализма, позитивизма и технического прогресса, указанном античной философией с ее материалистическим мироощущением и верой в незыблемые начала. Хотя этому мощному интеллектуальному движению тут же возникло противодействие (романтизм, иррационализм, философия жизни) и стремление обосновать иной подход к мирозданию[79 - Так, например, Гердер назвал философию позднего Канта, одного из отцов европейского рационализма, «глухой пустыней, наполненной пустыми порождениями ума и словесным туманом с большим притязанием».]. В идейной борьбе вокруг этих вопросов на русской почве Мандельштам, с его «глубоко иудаистическим умом, одержимым настойчивой потребностью практического монотеизма»[80 - Статья «О природе слова» (1920–22).], оказался на стороне философии жизни, решительно отвергая детерминизм причинно?следственных связей и «теорию прогресса», которую вульгарные позитивисты переносили с технического прогресса на все остальные проявления жизни, включая культуру:
Наука, построенная на принципе связи, а не причинности, избавляет нас от дурной бесконечности эволюционной теории, не говоря уже о ее вульгарном прихвостне – теории прогресса. Движение бесконечной цепи явлений, без начала и конца, есть именно дурная бесконечность, ничего не говорящая уму, ищущему единства и связи, усыпляющая научную мысль легким и доступным эволюционизмом, дающим, правда, видимость научного обобщения, но ценою отказа от всякого синтеза и внутреннего строя. <…> Никакого «лучше», никакого прогресса в литературе быть не может – просто потому, что нет никакой литературной машины и нет старта, куда нужно скорее других доскакать[81 - Там же.].
Конечно, в «Адмиралтействе» поэт еще не осознал свои сомнения и колебания в выборе культурных основ как результат «иудейских веяний». Более того, в этот период он вовсе не был поклонником иудейства, и это еще мягко сказано, а был, как воспитанник русской культуры, как раз поклонником эллинизма. Но тем удивительнее его сомнения в «превосходстве» пространственного мировоззрения. И в последней строфе «Адмиралтейства» поэт вообще порывает с трехмерным пространством:
Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря —
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря.
«Всемирные моря» это уже не моря мореплавателей, это открывшаяся бесконечность во времени, «чудовищноуплотненная» в сознании человека. А предназначенные для водных пространств якоря ржавеют, как брошенные плуги, и не зря капризные античные Медузы сердятся – цивилизация пространства всегда уходит в руины.
Мотив разрыва с «пространством» в «Адмиралтействе» вернется через двадцать лет в «Восьмистишиях» как осознанный, решительный и окончательный разрыв с пространственной цивилизацией:
И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосознанье причин.
В «Адмиралтействе» была еще одна строфа, отброшенная автором после того, как, согласно сообщению Георгия Иванова, она была на собрании Цеха Поэтов «по общему цеховому согласию уничтожена». То есть убийственно раскритикована. Но она важна для нашего разговора о «столкновении цивилизаций». Там была строка «Так музой зодчества был вскормлен мудрый лебедь», которая повторяет?усиливает мотив трансформации одного основополагающего принципа в другой, пространственной архитектуры в «архитектуру» тайного замысла, что лишь мудрость в силах изведать. (Нет ли здесь «намека» на то, что сам поэт и есть тот «мудрый лебедь», вскормленный «музой зодчества» русской культуры?) Конечный вариант отброшенной строфы звучит так:
Живая линия меняется, как лебедь.
Я с Музой зодчего беседую опять.
Взор открывается, стихает жизни трепет.
Мне все равно, когда и где существовать!
Если твоя родина – культура, дочь времени, то ты существуешь всегда и везде. Тут появляется одна из центральных идей позднего Мандельштама (идущая от Бергсона), которую я называю «соборностью времен», когда «все хотят увидеть всех, рожденных, гибельных и смерти не имущих»[82 - Вполне себе талмудическая идея. Йерушалми пишет в книге «Захор»: «…есть что?то неотразимо влекущее в этой огромной раввинистической вселенной, которая не признает никаких временных барьеров и сводит воедино все эпохи в вечно текущей перекличке друг с другом» (стр. 19).]. А «живая линия», что меняется, как лебедь, уже не геометрическая прямая, а изогнутая линия модерна, арт?нуво, «философии жизни». По?мальчишески вызывающая интонация последней строки напоминает по интенции восклицание в стихотворении «О свободе небывалой» (1913):
Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!
Но здесь вызов уже отдает горечью, даже отчаянием человека, не нашедшего выход, «брошенного в пространстве», то есть богооставленного и «обреченного умереть», но еще бравирующего «небывалой свободой» (к черту верность, нас ждут всемирные моря!).
А с «Музой зодчего», превратившейся в «Чертежника пустыни», поэт продолжает беседовать в «Восьмистишиях», когда разговор уже полностью осознается, как непримиримый спор античной, «геометрической» цивилизации с иудейской культурой памяти и «лепета» (слов), возникающего из жизненного опыта?трепета.
Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?
– Меня не касается трепет
Его иудейских забот —
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.
Так через 20 лет «жизни трепет» прямо назван трепетом иудейских забот. И если в «Адмиралтействе» он «стихает», Бог с циркулем, Бог?геометр «открывает поэту глаза» на бесконечность пространств и лирический герой пленяется этим открытием, как греческие моряки – пением сирен, то в «Восьмистишиях» – разрыв: Бог?чертежник отворачивается от иудея и его иудейских забот, мол, тут ничего не поделаешь, коса на камень, иные начала – не бесконечность пространств, а вечная круговерть опыта и лепета…
И не случайно, наверное, «жизни трепет» появляется вместе с «заботой», естественно «иудейской», ибо забота там, где время (как у Хайдеггера: «Время вызывает заботу»[83 - «Время и бытие». Кстати, возникает интересный вопрос: почему в модерной европейской философии жизни, она же философия времени, так много немецких имен, Ницше, Шопенгауэр, романтики, наконец, Хайдеггер – все, как на подбор, – поклонники античности? И Гегель, кстати, считал, что «становление есть истина бытия», а в Европе возникло настоящее обожествление исторического процесса. Нет ли здесь тайны взаимопроникновения культур? Так Матвей Каган в книге о «О ходе истории» (М, Языки славянской культуры, 2004, стр. 174) пишет: «Сегодня уже нельзя не считаться с тем, что… на протяжении двух тысячелетий происходила иудаизация европейской культуры». Мирча Элиаде в книге «Миф о вечном возвращении» пишет: «мы наблюдаем явный параллелизм между гегелевской философией и теологией истории у еврейских пророков».]). А Бог геометрической красоты становится Демиургом пустынных пространств, и Иудей к нему обращается не с вопрошанием, а с подначкой: кто тут старший, Бог безжизненных пустынь, как гераклитово дитя рисующий на песке «безудержные линии», или Бог жизненного порыва, что, как писал Бергсон, «бьет беспрерывной струей», он же Дух, веющий, как ветер[84 - И «где хочет», по выражению Гете.]? И не забудем, что на древнееврейском дух и ветер – одно и то же слово, руах.
Вопрос риторический, и ответ таится в самом вопрошании: Бог пространств – чертежник пустыни, геометр арабских песков – художник смерти. Вслед за Пушкиным, у коего «аравийский ураган» подобен «дуновению чумы», «арабская», «аравийская» пустыня связана у Мандельштама со смертью («аравийское месиво, крошево»[85 - «Стихи о неизвестном солдате» (1937).]). Не удивительно, что Демиург просто отворачивается от наглеца, Он «в другом измерении».
Арабы говорят: все боятся времени, а время боится пирамид. Сами арабы и поныне живут как бы у подножья пирамид, этих недвижных чудес архитектуры, не думая о времени, они тоже мыслят пространственными представлениями, и можно сказать, что и греческая и арабская – цивилизации пространства, по Мандельштаму – пустыни и смерти. В «Восьмистишиях», назвав бабочку «мусульманкой», он сравнивает ее крылья с саваном («О флагом развернутый саван, сложи свои крылья – боюсь!»). А в жутком стихотворении «Фаэтонщик» о вырезанном мусульманами армянском городке Шуша, написанном в ритме и духе пушкинских «Бесов» («Страшно, страшно поневоле/Средь неведомых равнин»), смертью окрашена вся «мусульманская сторона» («На высоком перевале/В мусульманской стороне/Мы со смертью пировали – /Было страшно, как во сне»). Он считал[86 - См. свидетельство Надежды Яковлевны Мандельштам в книге «Воспоминания», первом томе ее мемуаров.], что ислам характеризует «детерминизм, растворение личности в священном воинстве, орнаментальные надписи на подавляющей человека архитектуре…», все то, что было для него неприемлемо.
Как пишет Анри Корбен в своей «Истории исламской философии»:
Философское мышление в исламе не сталкивалось с проблемами, проистекшими из того, что мы называем «историческим сознанием»… Формы мыслятся здесь скорее в пространстве, чем во времени. <…> Время становится пространством.
И арабы были великими мореплавателями. Этимология слова «Адмиралтейство» указывает на глубинную связь с пространством: адмирал – от искаженного арабского выражения «амир аль бахр» (повелитель моря), в современном значении «командующий флотом», слово пришло в Европу в 12 веке, полагают, что от венецианцев и генуэзцев, торговавших с Востоком, на французском звучит «амираль». А корень слова семитский – эмир, или амир, повелитель. Но на иврите тот же корень, амар, означает «сказал», а с другой огласовкой – «слово», в некоторых случаях – «повелел» и «решил». В другой конструкции корня (ээмир) означает «поднялся», «возвысился». В исламе слово обрело значение высшего титула, в том числе и духовного (повелитель правоверных).
Интересно, что другие семиты, финикийцы, были покорителями морей, но не оставили миростроительных идей, а их соседи, говорившие почти на том же языке, евреи, не были мореплавателями, но зато оставили миру великую литературу…
И в европейской поэзии море зачастую – пустыня и смерть. Шарль Бодлер, кумир Мандельштама и всего русского Серебряного века, поет в своем знаменитом стихотворении «Плаванье»[87 - Цитирую по классическому переводу Марины Цветаевой.] песню скитальцев по водяным пустыням: «Мы всходим на корабль, и происходит встреча безмерности мечты с предельностью морей». Их «мир велик», но «в памяти очах – как бесконечно мал!» В этих скитаниях нет цели: «Но истые пловцы – те, что плывут без цели:/Плывущие, чтоб плыть! Глотатели широт…». «Бесплодна и горька наука дальних странствий», и мореплаватели «шарам катящимся подобны», а в путь их ведет смерть: «Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!»
У Мандельштама в стихотворении 1917 года «Золотистого меда струя из бутылки текла…», обращенном к России, как тонущей Элладе, и конкретно – к «печальной Тавриде, куда нас судьба занесла», есть хрестоматийные строки: «Одиссей возвратился, пространством и временем полный». Думаю, что Мандельштам имеет в виду себя, это он возвращается из поэтических странствий переполненный пространством и временем. Сам же Одиссей, во всяком случае, у Гомера, остался сыном пространств.