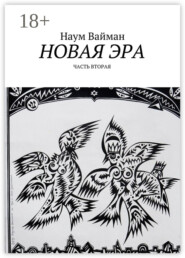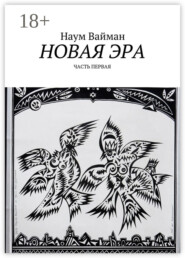По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Преображения Мандельштама
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эта мнимость, даже пародийность, особенно очевидны в российской поэзии 18 и начала 19 века с ее повальными увлечениями античными атрибутами и аксессуарами: аквилоны и зефиры, зевесы и артемиды, сатиры и кентавры, персеи и гераклы, и всякие «анакреонтические песни» заполонили новую, уже европейского покроя русскую поэзию[93 - Глеб Смирнов в книге «Метафизика Венеции» справедливо утверждает, что вообще «европейский патрициат оставался языческим», и само слово «дворяне», «английское gentlelman или французское gentilhomme, идет от латинского gentiles – язычники». Думаю, что это утверждение можно распространить и на образованный класс Средневековья вообще, включая духовенство. «Монастыри превращаются в оплоты отверженной культуры; монахи переписывают от руки Сенеку, Цицерона и Апулея. Ученые аббаты втайне зачитываются Катуллом, пишут комментарии к «Метаморфозам», совершают возлияния Вакху и укрывают в тайниках библиотек даже Фронтона и Авла Геллия, вождей языческого культурного мира» («Метафизика Венеции», стр. 341).], подобно тому, как Петербург украшался античными колоннадами, а русские помещики возводили свои усадьбы а?ля Палладио. Мандельштам, хоть и сам отдал дань «федрам» и «аонидам», называл эту языческую клоунаду «опустошенным сознаниием»: «Восемнадцатый век утратил прямую связь с нравственным сознанием античного мира»[94 - О. Мандельштам, «Записки о Шенье».]. Полагаю, что подсознательно его «глубоко иудаистический ум» вообще не принимал язычества, хотя и заигрывал с «эллинизмом». Оптимистическая культура Пути и Памяти не воспоет обреченность. А пессимизм Державина пострашнее античного: у греков был Элизий, был культ героев, а значит и некая надежда на память, было «вечное возвращение». У Державина – оставь надежду всяк сюда входящий, никакой памяти быть не может, время не сокровищница бытия, а пропасть забвения, где все тонет, и ни герои, ни царства не уйдут этой общей судьбы: абсолютный пессимизм. И мне кажется, что именно в этом Державин выразил главную тайну русской души – ее беспощадный пессимизм. Не античный, трагический, воспетый Ницше, а чернобездонный, где ни отклика, ни эха. И не случайно Мандельштам называет это стихотворение «угрозой», да еще и не простой, а апокалипсической![95 - «Как трубный глас звучит угроза, нацарапанная Державиным на грифельной доске» (статья «Слово и культура»).] Как иудей, он был неизлечимым оптимистом. И восхищаясь Державиным?поэтом, подражая его одической «поступи» (не зря Цветаева назвала его «молодой Державин»), Мандельштам не мог не чувствовать, что как личность Державин был ему полной противоположностью, а их мировоззрения – чуждыми: Бог Державина «пространственный», а человек пред ним – ничего не значит[96 - Ода Державина «Бог» начинается с обращения: «О, ты, пространством бесконечный», а дальше сказано: «А я перед тобой – ничто».].
Да, Державин был для него патриархом русской поэзии[97 - «И не запишет патриарх/На мягкой сланцевой дощечке…», сказано в одном из вариантов «Грифельной оды».], развернувшейся во всю силу в 19 веке, но что это был за век в его глазах?
Девятнадцатый век в самых крайних своих проявлениях должен был прийти… к поэзии небытия и буддизму в искусстве. <…> Скрытый буддизм, внутренний уклон, червоточина. Век не исповедовал буддизма, но носил его в себе, как внутреннюю ночь, как слепоту крови, как тайный страх и головокружительную слабость[98 - О. Мандельштам, статья «Девятнадцатый век» (1922).].
2. Сшибка культур
Нет нужды углубляться в понимание сути религиозных доктрин буддизма, как и христианства или язычества, для Мандельштама все это – метафоры, или некие обозначения культурных явлений. Как и многие его европейские современники в век упадка религиозных начал и их замены культурными кодами, он искал ориентиры в диком лесу культур, выросшем на религиозном пустыре новой Европы[99 - как писал Поль Валери в своей знаменитой работе «Кризис духа»: «цивилизованная Европа увидела быстрое возрождение бесчисленных обликов своей мысли: догм, философий, противоречивых идеалов: трёх сотен способов объяснить мир, тысячи и одного оттенков христианства, двух дюжин позитивизмов, – весь спектр интеллектуального света раскинулся своими несовместимыми цветами, озаряя странным и противоречивым лучом агонию европейской души».], искал и жаждал культурного самоопределения. «Культура стала церковью», лапидарно сформулировал он в статье «Слово и культура» (1921). Он искал свою церковь, свою культурную основу, тем более что будучи «эмансипированным» (ассимилированным) евреем, оказался без своей «кровной» культуры (или пытался от нее отказаться), и на данную ему русскую культуру смотрел немного со стороны, со временем все больше и больше ощущая чуждость многим ее традициям. «Буддизм» же для него, тут он следовал Ницше, – религия «нигилистическая», религия европейского декаданса, «поэзия небытия». В статье «Скрябин и христианство» он называет «буддизм» «обратным ходом времени», когда «Единства нет! <…> Личности нет! <…> Времени нет! <…> – время мчится обратно с шумом и свистом, как прегражденный поток…» Он и символистов считал последователями «буддизма», то есть разрушителями культуры, как он ее понимал и хотел видеть. Отсюда и выбор «акмеизма», предназначенного для тех, «кто обуян духом строительства»:
Строить – значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство. Хорошая стрела готической колокольни – злая, потому что весь ее смысл – уколоть небо, попрекнуть его тем, что оно пусто[100 - Из статьи «Утро акмеизма», предположительно датирована тем же 1913 годом, что и разбираемое стихотворение.].
В этом суть его мировоззрения: активный подход к жизни, вера в нее, вера в деятельность, как строительство мира. «Буддизм» для него – обозначение противоположного, созерцательного начала, враждебного активизму:
Девятнадцатый век был проводником буддийского влияния в европейской культуре. Он носитель чуждого, враждебного и могущественного начала, с которым боролась вся наша история, – активная, деятельная, насквозь диалектическая, живая борьба сил, оплодотворяющих друг друга[101 - О. Мандельштам, статья «Девятнадцатый век» (1922).].
Так и хочется спросить: чья это – «наша»? Ведь и девятнадцатый век русской культуры он оценивал далеко нелестно:
Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры… я… вижу в нем единство «непомерной стужи», спаявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в глубокую зиму, где страшная государственность – как печь, пышущая льдом[102 - О. Мандельштам, «Шум времени» (1923–24).].
И патриарх русской поэзии, с его ворожбой о смерти, которая все поглощает и делает бессмысленным любое созидание, с его отношением к жизни, как прихожей небытия, был «типичным представителем» этого враждебного начала, как его ни называй: «буддизмом», «язычеством», или «дикостью». Летом 1931?ого Мандельштам пишет: «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето». То есть он видит Москву и Россию «буддийской» (хотя вокруг бушевал энтузиазм «строительства нового мира»)[103 - По мнению Майи Каганской: «Противодействие буддизму, его духу небытия и мертвенной созерцательности наверняка пришло к Мандельштаму в процессе «выяснения отношений» с русской культурой, к буддизму традиционно чуткой благосклонной» («Осип Мандельштам – поэт иудейский»).].
Означенное культурное противостояние есть вечная противоположность язычества, как культуры пространства и созерцательности, и иудейства, как культуры времени и преобразовательной деятельности. Аверинцев глубоко и точно пишет о «различном понимании универсума в этих культурах»:
…Высшая мудрость античного человека состоит в том, чтобы доверять не времени, а пространству, не будущему, а настоящему. …Гораций будет поучать: «Лови день, менее всего доверяй следующему!» Напротив, сквозной мотив ближневосточных преданий – обетование, на которое не только позволительно, но безусловно необходимо поменять наличные блага. Будущее – вот во что верят герои Библии. …греческий «космос» покоится в пространстве… «олам» движется во времени, устремляясь к переходящему его пределы смыслу… Вот почему библейская поэтика – это поэтика притчи, исключающая пластичность: природа и вещи должны упоминаться лишь по ходу действия и по связи со смыслом действия, никогда не становясь объектами самоцельного описания, выражающего незаинтересованную радость глаз; люди же представляются не как объекты художнического наблюдения, а как субъекты выбора и действия[104 - Сергей Аверинцев, статья «Греческая “литература” и ближневосточная “словесность”». По какой?то личной или цензурной «стыдливости» Аверинцев везде, вместо «еврейский» употребляет эвфемизмы «библейский» (это еще куда ни шло), или «ближневосточный».].
Эта определение библейской поэтики подходит к поэтике Мандельштама, именно в этой ветхозаветной закваске надо искать истоки его «акмеизма», историзма и метафизики, причину того, что он называет себя «смысловиком» и исключает чистую описательность. Для Мандельштама пространство, Космос, «небо» пусты, если не заполнены плодами человеческой деятельности, а сама эта деятельность есть строительство – упрек и вызов бессмысленно прекрасной пустоте пространства[105 - «Без человека нет времени», писал Хайдеггер («Время и бытие»). В этом плане любопытен фрагмент из очерка Мандельштама «Михоэлс» (1926): Я смотрел в окно вагона, как этот единственный пешеход черным жуком пробирался между домишками… В движениях его была такая отрешенность от всей обстановки и в то же время такое знание пути, словно он должен пробежать «от» и «до», как заводная кукла. Эка, подумаешь невидаль: долгополый еврей на деревенской улице. Однако я крепко запомнил фигуру бегущего ребе, потому что без него весь этот скромный ландшафт лишался оправдания.].
С Космосом, пространством (без человека, пустым), связано понятие «прекрасного». Космос грека?язычника неизменен в своей красоте, суть которой в мере и симметрии, в подчинении мудрым, т. е. вечным и неизменным математическим законам движения и геометрическим формам. «Мудрость» грека – созерцание этой умной красоты и подражание ей, как благу, он стремится к этому «благу», как равновесию в борьбе с буйством собственных страстей. Для многих античных философов (особенно стоиков, Секст Эмпирик и другие) это было высшей человеческой целью, что роднит их с буддизмом и его нирваной. Многие уже отмечали сходство кинизма и буддизма. Бертран Рассел пишет в своей «Истории западной философии» о Диогене: «Он жил, как индийский факир, подаянием», а А. Н. Чанышев в «Курсе лекций по древней философии» замечает: «В кинизме мы видим греческий аналог учений Будды и «Бхагавадгиты» с их проповедью универсальной отрешенности, свободы как преодоления всяких привязанностей в жизни». Общее между ними, как я понимаю, – созерцательность. И в этом они противоположны «еврейству», суть коего в преобразовательной деятельности[106 - Ханна Арендт в своей книге «Vita activа» (в английском варианте «Ситуация человека»), написанной уже после войны, в 50?е годы, разделяет «жизнь активную», которая и есть по ее мнению «ситуация человека», и «жизнь созерцательную», бывшую идеалом античных философов, доставшимся в наследство современной европейской культуре. Будучи, как и Мандельштам, сторонницей активной жизни, она характеризует этот идеал, цитируя?пересказывая «Политику» Аристотеля: «всякий род деятельности, даже и деятельность мысли, должен иметь место ради абсолютного покоя. <…> Абсолютный примат созерцания над любой деятельностью опирался в конечном счете на убеждение, что никакое создание рук человеческих не способно тягаться в красоте и истине с природой и космосом» (Арендт, «Vita activа», Алетейя, 2000, стр. 24–25). В христианстве добавилось презрение к человеческому телу, как к продолжению животного начала, а значит и к любой деятельности, неизбежно связанной с телесными потребностями.]. Мартин Бубер выделяет в еврействе три идеи?основы: единства, действия и будущего.
…еврей по своей природе больше воспринимает связь между явлениями, чем отдельное явление. Для его взора лес существеннее, чем деревья, община существеннее, чем люди… В действии он обнаруживает больше существенности и личности, чем в восприятии, <…> для его жизни важнее то, что он совершает, чем то, что с ним совершается… Идея будущего основана на том, что чувство времени развито у еврея гораздо сильнее, чем чувство пространства… Его национальное и религиозное сознание питается главным образом историческими воспоминаниями и исторической надеждой…[107 - Мартин Бубер, «Обновление еврейства», 1919 г.]
По Бергсону, процесс взаимодействия сознания с миром можно осмыслить, лишь отвергнув созерцательную позицию и став на точку зрения действия.
Жаждой единства и деятельности, как и верой в будущее, охвачен и Мандельштам, прекрасно отдавая себе отчет в иудейском характере таких устремлений. И он находит, вопреки мнению любимого им Чаадаева, внутреннюю связь и в русской культуре: это – русский язык, в нем единство русской истории.
Чаадаев, утверждая…, что у России нет истории, <…> упустил одно обстоятельство, – именно: язык[108 - О. Мандельштам, статья «О природе слова» (1920–1922).].
В ту пору Мандельштам утверждал, что «русский язык – язык эллинистический»:
живые силы эллинской культуры… устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения[109 - Там же.]…
Вопрос об эллинизме русской культуры, на мой взгляд, спорный, а после революционных преобразований Петра Великого и вовсе неясно к какому именно типу ее отнести и как определить ее основные «характеристики». Мандельштаму это, во всяком случае, не удалось, и ему, как и многим и очень глубокомысленным деятелям русской культуры начала 20 века, оставалось лишь жонглировать различными культурными стереотипами: «язычество», «эллинизм», «христианство», «буддизм», «средневековье». Возможно, русская культура (после Петра) и была «всем понемножку», такой эклектической смесью. Но очевидно одно: Мандельштам был за жизнь деятельную, созидательную, против созерцательности и отчаяния перед лицом смерти. Он видел жизнь и время иначе. И «река времен» для него не воронка, что все топит в пропасти забвенья, а «длительность» Бергсона, накопление памяти и рост жизни. А Державин был выразителем противоположных основ культуры, и его восьмистишие – гениальная по силе выразительности песнь отрешения от жизни, пароксизм любовного слияния со смертью. Для Державина поток времени несет смерть, а для Мандельштама (и Бергсона) – жизнь. В океане памяти смерти нет[110 - Ханна Арендт, кстати, различает бессмертие и вечность («Vita activа»). «Бессмертие это продолжающееся пребывание во времени, смерть без умирания, какая в греческом восприятии была присуща природе и олимпийским богам. Геродот замечает… что греческие боги не просто антропоморфны… но одной природы с людьми. <…> задача и величие смертных в том, что они способны производить вещи – творения, деяния, речи, – которые заслуживают того, чтобы на все времена водвориться в космосе…» Это похоже на идеи Бергсона о включенности человека в по? ток времени, а значит и о его бессмертии. «Через бессмертные деяния, – пишет Арендт, – оставляющие нестираемые следы в мире, смертные способны достигать бессмертия, доказывая так, что и они божественной природы». Что касается «вечности» (а это уже похоже на нирвану), то Платон считал ее «несказанной», а Аристотель «бессловесной», она способна осуществиться «лишь вне сферы дел человеческих» (речь и писательство – формы активной жизни, «их дело не вечность, а забота об оставлении следов своей мысли потомству»). Вечность можно только созерцать в мистическом откровении. В том, что «философская ориентация на вечность взяла верх» Арендт «обвиняет» христианство: античную веру человека в бессмертие своих деяний заменили верой в вечную жизнь, и не за деяния (от себя добавлю) сия награда, а за праведность, а в полной праведности можно быть уверенным только ничего не делая, лишь созерцая…].
Воздушно?каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех —
Рожденных, гибельных и смерти не имущих[111 - Стихотворение «Где связанный и пригвожденный стон…» (1937).].
3. Грифельная ода
Природа для Мандельштама – организм, она учится и учит, говорит (слово – «голос материи»), и в «Грифельной оде» он идет в ученичество к природе, вслушивается в ее язык. А речь человека – вершина созидания, собирание времен.
Ныне происходит как бы явление глоссолалии. В священном исступлении поэты говорят на языке всех времен, всех культур. <…> Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков[112 - статья «Слово и культура» (1921).].
Слово – голос веков, голос времени. Тем более – стихотворение. «Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит»[113 - Там же. «Еще раз уподоблю стихотворение египетской ладье мертвых. Все для жизни припасено, ничего не забыто в этой ладье…» (О. Мандельштам, «О природе слова», 1920–22).]. Оно звучит под куполом собора времен[114 - Идею глоссолалии как метафоры поэтической речи, творящей мир, Мандельштам наверняка подхватил у Андрея Белого, написавшего поэму с таким названием в 1917 году. Из всех словотворцев?современников Андрей Белый оказался Мандельштаму особенно близок по духу, по представлениям о роли слова и речи в мироздании и по творческим методам. «Блаженное, бессмысленное слово», любимый образ Мандельштама, и есть глоссолалия.].
«Грифельная ода» – «наш ответ» Державину. Она и написана державинской строфой и делится на восьмистишия. И если у Державина время все топит в пропасти забвенья, то у Мандельштама оно прорастает Древом Жизни[115 - «Мне хочется <…> следить за веком, за шумом и прорастанием времени…» («Шум времени»)], и вселенная учится у реки времен, у ее проточной воды.
Какой же выкуп заплатить
За ученичество вселенной,
Чтоб горный грифель приучить
Для твердой записи мгновенной.
На мягкой сланцевой доске
Свинцовой палочкой молочной
Кремневых гор созвать Ликей
Учеников воды проточной[116 - Один из черновых вариантов «Грифельной оды».].
А о Державине сказано:
И не запишет патриарх
На мягкой сланцевой дощечке
Ни этот сдвиг, ни этот страх…
Поэт – не созерцатель, а дирижер, исполняющий музыку природы, ее вечного изменения. В «Разговоре о Данте» Мандельштам проговаривает прозой то, что симфонией образов звучит в стихах оды:
Когда читаешь Данта… когда начинаешь улавливать сквозь дымчато?кристаллическую породу формозвучания внедренные в нее вкрапленности, то есть призвуки и примыслы, присужденные ей уже не поэтическим, а геологическим разумом, – тогда чисто голосовая интонационная и ритмическая работа сменяется более мощной, координирующей деятельностью – дирижированьем, и над голосоведущим пространством вступает в силу рвущая его гегемония дирижерской палочки, выпячиваясь из голоса, как более сложное математическое измерение из трехмерности.
Здесь вновь указание на выход из трехмерного пространства в иное измерение.
Мандельштам считал Данте своим союзником в споре с Державиным. Как пишет М. Л. Андреев в работе «Время и вечность в «Божественной комедии»:
Данте видит во времени не уничтожение, а созидание, время не обращается против своего содержания, погружая его в забвение…: оно приводит его не к гибели, а к жизни[117 - «Дантовские чтения», изд. «Наука», М., 1979, стр. 209.].
«Он дирижировал кавказскими горами», скажет Мандельштам об Андрее Белом. Природа учится у времени и в свою очередь учит человека, поэта, внимающего ученью («И я теперь учу дневник царапин грифельного лета…»). И если Державин записал на грифельной доске (она же кремневая и сланцевая[118 - О диалоге с Державиным в «Грифельной оде» пишет Ирина Семенко в своей известной работе «Поэтика позднего Мандельштама».]) гимн обреченности, то Мандельштам говорит о записи, созывающей «Ликей учеников воды проточной», учеников реки времени [119 - Известный российский философ В.В. Бибихин, написавший книгу об «актуальном времени» под названием «Пора (время?бытие)», отмечает, что в словаре Даля «пора – это проточная вода».], здесь «учение» противопоставлено разрушению. Работа поэта?дирижера, исполняющего музыку природы, никаким жерлом вечности не пожрется, она часть вечного процесса звучания, обучения и преобразования.
И ночь?коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
Ночь?хаос несет не забвение, а «горящий мел», огнем молний[120 - «Омоюсь молнии огнем», из стихотворения «В самом себе как змей таясь…» (1910)] питает вдохновение поэта. И образ водной стихии в «Грифельной оде» совсем иной, она вовсе не угрожает утопить дела людей в полном забвении, она учит и строит, она ведет, как поводырь:
Теперь вода владеть идет,
И поводырь слепцов зеленых,
С кремневых гор струя течет,
Крутясь, играя как звереныш.
И если у Державина сильнее всего и вся всепоглощающее «жерло вечности», то у Мандельштама царит память:
Твои ли, память, голоса
Учительствуют, ночь ломая,