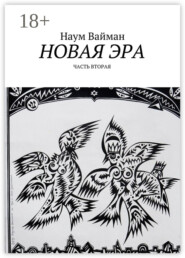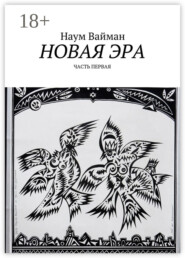По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Преображения Мандельштама
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Комарик звенел:
– Глядите, что сталось со мной: я последний египтянин – я плакальщик, пестун, пластун – я маленький князьраскоряка – я нищий Рамзес?кровопийца – я на севере стал ничем – от меня так мало осталось – извиняюсь!..
– Я князь невезенья – коллежский асессор из города Фив… Все такой же – ничуть не изменился – ой, страшно мне здесь – извиняюсь…
Он же и назван в повести «египетской маркой». А поскольку Мандельштам видит в Парноке своего двойника[137 - Подробно эта тема разрабатывается в работах Л. Кациса «Почему «Египетская марка» О. Мандельштама «египетская» и почему «марка»? К проблеме построения не филателистического литературоведения на текстах о 1917–1918 гг. // Исследования по истории русской мысли [14]. Ежегодник за 2018 год. М., 2018 и Л. Кацис, Л. Брусиловская «К французской речи» или Если Парнок – не В. Парнах? «Пансион Мобэр» и О. Мандельштам (Русский Сборник: Исследования по истории России / Ред.сост. О. Р. Айрапетов, М. А. Колеров, Брюс Меннинг, А. Ю. Полунов, Пол Чейсти. Т. XXIV. М.: Модест Колеров, 2018. 656 с.)] (Парнока в детстве дразнили «овцой», а Мандельштама «ламой») то он сам и есть «египетская марка». Как верно указал Л. Кацис, слово «марка» в то революционное время означало еще и принадлежность к тому или иному лагерю или этнической группе (большевик – германская марка, монархист – царская марка и т.д.). Так «египетская марка» это просто еврей, попавший из одного Египта в другой. И тут не лишне вспомнить, что Валентин Парнах, прототип героя повести, ровесник и приятель Мандельштама (и поэт)[138 - См. главу «Тень Мандельштама» в «Дополнениях».], по его собственным словам «смертельно ненавидел» Россию (это чувство возникло «при старом режиме», но и Советскую Россию он покидал дважды, хотя каждый раз возвращался), и тоже пытался «уйти из нашей речи»[139 - «я с ужасом почувствовал, что больше не хочу писать на русском языке»; «я так привык ненавидеть и Петербург, и университет, что даже не представлял себе, как можно любить город, где учишься» (В. Парнах, «Пансион Мобер»).], писал по?французски, даже учил иврит. Вспоминая о пребывании в Палестине в 1914 году Парнах пишет в мемуарном тексте «Пансион Мобер»: «Между тем уже в самом начале войны в Палестину дошли известия о новых еврейских погромах в России: на этот раз громила царская армия. Дело Бейлиса казалось мне пределом еврейских бедствий. Но известия и слухи распространялись, повторялись, подтверждались. «Ну, теперь казаки перережут всех жидов!» – с восхищением сказал на чистейшем русском языке православный араб, сторож при русском монастыре». А если вернуться к филателистическому смыслу фразы «Мандельштам – “египетская марка”», то можно сказать, что Россия оказалась им маркирована, проштемпелевана.
И в «Египетской марке» (место действия – «Петербург») Мандельштам, как бы невзначай, перечисляет все элементы «державинской линии»: Египет, верблюды, финики, пески…
Ночью, засыпая в кровати с ослабнувшей сеткой, при свете голубой финолинки, я не знал, что делать с Шапиро: подарить ли ему верблюда и коробку фиников, чтобы он не погиб на Песках…
Где Египет, там и пески с бедуинами. Кстати, поэта по внешнему виду не только дразнили «ламой», но и сравнивали с верблюдом.
Но если в «Шуме времени» Петербург был для мальчика «ворохом военщины и даже какой?то полицейской эстетики» и казался «идеальным всеобщим военным парадом», то для героя «Египетской марки» великий город, пространство русской культуры, становится чем?то отталкивающим:
Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно съел похлебку из раздавленных мух.
Как пишет Евгений Павлов, анализируя «Египетскую марку» в своей книге «Шок памяти»,
…даже в отсутствие действия город предстает зловещей сценой…
Петербург торгует пустотой и зиянием, и, кроме этого, ему нечего предложить с лотка своей поверхности. Покров фантасмагории скрывает под собой лишь пустоту.
Россия?Египет – пустое пространство, место на карте. Как писал Чаадаев, «чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера. <…> Я не перестаю удивляться этой пустоте…»
То есть в первой строфе «Отравлен воздух…» Мандельштам ощущает себя проданным в Египет, жующим отравленный хлеб его рабства и вдыхающим разряженный воздух его пустоты[140 - Каждая культура «помнит», без общей культурной памяти не может быть никакого объединения, но существует важное различие между интенсивностью и содержанием культурной памяти в разных общностях. «Несмотря на универсальность этого феномена, – как пишет в книге “Культурная память” известный египтолог и культуролог Ян Ассман, – для одного народа сохраняется особое место, речь идет о народе Израиля. <…> Израиль создал и сохранил себя как народ под императивом “Храни и помни”». Исход из Египта для евреев не только миф об освобождении, но и миф о начале Пути, а значит и памяти. История евреев – это роман о жизни Бога со своим народом, он требует постоянного прочтения заново и переосмысления. Такая история становится «движущим мифом», формирующей силой. По словам Леви?Стросса Израиль сделал историю «движущей силой своего развития». А история Египта – это история царей, не народа, это цивилизация не памяти, а памятников, и прежде всего монументальных надгробий: чем грандиозней надгробная пирамида, тем «дальше» по времени ее видно. И есть еще один важный аспект «египетской памяти»: ее альянс с властью. Власть нуждается в легитимности, она ищет ее в прошлом и пытается увековечить себя в будущем. Историческая память в тоталитарных («египетских») обществах – дело государственное. А интерес государственной власти состоит в том, чтобы себя сохранить, и она «отчаянно сопротивляется вторжению истории». Поэтому Ассман пишет «об альянсе власти с забвением». Как у Оруэлла в романе «1984»: «История остановилась. Есть лишь вечное настоящее, в котором партия всегда права». В обществах забвения ничего не происходит. Геродот пишет о египтянах, как о «народе с самой длинной памятью» и насчитывает в их истории 341 поколение. Но при этом «В Египте ничего не изменилось». Мандельштам связывает память и историю с языком, вторя Тациту, писавшему о подавлении памяти при тоталитарной императорской власти: «Вместе с языком мы утратили бы и память, если бы забвение было бы также в нашей власти, как и молчание».].
5. Дело Бейлиса и дуэль с Хлебниковым
Но как же так вышло, что в разгар усилий поэта по «вживлению» себя в организм русской культуры, на пике карьеры «русского поэта», в период своего восхищения античным Римом («Поговорим о Риме – дивный град!») и активного отталкивания от еврейства[141 - В стихотворении «Посох» 1914 года говорится об уходе из еврейства и именно в Рим! «А снега на черных пашнях/Не растают никогда», то есть «кровная» культура поэта обречена на бесплодие, и «Печаль моих домашних» по этому поводу «мне по?прежнему чужда».], появляется вдруг еврейская тоска Иосифа, проданного в «Египет», отравленный хлеб, выпитый воздух, неизлечимые душевные раны униженного пленника? Оказывается, у этого всплеска эмоций – вполне конкретные причины, связанные с определенными событиями в России?Египте, глубоко повлиявшими на поэта. Речь идет о «деле Бейлиса»[142 - «Дело Бейлиса» – громкий судебный процесс по обвинению Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 12?летнего ученика Киево?Софийского духовного училища Андрея Ющинского 12 марта 1911 года. Процесс шел в Киеве осенью 1913 года и закончился оправданием Бейлиса.]. Валентина Мордерер и Григорий Амелин, авторы книги «Миры и столкновения Осипа Мандельштама», обоснованно считают, что стихотворение «Отравлен хлеб…» —
непосредственный отклик на несостоявшийся поединок с Хлебниковым, которого Мандельштам чтил так, что однажды прервал себя в разговоре: «Я не могу говорить, потому что в соседней комнате молчит Хлебников».
С делом Бейлиса был связан и вызов Хлебникову[143 - В этой связи уместно вспомнить гораздо более поздний (почти через двадцать лет, в 1934?ом) эпизод пощечины, которую Мандельштам влепил графу Алексею Толстому, что вызвало, как передают, возмущенную реакцию «отца советской литературы» Максима Горького: «Мы ему покажем, как бить русских писателей!»]. История этой несостоявшейся дуэли рассказана несколькими близкими к ней персонажами, немаловажными для русской культуры: Шкловским, Харджиевым и самим Хлебниковым. Харджиев излагает события следующим образом[144 - Цитирую по упомянутой книге Амелина и Мордерер «Миры и столкновения Осипа Мандельштама» Москва, издательство «Языки русской культуры», 2001 г.]:
В ноябре 1913 года, в артистическом подвале «Бродячая собака» произошла полемическая дуэль Хлебникова с Мандельштамом. Одно неправильно понятое суждение Хлебникова вызвало возражение Филонова, Ахматовой и других посетителей подвала. С наибольшей резвостью выступил против Хлебникова Мандельштам. Отвечая ему, Хлебников дал отрицательную оценку его стихам. Заключительная часть выступления Хлебникова озадачила всех своей неожиданностью:
– А теперь Мандельштама нужно отправить обратно к дяде в Ригу.
Привожу устный комментарий Мандельштама:
– Это было поразительно, потому что в Риге действительно жили два моих дяди. Об этом ни Хлебников, ни кто?либо другой знать не могли. С дядями я тогда даже не переписывался. Хлебников угадал это только силою ненависти!
Ненависть, как и любовь – точный компас. А если учесть, что под Ригой, в Дуббельне, которую Мандельштам обозвал «грязной еврейской клоакой»[145 - «Шум времени».], жили и бабушка с дедушкой
Иосифа Эмильевича, то Хлебников не просто послал Мандельштама подальше, но именно к сородичам, в места, как говорят, «плотного проживания представителей данной национальности», и с указанием места все угадал правильно. Авторы книги «Миры и столкновения» пишут о «черносотенных симпатиях» Хлебникова, но это отдельная тема, и я не буду ее касаться. Характерно и то, что Хлебников «дал отрицательную оценку стихам» Мандельштама, что, полагаю, было для нашего героя особо обидным, поскольку сам он ценил Хлебникова предельно высоко («пока Велимир Хлебников <…> погружает нас в самую гущу русского корнесловия, …жива русская литература»[146 - Статья «О природе слова» (1922).]). И «хлеб» в стихотворении Мандельштама, оказавшийся отравой, не случайно созвучен фамилии русского поэта.
Однако Харджиев поведал лишь часть истории, тактично умолчав о подробностях «полемической дуэли». Шкловский более откровенен (цитирую по книге «Миры и столкновения»):
О случившемся в «Бродячей собаке» поведал на склоне лет Виктор Борисович Шкловский, да и то в частной беседе: «Это очень печальная история. Хлебников в „Бродячей собаке“ прочел антисемитские стихи с обвинением евреев в употреблении христианской крови, там был Ющинский и цифра „13“. Мандельштам сказал: „Я как еврей и русский оскорблен, и я вызываю вас. То, что вы сказали – негодяйство“. И Мандельштам, и Хлебников, оба выдвинули меня в секунданты…»
6. Юдофобия
Дело Бейлиса оживило стойкое суеверие о ритуальном использовании евреями крови христианских детей (мальчику было нанесено 13 колотых ран, которые якобы повторяли начертание буквы «шин») и стало для России таким же «историческим» и «резонансным», как дело Дрейфуса для Франции. Процесс расколол русское общество и русскую интеллигенцию на юдофобов, заранее осудивших обвиняемого, а с ним и всех евреев, и сторонников честного судебного разбирательства. На стороне юдофобов были многие выдающиеся деятели русской культуры, которыми Мандельштам восхищался: Василий Розанов, Павел Флоренский, Велимир Хлебников, Александр Блок, и еще очень многие. Думаю, что среди огульно поддержавших обвинения против Бейлиса интеллигентов большинство просто воспользовалось поводом, чтобы дать бой евреям и потеснить их с «захваченных позиций» в русской культуре. Как писал Розанов Гершензону (1909 г.): «Боюсь, что евреи заберут историю русской литературы и русскую критику еще прочнее, чем банки». Кстати, замечу на полях (нота Бене), что миф о том, что русская интеллигенция всегда дружно выступала против антисемитизма – глупая выдумка. Антисемитами были и Антон Чехов, который в письмах частенько кличет евреев «жидами», и Алексей Лосев, который писал, что «Еврейство со всеми своими диалектическоисторическими последствиями есть Сатанизм, оплот мирового Сатанизма», и Зинаида Гиппиус, которая в письме Брюсову назвала Мандельштама «неврастенический жиденок» (Брюсов с тех пор называл Мандельштама «зинаидин жидок»), а Блок заметил по поводу одного выступления Мандельштама: «жидочек прячется, виден артист». В 1911 году (начало свистопляски вокруг «ритуального убийства») Андрей Белый, замечательный русский поэт, прозаик и мыслитель, один из ведущих деятелей Серебряного века писал в статье «Штемпелеванная культура»[147 - Стамп, как известно, – марка, нет ли тут смыслового мостика к «Египетской марке»? Ведь Мандельштаму эта статья была наверняка известна.]:
Бесспорна отзывчивость евреев к вопросам искусства. <…> они равно интересуются всем, но интерес этот не может быть интересом подлинного понимания задач данной национальной культуры, а есть показатель инстинктивного стремления к переработке, к национализации (юдаизации) этих культур, а следовательно к духовному порабощению арийцев.... Становится страшно за судьбы родного искусства… Еврей?издатель, с одной стороны, грозит голодом писателю, с другой стороны – еврейский критик грозит опозорить того, кто поднимет голос в защиту права русской литературы быть русской и только русской…[148 - Не менее характерны высказывания Белого в заметке «Палингенез» 1907 года: «В известном рассказе о творении мира хорошо отразился прозаический хозяйственно?сухой ум семитов. <…> Итак, перед нами лишний повод пожалеть о том неестественном развитии, какое, к несчастью, испытала душа арийского народа, когда ей ходом вещей или случаем навязано было чуждое и непонятное семитическое мировоззрение. Много можно было бы сказать об уродливых наростах, которыми, благодаря его воздействию, покрылась нравственная сторона европейской личности». (см. статью Илоны Светликовой НЛО, №5, 2008)]
Философ Аарон Штейнберг так передает в своих мемуарах обращенные к нему слова Блока: «Знаете, Аарон Захарович, должен вам признаться, что я был сам некоторое время близок к юдофобству, особенно во время процесса Бейлиса». Юдофобство Блока никуда не делось. Приведу цитату из его дневника от 27 июля 1917 года:
История идёт, что?то творится; а ЖИДКИ – ЖИДКАМИ: упористо и смело, неустанно нюхая воздух, они приспосабливаются, чтобы НЕ творить (т. е., так как – сами лишены творчества; творчество, вот, грех для еврея), и я хорошо понимаю людей, по образу которых сам никогда не сумею и не захочу поступить и которые поступают так: слыша за спиной эти неотступные дробные шажки (и запах чесноку) – обернуться, размахнуться и ДАТЬ В ЗУБЫ …Господи, когда, наконец, я отвыкну от жидовского языка и обрету вновь свой русский язык…
Розанов «в вечер Бейлиса» (после вынесения тому оправдательного приговора) записал телефонный разговор, где выразил похожее желание дать жиду в зубы:
– Звонит председатель русского студенческого кружка.
– Здравствуйте, очень рад.
– Мы решили обратиться к вам… пожалуйста извините за беспокойство… Как вы думаете: нужно же реагировать как?нибудь на решение киевского суда?! Что же, неужели забыть мальчика Ющинского?!..
– Первым делом отслужить панихиду по нем в Казанском соборе. Если бы не согласился местный священник, следует обратиться к свящ. Будкевичу.
– Да, мы уже говорили с ним. Но что же еще? Неужели не реагировать?
– И, идя по Невскому, – дать по морде какому-нибудь еврею, сказав: это вам в память Ющинского…
Шум, хохот. Положили трубку. Догадываюсь, что евреи и насмешка…
Утешение, что все?таки я им сказал в лицо настоящее чувство[149 - В. Розанов, «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (1913).].
Отметим еще уверенность Блока в неспособности евреев к творчеству (ее разделял и Розанов), которое было характерно еще для античных авторов, а в новейшее время эта идея активно развивалась композитором Вагнером[150 - «в нашем искусстве еврей может только повторять, подражать, но создавать изящные произведения, творить – он не в состоянии». (Р. Вагнер, «Еврейство в музыке»)], а затем и нацистами. Есть распространенное мнение интеллектуалов от юдофобии, что евреи – жуткие рационалисты и ничего не понимают в природе, она им чужда, и у них атрофировано «чувство красоты». А их неспособность «наслаждаться природой» и обожествлять ее, как полагали многие, особенно романтики, делает их творчески бесплодными.
В этом утверждении есть «доля истины». Если под «природой» понимать пейзажи, пространство, то между ней и культурой памяти, Еврей выбирает культуру, а Язычник – природу[151 - Моше Гесс пишет («Рим и Иерусалим»): «До выхода германских народов на авансцену истории имелись только два культа: культ природы и культ истории. Первый нашел свое классическое выражение в Греции, второй в Иудее».]. И «красота» для античного грека – в формах пространства и вещей в пространстве, в их пропорциях и симметриях, а царица наук для него – геометрия. «Не знающий геометрии сюда не входи», – было начертано на дверях академии Платона. Платон, как пишет Глеб Смирнов в книге «Палладио», ни на секунду не сомневался, что Бог является геометром. И считал сферу – фигурой Бога. В еврейской же метафизике вообще нет понятия красоты. Место языческого «наслаждения природой» у евреев занимает благоговение, или «священный трепет» перед Господом и его Творением. Так что «этническая» линия раздела действительно порой совпадает с границей между «культурой пространства» и «культурой времени» (или «культурой памяти»), язычеством и монотеизмом, что подтверждает мнение, что европейцы, несмотря на 20 веков христианства, остались во многом язычниками.
Блок, как мы видим, разделял эти представления о неспособности евреев к творчеству. Но поскольку великий русский поэт восхищался великим немецким поэтом еврейского происхождения Генрихом Гейне и находился под его сильным влиянием, то ему пришлось объяснять самому себе этот парадокс любви к иудею. В этом плане любопытна его заметка «О иудаизме Гейне», где он утверждает, что Гейне иудаизму изменил, о чем свидетельствуют, по мнению Блока, три факта:
1) Факт крещения. Такие поступки величайшей внутренней важности не совершаются людьми, подобными Гейне, из одной коммерческой выгоды; люди, подобные Гейне, не поступают как первый попавшийся еврейский спекулянт. <…> 2) Вторая измена Гейне иудаизму заключалась в двойственности религиозного сознания. Да, Гейне – иудей; его пламенный рационализм не подлежит сомнению; но Гейне – и христианин, и иногда он христианин больше, чем многие арийцы… Мало того, Гейне – и эллин иногда, и его античные прозрения глубже, чем у людей его времени <…> в нем сочетались противоречия, свидетельствующие о непомерном избытке жизненной силы; отсюда – и его измены. 3) Третья измена Гейне иудаизму… это – чувство природы. Когда Браудо спорил с Жирмунским, что Гейне не мог не чувствовать природы, у меня была потребность доказывать, что он ее не чувствовал. Когда Волынский доказывает, что Гейне, как иудей, не чувствовал природы, у меня противоположная потребность – доказывать, что он ее чувствовал. Это происходит от того, что Гейне и тут противоречив до крайности, совмещает в себе, казалось бы, несовместимое. <…> в «Путевых картинах» есть намеки, указывающие на то, что Гейне был почти способен переселяться и в романтическое чувствование природы. <…> по глубочайшему замечанию Волынского, евреи не чувствуют природы как natura naturata; да, это так. Но Гейне есть величайшее исключение, подтверждающее это правило.
Этой заметкой Блок вмешался в спор двух евреев о третьем, Жирмунского и Волынского о Гейне. При этом он не только восхваляет «измену» Гейне иудаизму, но и оправдывает измену вообще.
Измена не есть перемена убеждений или образа мыслей: она есть глубочайший акт, совершающийся в человеке, акт религиозного значения.
Таким же оправданием ухода от «своих» занимался в период своего активного отталкивания от еврейства и Мандельштам:
Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть![152 - «О свободе небывалой…» (1915) «О свободе небывалой…» (1915).]
Любопытно, что, отталкиваясь от еврейства, поэт сознает себя «брошенным в пространстве» и «обреченным умереть»…
– Глядите, что сталось со мной: я последний египтянин – я плакальщик, пестун, пластун – я маленький князьраскоряка – я нищий Рамзес?кровопийца – я на севере стал ничем – от меня так мало осталось – извиняюсь!..
– Я князь невезенья – коллежский асессор из города Фив… Все такой же – ничуть не изменился – ой, страшно мне здесь – извиняюсь…
Он же и назван в повести «египетской маркой». А поскольку Мандельштам видит в Парноке своего двойника[137 - Подробно эта тема разрабатывается в работах Л. Кациса «Почему «Египетская марка» О. Мандельштама «египетская» и почему «марка»? К проблеме построения не филателистического литературоведения на текстах о 1917–1918 гг. // Исследования по истории русской мысли [14]. Ежегодник за 2018 год. М., 2018 и Л. Кацис, Л. Брусиловская «К французской речи» или Если Парнок – не В. Парнах? «Пансион Мобэр» и О. Мандельштам (Русский Сборник: Исследования по истории России / Ред.сост. О. Р. Айрапетов, М. А. Колеров, Брюс Меннинг, А. Ю. Полунов, Пол Чейсти. Т. XXIV. М.: Модест Колеров, 2018. 656 с.)] (Парнока в детстве дразнили «овцой», а Мандельштама «ламой») то он сам и есть «египетская марка». Как верно указал Л. Кацис, слово «марка» в то революционное время означало еще и принадлежность к тому или иному лагерю или этнической группе (большевик – германская марка, монархист – царская марка и т.д.). Так «египетская марка» это просто еврей, попавший из одного Египта в другой. И тут не лишне вспомнить, что Валентин Парнах, прототип героя повести, ровесник и приятель Мандельштама (и поэт)[138 - См. главу «Тень Мандельштама» в «Дополнениях».], по его собственным словам «смертельно ненавидел» Россию (это чувство возникло «при старом режиме», но и Советскую Россию он покидал дважды, хотя каждый раз возвращался), и тоже пытался «уйти из нашей речи»[139 - «я с ужасом почувствовал, что больше не хочу писать на русском языке»; «я так привык ненавидеть и Петербург, и университет, что даже не представлял себе, как можно любить город, где учишься» (В. Парнах, «Пансион Мобер»).], писал по?французски, даже учил иврит. Вспоминая о пребывании в Палестине в 1914 году Парнах пишет в мемуарном тексте «Пансион Мобер»: «Между тем уже в самом начале войны в Палестину дошли известия о новых еврейских погромах в России: на этот раз громила царская армия. Дело Бейлиса казалось мне пределом еврейских бедствий. Но известия и слухи распространялись, повторялись, подтверждались. «Ну, теперь казаки перережут всех жидов!» – с восхищением сказал на чистейшем русском языке православный араб, сторож при русском монастыре». А если вернуться к филателистическому смыслу фразы «Мандельштам – “египетская марка”», то можно сказать, что Россия оказалась им маркирована, проштемпелевана.
И в «Египетской марке» (место действия – «Петербург») Мандельштам, как бы невзначай, перечисляет все элементы «державинской линии»: Египет, верблюды, финики, пески…
Ночью, засыпая в кровати с ослабнувшей сеткой, при свете голубой финолинки, я не знал, что делать с Шапиро: подарить ли ему верблюда и коробку фиников, чтобы он не погиб на Песках…
Где Египет, там и пески с бедуинами. Кстати, поэта по внешнему виду не только дразнили «ламой», но и сравнивали с верблюдом.
Но если в «Шуме времени» Петербург был для мальчика «ворохом военщины и даже какой?то полицейской эстетики» и казался «идеальным всеобщим военным парадом», то для героя «Египетской марки» великий город, пространство русской культуры, становится чем?то отталкивающим:
Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно съел похлебку из раздавленных мух.
Как пишет Евгений Павлов, анализируя «Египетскую марку» в своей книге «Шок памяти»,
…даже в отсутствие действия город предстает зловещей сценой…
Петербург торгует пустотой и зиянием, и, кроме этого, ему нечего предложить с лотка своей поверхности. Покров фантасмагории скрывает под собой лишь пустоту.
Россия?Египет – пустое пространство, место на карте. Как писал Чаадаев, «чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера. <…> Я не перестаю удивляться этой пустоте…»
То есть в первой строфе «Отравлен воздух…» Мандельштам ощущает себя проданным в Египет, жующим отравленный хлеб его рабства и вдыхающим разряженный воздух его пустоты[140 - Каждая культура «помнит», без общей культурной памяти не может быть никакого объединения, но существует важное различие между интенсивностью и содержанием культурной памяти в разных общностях. «Несмотря на универсальность этого феномена, – как пишет в книге “Культурная память” известный египтолог и культуролог Ян Ассман, – для одного народа сохраняется особое место, речь идет о народе Израиля. <…> Израиль создал и сохранил себя как народ под императивом “Храни и помни”». Исход из Египта для евреев не только миф об освобождении, но и миф о начале Пути, а значит и памяти. История евреев – это роман о жизни Бога со своим народом, он требует постоянного прочтения заново и переосмысления. Такая история становится «движущим мифом», формирующей силой. По словам Леви?Стросса Израиль сделал историю «движущей силой своего развития». А история Египта – это история царей, не народа, это цивилизация не памяти, а памятников, и прежде всего монументальных надгробий: чем грандиозней надгробная пирамида, тем «дальше» по времени ее видно. И есть еще один важный аспект «египетской памяти»: ее альянс с властью. Власть нуждается в легитимности, она ищет ее в прошлом и пытается увековечить себя в будущем. Историческая память в тоталитарных («египетских») обществах – дело государственное. А интерес государственной власти состоит в том, чтобы себя сохранить, и она «отчаянно сопротивляется вторжению истории». Поэтому Ассман пишет «об альянсе власти с забвением». Как у Оруэлла в романе «1984»: «История остановилась. Есть лишь вечное настоящее, в котором партия всегда права». В обществах забвения ничего не происходит. Геродот пишет о египтянах, как о «народе с самой длинной памятью» и насчитывает в их истории 341 поколение. Но при этом «В Египте ничего не изменилось». Мандельштам связывает память и историю с языком, вторя Тациту, писавшему о подавлении памяти при тоталитарной императорской власти: «Вместе с языком мы утратили бы и память, если бы забвение было бы также в нашей власти, как и молчание».].
5. Дело Бейлиса и дуэль с Хлебниковым
Но как же так вышло, что в разгар усилий поэта по «вживлению» себя в организм русской культуры, на пике карьеры «русского поэта», в период своего восхищения античным Римом («Поговорим о Риме – дивный град!») и активного отталкивания от еврейства[141 - В стихотворении «Посох» 1914 года говорится об уходе из еврейства и именно в Рим! «А снега на черных пашнях/Не растают никогда», то есть «кровная» культура поэта обречена на бесплодие, и «Печаль моих домашних» по этому поводу «мне по?прежнему чужда».], появляется вдруг еврейская тоска Иосифа, проданного в «Египет», отравленный хлеб, выпитый воздух, неизлечимые душевные раны униженного пленника? Оказывается, у этого всплеска эмоций – вполне конкретные причины, связанные с определенными событиями в России?Египте, глубоко повлиявшими на поэта. Речь идет о «деле Бейлиса»[142 - «Дело Бейлиса» – громкий судебный процесс по обвинению Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 12?летнего ученика Киево?Софийского духовного училища Андрея Ющинского 12 марта 1911 года. Процесс шел в Киеве осенью 1913 года и закончился оправданием Бейлиса.]. Валентина Мордерер и Григорий Амелин, авторы книги «Миры и столкновения Осипа Мандельштама», обоснованно считают, что стихотворение «Отравлен хлеб…» —
непосредственный отклик на несостоявшийся поединок с Хлебниковым, которого Мандельштам чтил так, что однажды прервал себя в разговоре: «Я не могу говорить, потому что в соседней комнате молчит Хлебников».
С делом Бейлиса был связан и вызов Хлебникову[143 - В этой связи уместно вспомнить гораздо более поздний (почти через двадцать лет, в 1934?ом) эпизод пощечины, которую Мандельштам влепил графу Алексею Толстому, что вызвало, как передают, возмущенную реакцию «отца советской литературы» Максима Горького: «Мы ему покажем, как бить русских писателей!»]. История этой несостоявшейся дуэли рассказана несколькими близкими к ней персонажами, немаловажными для русской культуры: Шкловским, Харджиевым и самим Хлебниковым. Харджиев излагает события следующим образом[144 - Цитирую по упомянутой книге Амелина и Мордерер «Миры и столкновения Осипа Мандельштама» Москва, издательство «Языки русской культуры», 2001 г.]:
В ноябре 1913 года, в артистическом подвале «Бродячая собака» произошла полемическая дуэль Хлебникова с Мандельштамом. Одно неправильно понятое суждение Хлебникова вызвало возражение Филонова, Ахматовой и других посетителей подвала. С наибольшей резвостью выступил против Хлебникова Мандельштам. Отвечая ему, Хлебников дал отрицательную оценку его стихам. Заключительная часть выступления Хлебникова озадачила всех своей неожиданностью:
– А теперь Мандельштама нужно отправить обратно к дяде в Ригу.
Привожу устный комментарий Мандельштама:
– Это было поразительно, потому что в Риге действительно жили два моих дяди. Об этом ни Хлебников, ни кто?либо другой знать не могли. С дядями я тогда даже не переписывался. Хлебников угадал это только силою ненависти!
Ненависть, как и любовь – точный компас. А если учесть, что под Ригой, в Дуббельне, которую Мандельштам обозвал «грязной еврейской клоакой»[145 - «Шум времени».], жили и бабушка с дедушкой
Иосифа Эмильевича, то Хлебников не просто послал Мандельштама подальше, но именно к сородичам, в места, как говорят, «плотного проживания представителей данной национальности», и с указанием места все угадал правильно. Авторы книги «Миры и столкновения» пишут о «черносотенных симпатиях» Хлебникова, но это отдельная тема, и я не буду ее касаться. Характерно и то, что Хлебников «дал отрицательную оценку стихам» Мандельштама, что, полагаю, было для нашего героя особо обидным, поскольку сам он ценил Хлебникова предельно высоко («пока Велимир Хлебников <…> погружает нас в самую гущу русского корнесловия, …жива русская литература»[146 - Статья «О природе слова» (1922).]). И «хлеб» в стихотворении Мандельштама, оказавшийся отравой, не случайно созвучен фамилии русского поэта.
Однако Харджиев поведал лишь часть истории, тактично умолчав о подробностях «полемической дуэли». Шкловский более откровенен (цитирую по книге «Миры и столкновения»):
О случившемся в «Бродячей собаке» поведал на склоне лет Виктор Борисович Шкловский, да и то в частной беседе: «Это очень печальная история. Хлебников в „Бродячей собаке“ прочел антисемитские стихи с обвинением евреев в употреблении христианской крови, там был Ющинский и цифра „13“. Мандельштам сказал: „Я как еврей и русский оскорблен, и я вызываю вас. То, что вы сказали – негодяйство“. И Мандельштам, и Хлебников, оба выдвинули меня в секунданты…»
6. Юдофобия
Дело Бейлиса оживило стойкое суеверие о ритуальном использовании евреями крови христианских детей (мальчику было нанесено 13 колотых ран, которые якобы повторяли начертание буквы «шин») и стало для России таким же «историческим» и «резонансным», как дело Дрейфуса для Франции. Процесс расколол русское общество и русскую интеллигенцию на юдофобов, заранее осудивших обвиняемого, а с ним и всех евреев, и сторонников честного судебного разбирательства. На стороне юдофобов были многие выдающиеся деятели русской культуры, которыми Мандельштам восхищался: Василий Розанов, Павел Флоренский, Велимир Хлебников, Александр Блок, и еще очень многие. Думаю, что среди огульно поддержавших обвинения против Бейлиса интеллигентов большинство просто воспользовалось поводом, чтобы дать бой евреям и потеснить их с «захваченных позиций» в русской культуре. Как писал Розанов Гершензону (1909 г.): «Боюсь, что евреи заберут историю русской литературы и русскую критику еще прочнее, чем банки». Кстати, замечу на полях (нота Бене), что миф о том, что русская интеллигенция всегда дружно выступала против антисемитизма – глупая выдумка. Антисемитами были и Антон Чехов, который в письмах частенько кличет евреев «жидами», и Алексей Лосев, который писал, что «Еврейство со всеми своими диалектическоисторическими последствиями есть Сатанизм, оплот мирового Сатанизма», и Зинаида Гиппиус, которая в письме Брюсову назвала Мандельштама «неврастенический жиденок» (Брюсов с тех пор называл Мандельштама «зинаидин жидок»), а Блок заметил по поводу одного выступления Мандельштама: «жидочек прячется, виден артист». В 1911 году (начало свистопляски вокруг «ритуального убийства») Андрей Белый, замечательный русский поэт, прозаик и мыслитель, один из ведущих деятелей Серебряного века писал в статье «Штемпелеванная культура»[147 - Стамп, как известно, – марка, нет ли тут смыслового мостика к «Египетской марке»? Ведь Мандельштаму эта статья была наверняка известна.]:
Бесспорна отзывчивость евреев к вопросам искусства. <…> они равно интересуются всем, но интерес этот не может быть интересом подлинного понимания задач данной национальной культуры, а есть показатель инстинктивного стремления к переработке, к национализации (юдаизации) этих культур, а следовательно к духовному порабощению арийцев.... Становится страшно за судьбы родного искусства… Еврей?издатель, с одной стороны, грозит голодом писателю, с другой стороны – еврейский критик грозит опозорить того, кто поднимет голос в защиту права русской литературы быть русской и только русской…[148 - Не менее характерны высказывания Белого в заметке «Палингенез» 1907 года: «В известном рассказе о творении мира хорошо отразился прозаический хозяйственно?сухой ум семитов. <…> Итак, перед нами лишний повод пожалеть о том неестественном развитии, какое, к несчастью, испытала душа арийского народа, когда ей ходом вещей или случаем навязано было чуждое и непонятное семитическое мировоззрение. Много можно было бы сказать об уродливых наростах, которыми, благодаря его воздействию, покрылась нравственная сторона европейской личности». (см. статью Илоны Светликовой НЛО, №5, 2008)]
Философ Аарон Штейнберг так передает в своих мемуарах обращенные к нему слова Блока: «Знаете, Аарон Захарович, должен вам признаться, что я был сам некоторое время близок к юдофобству, особенно во время процесса Бейлиса». Юдофобство Блока никуда не делось. Приведу цитату из его дневника от 27 июля 1917 года:
История идёт, что?то творится; а ЖИДКИ – ЖИДКАМИ: упористо и смело, неустанно нюхая воздух, они приспосабливаются, чтобы НЕ творить (т. е., так как – сами лишены творчества; творчество, вот, грех для еврея), и я хорошо понимаю людей, по образу которых сам никогда не сумею и не захочу поступить и которые поступают так: слыша за спиной эти неотступные дробные шажки (и запах чесноку) – обернуться, размахнуться и ДАТЬ В ЗУБЫ …Господи, когда, наконец, я отвыкну от жидовского языка и обрету вновь свой русский язык…
Розанов «в вечер Бейлиса» (после вынесения тому оправдательного приговора) записал телефонный разговор, где выразил похожее желание дать жиду в зубы:
– Звонит председатель русского студенческого кружка.
– Здравствуйте, очень рад.
– Мы решили обратиться к вам… пожалуйста извините за беспокойство… Как вы думаете: нужно же реагировать как?нибудь на решение киевского суда?! Что же, неужели забыть мальчика Ющинского?!..
– Первым делом отслужить панихиду по нем в Казанском соборе. Если бы не согласился местный священник, следует обратиться к свящ. Будкевичу.
– Да, мы уже говорили с ним. Но что же еще? Неужели не реагировать?
– И, идя по Невскому, – дать по морде какому-нибудь еврею, сказав: это вам в память Ющинского…
Шум, хохот. Положили трубку. Догадываюсь, что евреи и насмешка…
Утешение, что все?таки я им сказал в лицо настоящее чувство[149 - В. Розанов, «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (1913).].
Отметим еще уверенность Блока в неспособности евреев к творчеству (ее разделял и Розанов), которое было характерно еще для античных авторов, а в новейшее время эта идея активно развивалась композитором Вагнером[150 - «в нашем искусстве еврей может только повторять, подражать, но создавать изящные произведения, творить – он не в состоянии». (Р. Вагнер, «Еврейство в музыке»)], а затем и нацистами. Есть распространенное мнение интеллектуалов от юдофобии, что евреи – жуткие рационалисты и ничего не понимают в природе, она им чужда, и у них атрофировано «чувство красоты». А их неспособность «наслаждаться природой» и обожествлять ее, как полагали многие, особенно романтики, делает их творчески бесплодными.
В этом утверждении есть «доля истины». Если под «природой» понимать пейзажи, пространство, то между ней и культурой памяти, Еврей выбирает культуру, а Язычник – природу[151 - Моше Гесс пишет («Рим и Иерусалим»): «До выхода германских народов на авансцену истории имелись только два культа: культ природы и культ истории. Первый нашел свое классическое выражение в Греции, второй в Иудее».]. И «красота» для античного грека – в формах пространства и вещей в пространстве, в их пропорциях и симметриях, а царица наук для него – геометрия. «Не знающий геометрии сюда не входи», – было начертано на дверях академии Платона. Платон, как пишет Глеб Смирнов в книге «Палладио», ни на секунду не сомневался, что Бог является геометром. И считал сферу – фигурой Бога. В еврейской же метафизике вообще нет понятия красоты. Место языческого «наслаждения природой» у евреев занимает благоговение, или «священный трепет» перед Господом и его Творением. Так что «этническая» линия раздела действительно порой совпадает с границей между «культурой пространства» и «культурой времени» (или «культурой памяти»), язычеством и монотеизмом, что подтверждает мнение, что европейцы, несмотря на 20 веков христианства, остались во многом язычниками.
Блок, как мы видим, разделял эти представления о неспособности евреев к творчеству. Но поскольку великий русский поэт восхищался великим немецким поэтом еврейского происхождения Генрихом Гейне и находился под его сильным влиянием, то ему пришлось объяснять самому себе этот парадокс любви к иудею. В этом плане любопытна его заметка «О иудаизме Гейне», где он утверждает, что Гейне иудаизму изменил, о чем свидетельствуют, по мнению Блока, три факта:
1) Факт крещения. Такие поступки величайшей внутренней важности не совершаются людьми, подобными Гейне, из одной коммерческой выгоды; люди, подобные Гейне, не поступают как первый попавшийся еврейский спекулянт. <…> 2) Вторая измена Гейне иудаизму заключалась в двойственности религиозного сознания. Да, Гейне – иудей; его пламенный рационализм не подлежит сомнению; но Гейне – и христианин, и иногда он христианин больше, чем многие арийцы… Мало того, Гейне – и эллин иногда, и его античные прозрения глубже, чем у людей его времени <…> в нем сочетались противоречия, свидетельствующие о непомерном избытке жизненной силы; отсюда – и его измены. 3) Третья измена Гейне иудаизму… это – чувство природы. Когда Браудо спорил с Жирмунским, что Гейне не мог не чувствовать природы, у меня была потребность доказывать, что он ее не чувствовал. Когда Волынский доказывает, что Гейне, как иудей, не чувствовал природы, у меня противоположная потребность – доказывать, что он ее чувствовал. Это происходит от того, что Гейне и тут противоречив до крайности, совмещает в себе, казалось бы, несовместимое. <…> в «Путевых картинах» есть намеки, указывающие на то, что Гейне был почти способен переселяться и в романтическое чувствование природы. <…> по глубочайшему замечанию Волынского, евреи не чувствуют природы как natura naturata; да, это так. Но Гейне есть величайшее исключение, подтверждающее это правило.
Этой заметкой Блок вмешался в спор двух евреев о третьем, Жирмунского и Волынского о Гейне. При этом он не только восхваляет «измену» Гейне иудаизму, но и оправдывает измену вообще.
Измена не есть перемена убеждений или образа мыслей: она есть глубочайший акт, совершающийся в человеке, акт религиозного значения.
Таким же оправданием ухода от «своих» занимался в период своего активного отталкивания от еврейства и Мандельштам:
Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть![152 - «О свободе небывалой…» (1915) «О свободе небывалой…» (1915).]
Любопытно, что, отталкиваясь от еврейства, поэт сознает себя «брошенным в пространстве» и «обреченным умереть»…