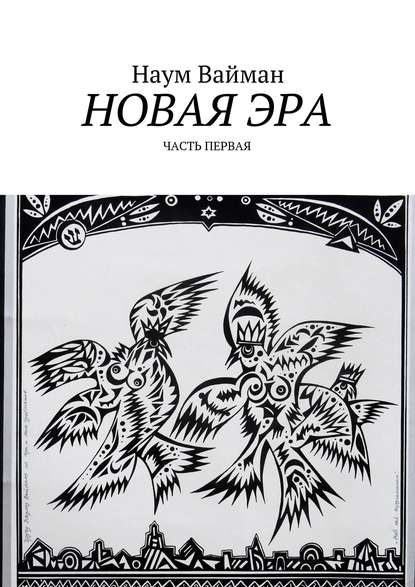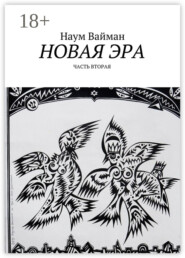По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Новая эра. Часть первая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
От Ф:
Можно встретиться в воскресенье утром, часов в 9. Целую
5.2. О похудении: «Милочка, в вашем возрасте приходится выбирать между лицом и фигурой».
В «Окнах» – ответы некоторых литературных авторитетов (по выбору Гольдштейна) на заданную тему: лучшие писатели и книги столетия. В результате – джентльменский набор: Мандельштам, Ходасевич, Набоков, «Петербург» Белого, «Сестра моя жизнь» Пастернака. Бараш соригинальничал (Гольдштейн и его причислил к авторитетам, чтоб не обижался), назвал «наиболее дорогой» ему книгой в русской литературе «Тридцатую любовь Марины» Сорокина. А еще «авторитеты» дружно любят Добычина. Гандлевский употребил слово «гемютный». Шо це таке? Запросил русскую Паутину, а она мне ответила: «Тут-то не гемютный жупелок, жвалы обломаются».
6.2. Свидания с Ф сокращаются, всего час заняло. Сгораю от возбуждения. Просто сгораю, куда там три раза, и второй-то представить себе не могу…
… – Вряд ли я еще встречу такого дорогого мне человека, как ты… Это чудо, что ты мне встретился… Мне кажется, что если бы я была мужчиной, я была бы на тебя похожа…
– В каком смысле?
– Ну.., ты как бы моя мужская половина, ты воплощаешь все те качества… силу, ум, мужественность…
7.2. От Ф: Дорогой, у меня дома пока нет интернета, буду стараться писать с работы. Хорошо мне с тобой, до сих пор чувствую тебя рядом
Целую
8.2. Обычная болтовня Р после того как:
… – Ни в коем случае не худей, этот животик я обожаю.., много там не ходи по Флоренции, и хорошо кушай, пицы, спагетти… А можно я твои трусы одену?
Одела на голову. Вроде чепчика. Смеется
… – А со мной знаешь что было…, нет, ты будешь смеяться…, нет, мне стыдно…, только не вздумай это описать в своих этих, ха-ха-ха, обещаешь? Я в тот раз пришла домой, зашла в ванну, стала себя обнюхивать, и не чувствую твоего запаха! Тогда я прокладку сняла и стала ее нюхать. … У тебя черепушка, как лампочка! Самая красивая черепушка на свете! … Ты мне (загибает мои пальцы правой руки, левой веду машину) дорог, люб, близок, я тебя обожаю… что еще? Ну что еще, скажи?
Подарила мне маленькую костяную рыбку, которую в Тайланде купила.
Вышли к морю. Холодный ветер. «Ой, из меня потекло! Нет, не отдам!» Встала, скрестив ноги. Смеется.
Глаза у нее светлые-светлые. И вообще она мне иногда кажется девчонкой… А вчера, поцеловал, и вдруг пахнул в лицо ветер юности, то ли вспомнил что чувствовал тогда (с кем?), то ли что мечтал почувствовать?…
Принес почитать книжку стихов Вадика
– Нет, больше не читай, это просто убожество.
От Л:
знаешь, со мной такого никогда раньше не было, во всяком случае не помню, чтобы было… вдруг ничего не хочется, никаких желаний…
а было так: приснилось мне, будто мы на корабле, молодые, как в Друскениках, на верхней палубе, внизу океан свинцовый, сверху небо в тучах и когда ты входишь в меня, мы взлетаем и торчим там, между небом и землей и слышим божественной красоты музыку… а потом я брожу по каким-то каютам и ищу тебя долго и глухонемею… потом ты меня находишь в какой-то темной каюте (только редкие лучики света пробиваются через жалюзи) и говоришь-говоришь, а я не слушаю и сказать ничего не могу… и никакой музыки… и просыпаюсь вот в таком состоянии полной апатии и никак не выхожу из этого… вот написала и чуть отлегло, но…
Эй, подруга, ты это брось. К черту апатию. А вообще кончать надо эти игрища в дневники. Я же пошутил, понимаешь? Может, просто позлить тебя хотел, перестарался, кажись…
9.2. Креститель у Матфея – ярый, сокрушительной воли проповедник
«Змеиное отродье! Кто внушил вам мысль, что избегните возмездия? Только не вздумайте говорить в душе: „Наш отец – Авраам“! Уже лежит наготове топор у кормля дерев: дерево, не приносящее добрых плодов, срубают и бросают в огонь. Я омываю вас водой в знак покаяния, но Тот, кто идет за мной, омоет вас Духом Божьим и огнем. Он провеет зерно на току: пшеницу соберет в закрома, а мякину сожжет в огне неугасимом».
И не про любовь тут сказ, а про огонь для неверных.
Вдруг ясно вспомнил скрипачку, ее смущенную улыбку, ласковый взгляд, и опять защемило. А я даже не попытался достать ее телефон…
10.2. От Л:
а помнишь, как ты порезался, когда лысину брил и приехал с кровавой лысиной? я когда в записках дошла до эпизода в «Бернард Шоу», где ты «счастлив», а она тебе говорит какая у тебя самая красивая лысина в мире, меня такой смех разобрал, что я даже прослезилась…
Ф молчит, не пишет…
Матвей – Науму
По правде говоря, силы мои на исходе (а вера в то, что возможно хоть какое-то понимание, почти полностью иссякла, и я проговорю некоторые мысли просто по инерции, из уважения к количеству исписанных ранее страниц).
Классический Ритуал, инвариантную формулу которого вывел В. Н. Топоров, нацелен на восстановление пошатнувшегося порядка, он «подражает» теогоническому процессу. Его участнику кажется, что, воспроизводя «первоначальные» действия Демиурга, он «помогает» восстановить порядок мироздания, как-то: помогает солнцу – взойти, весне – наступить в положенное время и т. п. Исходя из нашего сегодняшнего «здравого смысла», он занимается ерундой: мы-то знаем, что солнце взойдет независимо от телодвижений раскрашенных дикарей. Однако у ритуала есть другая сторона, скрытая от сознания его участника. В процессе исполнения ритуала переживаются определенные психологические фазы: отождествление себя с «вредителем», борьба с ним, смерть и воскресение. Иными словами, участник ритуала испытывает катартическое переживание. Но сам-то он об этом не подозревает! Его сознание обращено на «внешние» объекты, а не на структуру внутреннего переживания. Обнаруживается фундаментальное различие между тем, что на самом деле имеет значение для выживания (спасение посредством психологического механизма снятия индивидуации), и тем, как понимается (осознается) смысл происходящего его участником («духовно-материальное» воздействие на внешние по отношению к индивиду силы). Ритуал двойственен (двуедин), причем принципиально: это так и должно быть, что его участник не осознает, что «на самом деле» имеет решающее значение. Никто не скажет: пойду-ка я на сеанс сотериологии, сниму накопившуюся индивидуацию. (Этого не мог сказать дикарь, но также не скажет этого и сегодняшний рафинированный посетитель театра: внутренняя, психологическая сторона архетипа является действенной, пока она остается неосознанной). На исходе фазы сотериологического синкретизма двуединый ритуал естественным образом распадается на две составляющих. Та его сторона, которая «отвечает» за «внутреннее переживание», превращается в культурный (т.е. игровой, «рампированный») феномен, который отметает объекты внешней направленности – и, соответственно, ВЕРУ в них. Участник культурного действа вообще не объясняет себе, чем он занимается, он просто испытывает удовлетворение (когда же пытливый ум все же подыскивает «объяснения» типа «воспитательного», «познавательного», «гедонистического», они только затемняют суть происходящего, вплоть до разрушения самого эстетического феномена). Если бы даже и было найдено «правильное» объяснение (твой покорный слуга считает, например, что «ухватил-таки Бога за яйца»), оно ничего бы не добавило к эстетическому переживанию, а вот убавить могло бы… Как видишь, у этого (культурного) продукта распада былого ритуального единства нет ничего общего с ВЕРОЙ! Можно «верить» или не «верить» в ту или иную интерпретацию (теорию) данного феномена, но ведь совершенно ясно, что слово «вера» употребляется здесь метафорически; здесь как раз нет места вере, здесь идет соревнование рациональных аргументов, гипотез, идей, то есть идет нормальный познавательный (чтобы не сказать «научный») процесс, противоположный тому, что в точном смысле слова называют ВЕРОЙ. Такая ВЕРА полностью отошла ко второму продукту распада ритуального синкретического единства – к религии. Религия контрсубъективна: она должна убедить своего адепта, что в ее таинствах важно не внутреннее переживание, а буквальное участие в нем потусторонних (трансцендентных) внешних сил. Религия требует ВЕРЫ в них, и в этом отношении ты совершенно прав, говоря, что «верить приходится в то, чего нет». И адепт веры прекрасно осознает, что он не ваньку валяет, не «оттягивается», а именно спасается (чего не должен сознавать участник культурного действа). Итак, противоположность между религией и культурой, между ВЕРОЙ и «эстетическим удовлетворением» (это слово больше подходит, чем «удовольствие») так велика, как только может быть велика противоположность между взаимоисключающими крайностями, и ты по обыкновению превращаешь все во вселенскую смазь и разрушаешь весь смысл того, что мы, как мне казалось (наивный человек!), достигли, когда называешь культурные архетипы предметом ВЕРЫ. Я не говорю уже об «эзотеричности» фразы «вера – это психологический механизм выживания, а не сотериологический». Как будто сотериология может действовать как-то иначе, нежели через тот или иной психологический механизм. Весь вопрос в том, что это за механизм; как я пытался показать, в случае культуры и в случае религии действуют совершенно разные, можно сказать, противоположные, сотериологические (и, соответственно, психологические) механизмы.
Если согласиться, что ритуал по природе «двуедин», т.е. обладает разнонаправленными потенциями, то я не понимаю, что мешает выдвинуть такое предположение: «жреческий» потенциал используется преимущественно для обеспечения «мирного течения жизни», а «магический» – в экстремальных ситуациях. Жрец следит, чтобы утром солнце встало и за зимой пришла весна, а Маг ловит человека на пределе его сил, «в минуту жизни трудную». Если не убеждают «примеры из жизни», так вот тебе образчик объективного этнографического наблюдения. Цитирую Малиновского: «представим себе те обстоятельства, в которых мы встречаем магию. Человек, занимающийся разного рода практической деятельностью, попадает в тупиковую ситуацию… Знания отказали, прошлый опыт и технические навыки не помогают – человек чувствует себя беспомощным… Его организм воспроизводит действия, которые предполагает осуществленная надежда… Они (действия) порождают то, что можно назвать распространением эмоции во вне через выражение ее в слове и действии, которыми человек как бы инсценирует желаемое событие. Однако во всем этом взрыве психической активности главенствующее место занимает образ цели и т.п.» (с. 79—80) Думаю, что поведение дикаря, попавшего «в тупиковую ситуацию», не слишком сильно отличается от соответствующего поведения цивилизованного человека «типа я». Я не знаю ни одной эпохи в истории, которая обходилась бы без магии, и, естественно, признаю это. Всегда «магически предрасположенные» люди находили повод ждать конца света и практиковали магию – и всегда, тем не менее, находились жреческие силы, поддерживавшие стабильность; не бывает «только мирного» и «только эсхатологического» времени, любое время амбивалентно, хотя и склоняется, в большей или меньшей степени, «в сторону Жреца» или «в сторону Мага». Одним снится покой, а другим конец света и Конь Блед и Сидящий на нем, и имя ему Смерть. Жизнь, тем не менее, продолжается, но поскольку человечество не вечно, у Мага есть неисчерпаемый (до действительного конца света) ресурс воспроизводства, тут ты прав.
На этом кончаю, дабы успеть пожелать, чтобы задумка оттянуться в Италии по полной культурной программе осуществилась на все сто.
Всегда твой
Матвей
Надеюсь, по возвращении поделишься впечатлениями.
11.2. Милан встретил морозцем. Во Флоренцию отправились поездом, вагон качало, дремал (в самолете спать не могу), за окном, как в фильмах Ангелопулоса, жемчужная пасмурность полей с силуэтами кипарисов, зачуханные предместья с карими пятнами домов – люблю эти застенчивые краски средиземноморской зимы. Внезапно, как в ад, проваливались в долгие, грохочущие туннели.
Старый дом на улице Кавура, гостиница на втором этаже, лифт маленький, дребезжит, портье – негр. «Мистер Касим (хозяин) будет завтра утром». Комната большая, с балкона вид на внутренний двор, за крышами – купол Собора и Компанила Джотто (жена принялась радостно ахать), но в углу двора что-то ремонтируют, отбойный молоток стучит, пыль, и ванной нет, душ неогороженный…
Когда вышли погулять, уже смеркалось. До соборной площади два шага, Дуомо в сумраке кажется малахитовым – сказочный корабль, зашедший в тесную старую гавань, дух захватывает при виде этой ажурной мраморной громады, и вдруг тревоги уходят, душа как бы разглаживается, вздымается грудь в глубочайшем вздохе, и на лице – улыбка, будто любимая поцеловала.
На обратном пути обратил внимание на дворец напротив гостиницы, массивный, строгий, с нависшей крышей – палаццо Медичи-Риккарди. Зашли, никого, тусклые лампочки, потоптались, нашли захудалую кассу, открыто, пожалуйста, только платите денежки за наши сокровища. Большой внутренний двор, на Востоке тоже так строят, всегда есть внутренний двор, так что каждый палаццо – он же и крепость, поднялись по лестнице и вдруг – маленькая комната, дворцовая молельня, то биш капелла, и вся расписана «Поклонением волхвов» Гоццоли.
Фреска – это, доложу я вам, не картина. У нее нет рамок. Нет вот этой самой рампы. Ты как бы перешагиваешь границу, как в фильме Вуди Аллена «Пурпурная роза Каира», и – вступаешь в сказочное действо…
12.2. В семь утра – звон колоколов. Ласковый, далекий. Завтрак: булочки с маслом и вареньем, и кофе. Мистер Касим чуть ли не бросился обниматься – семита встретил. Сам из Сомали, Абу-Бакр его фамилиё, кончал какой-то университет в Италии, лет под пятьдесят. Понравилось ему, что я знаю, что значит для мусульманина Абу-Бакр[10 - первый из четырех праведных халифов]. Чирикал с женой о жизни, о себе: сколько детей, сколько внуков, кто куда улетел из гнезда. Посоветовал, где стоит местной кухни отведать.
На улице морозно и пасмурно, мокрые мостовые, город еще пуст. Суббота. Пошли к реке. По дороге наткнулись на грубоватую флорентийскую готику Орсанмикеле, зашли в пустой, холодный собор. Рассеянный свет витражей и томная белизна затейливого киота и мраморной св. Анны, полустертые, погибшие фрески. Напротив церкви музей. Поднялись наверх, в огромном зале трехметровые фигуры апостолов Донателло, которых из церкви повыковыривали, там они, якобы, портились. Все апостолы из потускневшего белого мрамора: работящий, с широченными ладонями Матфей, хмурый Петр, а Креститель – медный, черный, мерцающий. Такой руку поднимет, огнем из глаз полыхнет – поползешь за ним, целуя рубища и избитые пальцы на ногах. А они длинные, тонкие, аристократические! Даже у Иисуса пальцы на ногах не такие породистые, чересчур, пожалуй, крепкие, чересчур правильных пропорций…
Взгляд фиксирует все впопыхах, спеша разглядеть, жадно шарит, заглатывая ненасытно, взахлеб: в мешок памяти накидать, а потом, дома, спокойненько осознать, и щелкаешь, щелкаешь фотиком. А вечером записываешь телеграфным стилем…
На площади Сеньерии уже много туристов, в основном япошки. После коллекции дворца Медичи зашли еще в Уфицци – очередь была маленькой – таскались по душным залам, в результате зарябило в глазах от всей этой роскоши: ее тут до жути, до тошноты…
Вечером – Баптистерий, золотые, как в венецианском Сен-Марко, мозаики на необъятном куполе, все – чудо, гимн. Сам Дуомо – шкатулка из слоновой кости воздушной резьбы, в сумраке вечера – зеленый мох и водоросли на дне прозрачного потока… Флоренция гуляет. Народ франтоватый.
13.2. Сен-Марко. Келья Саванаролы. Его портрет Бартоломео. Омерзительно кривой нос, да еще замкнут снизу выдвинутым подбородком. Не профиль, а гильотина. Окно кельи, и без того узкое, заколочено…
Вечером, в безлюдном монастыре св. Магдалины Патти (падшей) – фреска Перуджино «Распятие». Старушка у входа, длинные коридоры, в нишах мертвецы, лестницы, полутемень, Риммка испугалась, схватилась за рукав. И вдруг поднялись в большую комнату, где стена, как окно в голубые дали. Вот уж в самом деле улетно…