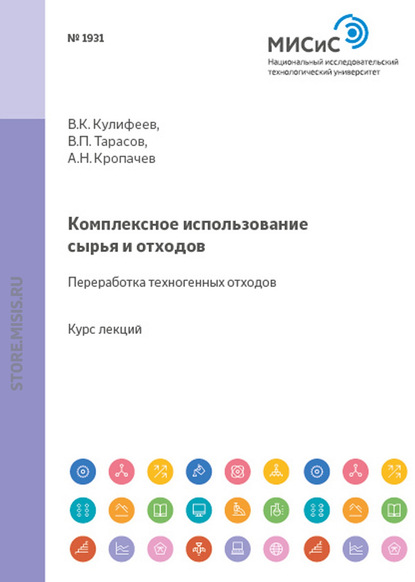По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вот оно, счастье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот оно, счастье
Найлл Уильямз
1957 год. В деревеньке Фаха в графстве Клэр, где ничто не менялось тысячу лет, грядут перемены. Во-первых, прекратился дождь. Никто не помнит, когда он начался: вечный дождь на западном побережье Ирландии – норма жизни. Но вот местный священник Отец Коффи возвещает приход электричества, и тучи, кажется, рассеиваются. Семнадцатилетний Ноэл Кроу проводит лето в Фахе у дедушки с бабушкой, и тут вместе с вестниками грядущего – электриками – появляется загадочный Кристи и приносит с собой громадную вселенную прошлого и тайн, которым предстоит раскрыться, а заодно много-много живой ирландской музыки.
Найлл Уильямз владеет техникой голографического письма, когда целый космос умещается в песчинку и этой же песчинкой выражается. В каждой фразе романа – макрокосм ирландской деревни, которая и есть вселенная, куда вотвот протянутся электрические провода. «Вот оно, счастье» – забавный, наблюдательный, иногда смешной и неизменно трогательный оммаж безмятежности, которую можно попробовать создать заново. Это роман о взрослении – и отдельных людей, и самого времени как такового. И, конечно, это роман о силе и власти людских историй.
Найлл Уильямз
Вот оно, счастье
Памяти П. Дж. Брауна (1956–2018)
Бури, которые нам пришлось пережить, – это знак того, что скоро настанет тишина и дела наши пойдут на лад. Горе так же недолговечно, как и радость, следственно, когда полоса невзгод тянется слишком долго, это значит, что радость близка.
Мигель де Сервантес, Дон Кихот[1 - Пер. Н. Любимова.]
Niall Williams
This Is Happiness
Copyright © 2019 by Niall Williams
© Шаши Мартынова, перевод, 2021
© “Фантом Пресс”, издание, 2022
1
Дождь прекратился.
2
Никому в Фа?хе[2 - Скорее всего, от ирл. fatha – лужайка, поле. – Здесь и далее примеч. перев.] и не упомнить, когда он начался. Дождь здесь, на западном побережье, – условие жизни. Он лупил отвесно и сбоку, с левой руки и с правой, а также и со всех прочих рук, какие только мог удумать Господь. Налетал шквалами, волнами, иногда пеленами. Показывал себя в обличье мороси, бусенца, дымки, ливня, частого и редкого, волглым туманом, влажным днем, капелью, мокрядью, а также разверзшимися хлябями небесными. Приходил в день погожий, солнечный и обещавший быть сухим. Во всякое время дня и ночи заявлялся он, во всякое время года, невзирая на календарь и прогноз, пока одежда ваша в Фахе не превращалась в дождь, и кожа у вас – дождь, и дом – дождь с очагом. Дождь возникал из серого простора Атлантики, бросался на сушу, словно любовник, прежде отринутый и исполненный решимости более таковым не быть. Налетал вместе с чайками и запахами соли и водорослей. Налетал с холодным ветром и занавешенным светом. Налетал, каре подобный, или, в безобидном изводе, подобный благословенью, о даре коего Господь позабыл. Дождь приходил за платочком синего неба, верхом на вестах, иногда – чего б и нет? – на остах, в тучах, что ломали себе спины на горах в Керри и падали на Клэр, творя грязь из земли, ослепляя воздух. Под личиной града и ледяной крупы приходил он, но как снег – никогда. Являлся он иногда тихонько, иногда нежно, и копья его превращались в поцелуи, таким дождем, какой делает вид, что и не дождь он вовсе, какой нисходит, чтоб стать поближе к полям, чью зелень любит он и пестует – пока не утопит.
Все это в подтверждение одной-единственной истины: в Фахе шел дождь.
Но теперь он прекратился.
Нельзя сказать, что в Фахе заметили. Во-первых, потому, что произошло это в начале четвертого в Страстную среду, и весь приход размещался, как бочковая сельдь, в Мужском, Женском и Длинном приделах тонущей церкви, все еще именовавшейся в ту пору в честь святой Цецелии. Во-вторых, когда прихожане выбрались наружу, умы их возвышены были латынью и страданиями Христа Спасителя, а все прочие мысли сделались потому незначительными. И в-третьих, так давно длился брак их с дождем, что они друг друга уж более не замечали.
Мне самому семьдесят восемь, и рассказываю я тут о том, что было шесть десятков лет тому назад. Понимаю, что Фаха в ту пору для обретения уроков жизни место неожиданное, но, по моему опыту, “ожидаемое” – это не из словаря Господня.
Так вот, тот мир, где двери на улицу днем никогда не закрывались, задние двери никогда не запирались, но снимались со щеколды и в них заходили по вечерам, – где ступал ты, с Божьей помощью, на выложенный каменными плитами пол в облако торфяного и табачного дыма, – тот мир исчез. И хотя кое-кто из тамошних людей – например, Майкл Доннелли, Делия Консидин, Ма?ри Эган и Марти Броган – отсрочили выезд на погост и пребывают в одиноких старых домах в глуши, в обители ревматизма, сырости и преодоления долгих вечеров, двери там прикрыты опаской и страхом ностальгии, природа которой едка. А раз уж сам я теперь тоже древен, отдаю себе отчет, что милостью творенья быстрее всего испаряются из памяти тяготы и дождь, понимаю, что между тогда и теперь, как между таинством и смыслом, есть, возможно, громадная брешь, и от мира, где живете вы, – вот от этого – тот мир, где прекратился в Фахе дождь в Страстную среду, может быть слишком далек, чересчур отодвинут во времени и нравах, и вам туда не проникнуть.
Потерпите меня сколько-то: у дедов мало привилегий, а у мысли о собственной никчемности большие аппетиты.
И сотня книг не в силах запечатлеть одну-единственную деревню. Это не напраслина – это свидетельство. Фаха – место не менее и не более приметное, чем любое другое. Если отыскали вы его, значит, направлялись куда-то еще. В стране полным-полно мест более откровенной красы. Вот и славно. Фахе дела нет. Она давно смирилась с тем, что по части самобытности и географии судьба ее в том, чтоб миновали ее проездом, а затем тихонько и полностью забывали.
На дождь, стало быть, одновременно и невероятный, и доисторический, в долине, где поля слюбились с рекой, не обращали фахане почти никакого внимания. То, что дождь когда-то начался, уже стало легендой – как станет легендой теперь и его прекращение.
Изведанный мир в ту пору не был столь четко очерченным, равно как и знание не приравнивалось к фактам. В своем роде скреплял человечество рассказ. Никак точнее объяснить я это не смогу. Повсюду повествовали. Поскольку источников, где можно было что-либо выяснить, имелось меньше, слушали больше. Некоторые все еще рассуждали о дожде, стоя у калиток под моросью, глядели в небеса, предрекали грядущее – неточно и очень лично, словно все еще владели языком птиц, ягод или воды, – и обыкновенно люди потакали им, слушали, как сказ, кивали, приговаривали: “Да неужто?” – и уходили, не поверив ни слову, а только чтоб передать рассказанное, подобно живой валюте, кому-то еще.
Церковь в то время была не тем, что сейчас – или где сейчас. Стоило ризничему Тому Джойсу перейти улицу в костюме и при жилете, взобраться по двадцати семи ступеням на колокольню и ударить в тогда еще настоящий колокол – колокол, благословленный Епископом и слышимый в семи поселках прихода, – люди разом выходили из домов, и грешники, и святые. Все дороги в деревне заполоняли велосипеды, лошади, повозки, трактора и пешеходы. Дороги в глубинке гудроном еще не заливали, а некоторые даже щебенкой не отсыпали. Та, что шла от дома моих прародителей, была грунтовая, утоптанная плотно и мягко, плотно и снова мягко, и проложили ту дорогу ноги, колеса и копыта, а посередке она выгибалась, как хребет, вдоль которого струилась жизнь поселка, бежала мимо открытых дверей, подбирая и роняя в том беге обрывки новостей, какими жило это место.
Вот так за час до Мессы возникало всевозможное столпотворение. Стоишь на пороге, смотришь на запад и видишь сплошь головы – в платках, кепках или шапках, – и плывут они над изгородями, словно воинство. В полях скотина, отупелая от дождя, вскидывала зачарованные бессмысленные свои морды, увешанные тяжкими вожжами слюны, словно питалась животина та жидким светом. Вереница людская, пешая, велосипедная и тележная, постепенно редела, цокот копыт задерживался на несколько минут дольше самих лошадей, но вот и цокот растворялся в зеленой тиши. Когда мимо в длинной комендантской шинели и джодпурах, присланных ему братом-генералом из Бирмы, проходил Сэм Крегг, часы у которого запаздывали и фактически, и метафорически, уже начиналось входное песнопение. На всех дорогах к приходу воцарялась полная тишина.
В Фахе водилось больше всякого, нежели сейчас. Лавки были мелкие, зато их имелось немало – бакалейная, мясная, скобяная, мануфактурная, аптечная и гробовая, все неумолимо отмеченные натурой владельца. За припасами ходили по крови и роду. Если в родстве состоял, хоть самую малость, с Клохасси или с Бурком – оба торговали одинаковыми чаем, мукой и сахаром, одними и теми же овощами трех видов и жестянками с непортящейся снедью, – у него покупки свои и делал. Проема дверного другому собою не затенял. Одна из привилегий житья в забытом месте – сохранять индивидуальность. В Фахе, где все срединное было далеко и почти неведомо, нормой было чудаческое.
Как заповедали им упрямство, неподатливость и традиция, мужчины рассаживались перед Мессой по двум подоконникам Прендергастова почтового отделения напротив церковных ворот, а те, кто запаздывал, удовлетворялись покатым подоконником Аптеки Гаффни. Фахский извод преторианцев, мужчины облачены были в коричневое и серое, в шляпы или кепки, но никаких дождевиков, хотя дождь уже усаживался им верхом на плечи и понуждал к уловке курения задом наперед, укрывая папиросу ладонью. Те мужчины были из мест, где от уединения характер человека делается кристально прозрачным. Сомнений в том, что церковь они посетят, не существовало никаких, однако из-за трудного отношения религии к мужскому никакого пыла не выказывали они и таили всякую тень духовного с нарочитой небрежностью и мастерством в жизненно важном искусстве помалкивать.
Люди в Фахе еще не навострились парковаться. В ту Страстную неделю оставалось еще пять лет до того, как введут экзамен на права, а сверх них еще три года до первой попытки фаханина этот экзамен сдать. Имелось в приходе всего десять автомобилей. Водители запросто прикатывались примерно туда, куда направлялись, высаживали детвору, стариков и соседей – те благословляли с Богом автомобиль, когда забирались внутрь, и благословляли с Богом водителя, когда выбирались наружу. Если, как Пат Хили, кто-то застревал со своим автомобилем посреди дороги и там, где улица с безнадежной тоской устремлялась к серому языку реки, никто не мог протиснуться ни в ту ни в другую сторону, – какая разница, они все идут в церковь, и кляты пусть будут язычники.
* * *
Как и в Ковчеге, имелся в Святой Цецелии определенный неписаный порядок, согласно которому прихожане и входили в церковь, и усаживались. Поскольку во всякую неделю появлялись одни и те же люди, а посторонние и чужеземцы были здешним людям неведомы, можно было закрыть глаза и не сомневаться: Матью Лири, первый на вход, последний на выход, согбенный в первом ряду, темечко склонено, руки сложены молитвенно, бремя грехов его непостижимо и страшно; Мик Мадиган не входил, но по неизвестным причинам стоял под дождем у церковных дверей; словно явилась она прямо этим утром из дома, какой увидишь в музее Голода, торчал маленький очень прямой столп Мари Фалси на переднем ряду Женского придела, а в самом хвосте придела Мужского муж ее Пат шмыгал носом от постоянного насморка. Известно было и то, что миссис Пендер, у кого был самый чистый дом на весь приход (ныне Шон Пендер – прах), сидит вместе с семерыми Пендерами – те болтают ногами – возле Катлин Коннор, которую, говаривали, уже трижды миропомазали, а она все никак не отчалит в Рай, пока, люди поговаривают, не узнает, что ее муж Том в другом месте; на середине придела – семейство Коттер, высший свет, за ними Муррихи, все они пошли дорогой погибели и на ней почти нигде не задерживались; обок их или довольно близко – Фури, ученый Шон, тот ради любви умрет; в сторонке целый гордый ряд (Господь благослови труды) Макинерни, еще ряд застенчивых, но при этом не менее многочисленных Моррисси, все народились в апреле через девять месяцев после сенокоса, и у каждого в характере нечто летнее. Чуть дальше по Долгому приделу слева Лидди – Бриджет и Джером, с десятью ребятишками, коротающими ночи на трех кроватях в попытке укокошить друг дружку, а днем всем своим видом это подтверждающими. Невдалеке от них уйма Кланси, чье детство на вкус что слезы. Напротив них Ласи, четыре девушки, скрывающие хромоту свою от того, что донашивают туфли, из которых повырастали, но вплоть до самого Рождества обувку никак не сменить. За девушками – Мик Бойлан, страдающий от неизлечимого недуга, имя коему Морин. В двух рядах за первым – Мона Клохасси, которую Том, когда понадобилась ему подмога в лавке, привез себе женою с какой-то преуспевающей фермы на севере. Том не дурак. Мона могла б игрушки в Китай продавать. За Моной – Мина-безделка. Дальше Коллинзы, Кинги, Девитты, Давитты и Дули, Джонни Мак, наделенный уродством, неотразимым для всех Хегарти, Томас Динин, отменный скрипач, да и более того, Динины – это вообще мистика, музыкальное семейство, всяк из них способен был взять любой инструмент и извлечь из него мелодию.
Посередке далее, не слишком близко ни к святым в первых рядах, ни к грешникам на задах, – доктор Трой и три его дочери-лебедушки, с виду такие, что казалось, будто не вошли они в двери, а прилетели из другого измерения, где к красоте люди поближе, чем в Фахе. Возможно, благодаря дальним кровям, облачению, манерам или мистической нумерологии, где тройка – число божественное, одного присутствия этих трех хватало, чтоб возникали сами собою волны беспокойства. Влечение непрозрачно и загадочно, как луковица, но справедливо будет сказать, что в приходе Фаха красота этих девушек порождала мученье, перед которым не я один был беззащитен.
Больше о сестрах Трой ничего тут не скажу, вы вскоре с ними познакомитесь, но рад отметить, что даже теперь при их упоминании сердце в моей древней груди трепещет по-прежнему.
Женский придел вообразить удается труднее. Но смиритесь со мною. Тогда как мужчины все без шляп, женщины все сплошь с головами покрытыми – напоминанием, быть может, о Вирсавии. Для некоторых женщин правило о покрытой голове – повод модничать, особенно для миссис Секстон, обзаведшейся целой коллекцией несусветных шляп, одна из них – некая экзотическая чудо-страна с холмом искусственных цветов, что высились Ост-Индией над хозяйкой шляпы, а венчала холм колибри, и когда отправлялась миссис Секстон к алтарной ограде, все это требовало значительного мастерства равновесия.
* * *
Кто-то сказал, что религия в Ирландии задержалась дольше, потому что мы народ с воображением и живо представляем себе картины адского пламени. Так оно, вероятно, и есть. Но вопреки всему, что со временем обнаружится и потребует внесения в церковные хроники, религия была тогда частью мирового порядка, и в церемониях и ритуалах ее имелось свое очарование. В ту Страстную неделю Святая Цецелия оделась цветами. Лица четырехфутовых более-менее подходящих друг другу статуй святых Петра и Павла, а также скрытого капюшоном святого Сенана[3 - Святой Сенан (IV в.) – выдающийся мунстерский святой, миссионер, основатель множества монастырей по всему острову, один из Двенадцати апостолов Ирландии.] и статуи, поименованной святой Цецелией, покрасили к Пасхе, сколы заделали. Замечательная мастерица концертины миссис Риди отставила джиги и рилы, хмурилась и с суровой серьезностью играла на органе.
Курат Отец Коффи был в ту пору юн и по призванию влюблен в свой новый приход. Бледный и тощий, как гостия, он питал навязчивую страсть к “Мечу Уилкинсона”[4 - Wilkinson Sword (с 1772) – британская торговая марка бритв.] и сбривал с себя все до кровеносных сосудов. Имел вид начинающего святого и остекленелый взгляд человека, борющегося с собственной кровью. Но жил он тогда в неприкосновенной уединенности священства, а потому никто в Фахе никогда не сомневался в его благополучии, да и не задумывался о нем. В возвышенном пурпуре Пасхи в тот день располагался он на алтаре один. ПС[5 - Приходской священник.] Отец Том, когда сменил дьявола, в ту пору именовавшегося каноником Салли, – человек, в приходе обожаемый. Он выслушивал покаяния каждой души сорок лет кряду, и отпущение грехов его утомило. От накопленных в нутре у себя прегрешений паствы страдал он очередной грудной инфекцией.
Отдадим молодому Отцу Коффи должное: этот человек прослужит в приходе пятьдесят один год, вопреки привычной картине мира добра содеет больше, чем причитается одному человеку, дважды откажется от перевода в другое место, молча выстрадает наказания, какие нашлют на него из Дворца[6 - Имеется в виду дворец епископа.], ради верности Фахе, где в позднейшие годы, не ушедшего на покой много после соответствующего возраста – пучки белой проволоки из ушей, четыре души на ежедневной Мессе, какую он служил в одних носках, поскольку при двух-то невромах Мортона ботинки мучительны, – его столько раз обворуют, что он начнет оставлять ключ во входной двери своего приходского домика, немного монет и еды на столе, пока не умыкнут и стол.
В ту Страстную среду Отец Коффи, спиною к пастве, закрыл глаза и возвел подбородок горе. Из недр горла своего выдал вверх жалобное “Те Деум”[7 - Te Deum laudamus (лат., “Тебя, Бога, хвалим”) – христианский гимн, предположительно IV в.], еще не ведая, что в тот самый миг небеса над ним расчистились.
3
В тот день в Святой Цецелии я не присутствовал. Мне было семнадцать. Я приехал из Дублина поездом, не то чтобы в немилости – мои прародители Суся и Дуна были слишком своенравными и ушлыми для такого, – но уж точно от милости вдалеке, если милость есть условие беззаботного житья на земле.
Каким был я в ту пору, описать непросто, Кроувость во мне проявлялась по большей части в противоречии самому себе, натура моя – неравномерное нечто, колебавшееся между косностью и поспешностью, покоем и прыжком. Одним таким прыжком я очутился в щетинистой школе-пансионе в Типперэри. Другой забросил меня в тернистую суровость семинарии, а третий – прочь оттуда, когда я проснулся как-то раз посреди ночи от страха, какой не смог поименовать, но позднее счел страхом никогда, вероятно, не узнать, каково это – прожить сполна жизнь человеческую.
Что я об этом тогда думал, точно не скажу, но мне хватило здравого смысла понять, что чего-то недостает и что этого недостатка следует опасаться. Если правда то, что каждый из нас рожден с естественной любовью к миру, детство мое и образование искореняли ее. Я слишком боялся этого мира, чтобы его любить.
Оказалось, что войти в лоно церкви куда проще, чем покинуть его. Отец Уолш был моим духовным наставником. От природы у него были розовые младенческие губки, но кровь ледяная, как у окружного коронера. Чтобы семинаристы сохраняли целеустремленность, сам он поднаторел в уловках, маневрах и лукавстве. Его волнистые волосы, укрощенные студенистой помадой, были угольно-черны, кожа никогда не видела солнца. В комнате, отягощенной мебелью красного дерева, излюбленной среди людей религиозных, когда я сообщил ему, что ухожу, первой он применил тактику безмолвствования. Сложил длинные пальцы домиком – словно церквушка распадалась и ее нужно было стянуть воедино. Не сводил с меня глаз. Молча перебрал доводы, губки сжались, очки блеснули, и вот он пришел к удовлетворительному заключению. Кивнул, словно соглашаясь со старшим адвокатом. Затем объяснил мне, что на самом деле я не ухожу, что он будет считать меня в увольнительной, во временном затворе. В жизнях святых было много таких случаев. Он не сомневался, по его словам, что я, увидев, как оно “там”, вернусь еще более приверженным. Встал, прижал кончик языка губами, протянул мне свою холодную руку и экземпляр Августиновой “Исповеди”.
– Господь с тобой.
Я тогда жил в глубочайшем одиночестве. Не знаю точно, почему и как случается, что человек оказывается на обочине жизни, но именно там я и был. Целиком противоположен уверенности в себе. Никакой точки опоры не находил я себе на земле и никак не видел, куда бы приткнуться.
Вернулся из семинарии домой в Дублин – сплошной оголенный нерв и смятение. Отец мой, сознательно бунтуя против собственной крови Кроу, во всем был очень тщателен. Немногословен; короткие густые брови – черточки Морзе, из-за которых вид отец имел непроницаемый. Отцы наши – тайна, какую постигаешь всю свою жизнь. После смерти моей матери он взял положенные три дня отгулов, общепринято отгоревал, а затем вернулся в излюбленное свое чистилище – Министерство, где легионы мужчин в серых костюмах деловито изобретали Государство по образу и подобию своему. В те времена такова была расхожая глупость – считать собственного отца недосягаемым. Я не пытался дотянуться до него еще двадцать лет, вплоть до того года, когда он взялся помирать, – тогда-то я впервые в жизни и назвал его по имени. Теперь я старше, чем он был, когда умер, и ценю то, чего, предполагаю, стоило ему оставаться в живых. Это не очень-то ухватишь, сдается мне, – пока не проснешься стариком или старухой и не придется пробираться дальше. В наше время мы отцами своими проникались недостаточно. Как сейчас – не знаю. Проникаюсь им и произношу его имя, Джек, теперь, когда он умер, – такая вот блажь, какую старики себе позволяют. На пользу ли ему это, мне неведомо. Мне же самому иногда немножко помогает.
* * *
Найлл Уильямз
1957 год. В деревеньке Фаха в графстве Клэр, где ничто не менялось тысячу лет, грядут перемены. Во-первых, прекратился дождь. Никто не помнит, когда он начался: вечный дождь на западном побережье Ирландии – норма жизни. Но вот местный священник Отец Коффи возвещает приход электричества, и тучи, кажется, рассеиваются. Семнадцатилетний Ноэл Кроу проводит лето в Фахе у дедушки с бабушкой, и тут вместе с вестниками грядущего – электриками – появляется загадочный Кристи и приносит с собой громадную вселенную прошлого и тайн, которым предстоит раскрыться, а заодно много-много живой ирландской музыки.
Найлл Уильямз владеет техникой голографического письма, когда целый космос умещается в песчинку и этой же песчинкой выражается. В каждой фразе романа – макрокосм ирландской деревни, которая и есть вселенная, куда вотвот протянутся электрические провода. «Вот оно, счастье» – забавный, наблюдательный, иногда смешной и неизменно трогательный оммаж безмятежности, которую можно попробовать создать заново. Это роман о взрослении – и отдельных людей, и самого времени как такового. И, конечно, это роман о силе и власти людских историй.
Найлл Уильямз
Вот оно, счастье
Памяти П. Дж. Брауна (1956–2018)
Бури, которые нам пришлось пережить, – это знак того, что скоро настанет тишина и дела наши пойдут на лад. Горе так же недолговечно, как и радость, следственно, когда полоса невзгод тянется слишком долго, это значит, что радость близка.
Мигель де Сервантес, Дон Кихот[1 - Пер. Н. Любимова.]
Niall Williams
This Is Happiness
Copyright © 2019 by Niall Williams
© Шаши Мартынова, перевод, 2021
© “Фантом Пресс”, издание, 2022
1
Дождь прекратился.
2
Никому в Фа?хе[2 - Скорее всего, от ирл. fatha – лужайка, поле. – Здесь и далее примеч. перев.] и не упомнить, когда он начался. Дождь здесь, на западном побережье, – условие жизни. Он лупил отвесно и сбоку, с левой руки и с правой, а также и со всех прочих рук, какие только мог удумать Господь. Налетал шквалами, волнами, иногда пеленами. Показывал себя в обличье мороси, бусенца, дымки, ливня, частого и редкого, волглым туманом, влажным днем, капелью, мокрядью, а также разверзшимися хлябями небесными. Приходил в день погожий, солнечный и обещавший быть сухим. Во всякое время дня и ночи заявлялся он, во всякое время года, невзирая на календарь и прогноз, пока одежда ваша в Фахе не превращалась в дождь, и кожа у вас – дождь, и дом – дождь с очагом. Дождь возникал из серого простора Атлантики, бросался на сушу, словно любовник, прежде отринутый и исполненный решимости более таковым не быть. Налетал вместе с чайками и запахами соли и водорослей. Налетал с холодным ветром и занавешенным светом. Налетал, каре подобный, или, в безобидном изводе, подобный благословенью, о даре коего Господь позабыл. Дождь приходил за платочком синего неба, верхом на вестах, иногда – чего б и нет? – на остах, в тучах, что ломали себе спины на горах в Керри и падали на Клэр, творя грязь из земли, ослепляя воздух. Под личиной града и ледяной крупы приходил он, но как снег – никогда. Являлся он иногда тихонько, иногда нежно, и копья его превращались в поцелуи, таким дождем, какой делает вид, что и не дождь он вовсе, какой нисходит, чтоб стать поближе к полям, чью зелень любит он и пестует – пока не утопит.
Все это в подтверждение одной-единственной истины: в Фахе шел дождь.
Но теперь он прекратился.
Нельзя сказать, что в Фахе заметили. Во-первых, потому, что произошло это в начале четвертого в Страстную среду, и весь приход размещался, как бочковая сельдь, в Мужском, Женском и Длинном приделах тонущей церкви, все еще именовавшейся в ту пору в честь святой Цецелии. Во-вторых, когда прихожане выбрались наружу, умы их возвышены были латынью и страданиями Христа Спасителя, а все прочие мысли сделались потому незначительными. И в-третьих, так давно длился брак их с дождем, что они друг друга уж более не замечали.
Мне самому семьдесят восемь, и рассказываю я тут о том, что было шесть десятков лет тому назад. Понимаю, что Фаха в ту пору для обретения уроков жизни место неожиданное, но, по моему опыту, “ожидаемое” – это не из словаря Господня.
Так вот, тот мир, где двери на улицу днем никогда не закрывались, задние двери никогда не запирались, но снимались со щеколды и в них заходили по вечерам, – где ступал ты, с Божьей помощью, на выложенный каменными плитами пол в облако торфяного и табачного дыма, – тот мир исчез. И хотя кое-кто из тамошних людей – например, Майкл Доннелли, Делия Консидин, Ма?ри Эган и Марти Броган – отсрочили выезд на погост и пребывают в одиноких старых домах в глуши, в обители ревматизма, сырости и преодоления долгих вечеров, двери там прикрыты опаской и страхом ностальгии, природа которой едка. А раз уж сам я теперь тоже древен, отдаю себе отчет, что милостью творенья быстрее всего испаряются из памяти тяготы и дождь, понимаю, что между тогда и теперь, как между таинством и смыслом, есть, возможно, громадная брешь, и от мира, где живете вы, – вот от этого – тот мир, где прекратился в Фахе дождь в Страстную среду, может быть слишком далек, чересчур отодвинут во времени и нравах, и вам туда не проникнуть.
Потерпите меня сколько-то: у дедов мало привилегий, а у мысли о собственной никчемности большие аппетиты.
И сотня книг не в силах запечатлеть одну-единственную деревню. Это не напраслина – это свидетельство. Фаха – место не менее и не более приметное, чем любое другое. Если отыскали вы его, значит, направлялись куда-то еще. В стране полным-полно мест более откровенной красы. Вот и славно. Фахе дела нет. Она давно смирилась с тем, что по части самобытности и географии судьба ее в том, чтоб миновали ее проездом, а затем тихонько и полностью забывали.
На дождь, стало быть, одновременно и невероятный, и доисторический, в долине, где поля слюбились с рекой, не обращали фахане почти никакого внимания. То, что дождь когда-то начался, уже стало легендой – как станет легендой теперь и его прекращение.
Изведанный мир в ту пору не был столь четко очерченным, равно как и знание не приравнивалось к фактам. В своем роде скреплял человечество рассказ. Никак точнее объяснить я это не смогу. Повсюду повествовали. Поскольку источников, где можно было что-либо выяснить, имелось меньше, слушали больше. Некоторые все еще рассуждали о дожде, стоя у калиток под моросью, глядели в небеса, предрекали грядущее – неточно и очень лично, словно все еще владели языком птиц, ягод или воды, – и обыкновенно люди потакали им, слушали, как сказ, кивали, приговаривали: “Да неужто?” – и уходили, не поверив ни слову, а только чтоб передать рассказанное, подобно живой валюте, кому-то еще.
Церковь в то время была не тем, что сейчас – или где сейчас. Стоило ризничему Тому Джойсу перейти улицу в костюме и при жилете, взобраться по двадцати семи ступеням на колокольню и ударить в тогда еще настоящий колокол – колокол, благословленный Епископом и слышимый в семи поселках прихода, – люди разом выходили из домов, и грешники, и святые. Все дороги в деревне заполоняли велосипеды, лошади, повозки, трактора и пешеходы. Дороги в глубинке гудроном еще не заливали, а некоторые даже щебенкой не отсыпали. Та, что шла от дома моих прародителей, была грунтовая, утоптанная плотно и мягко, плотно и снова мягко, и проложили ту дорогу ноги, колеса и копыта, а посередке она выгибалась, как хребет, вдоль которого струилась жизнь поселка, бежала мимо открытых дверей, подбирая и роняя в том беге обрывки новостей, какими жило это место.
Вот так за час до Мессы возникало всевозможное столпотворение. Стоишь на пороге, смотришь на запад и видишь сплошь головы – в платках, кепках или шапках, – и плывут они над изгородями, словно воинство. В полях скотина, отупелая от дождя, вскидывала зачарованные бессмысленные свои морды, увешанные тяжкими вожжами слюны, словно питалась животина та жидким светом. Вереница людская, пешая, велосипедная и тележная, постепенно редела, цокот копыт задерживался на несколько минут дольше самих лошадей, но вот и цокот растворялся в зеленой тиши. Когда мимо в длинной комендантской шинели и джодпурах, присланных ему братом-генералом из Бирмы, проходил Сэм Крегг, часы у которого запаздывали и фактически, и метафорически, уже начиналось входное песнопение. На всех дорогах к приходу воцарялась полная тишина.
В Фахе водилось больше всякого, нежели сейчас. Лавки были мелкие, зато их имелось немало – бакалейная, мясная, скобяная, мануфактурная, аптечная и гробовая, все неумолимо отмеченные натурой владельца. За припасами ходили по крови и роду. Если в родстве состоял, хоть самую малость, с Клохасси или с Бурком – оба торговали одинаковыми чаем, мукой и сахаром, одними и теми же овощами трех видов и жестянками с непортящейся снедью, – у него покупки свои и делал. Проема дверного другому собою не затенял. Одна из привилегий житья в забытом месте – сохранять индивидуальность. В Фахе, где все срединное было далеко и почти неведомо, нормой было чудаческое.
Как заповедали им упрямство, неподатливость и традиция, мужчины рассаживались перед Мессой по двум подоконникам Прендергастова почтового отделения напротив церковных ворот, а те, кто запаздывал, удовлетворялись покатым подоконником Аптеки Гаффни. Фахский извод преторианцев, мужчины облачены были в коричневое и серое, в шляпы или кепки, но никаких дождевиков, хотя дождь уже усаживался им верхом на плечи и понуждал к уловке курения задом наперед, укрывая папиросу ладонью. Те мужчины были из мест, где от уединения характер человека делается кристально прозрачным. Сомнений в том, что церковь они посетят, не существовало никаких, однако из-за трудного отношения религии к мужскому никакого пыла не выказывали они и таили всякую тень духовного с нарочитой небрежностью и мастерством в жизненно важном искусстве помалкивать.
Люди в Фахе еще не навострились парковаться. В ту Страстную неделю оставалось еще пять лет до того, как введут экзамен на права, а сверх них еще три года до первой попытки фаханина этот экзамен сдать. Имелось в приходе всего десять автомобилей. Водители запросто прикатывались примерно туда, куда направлялись, высаживали детвору, стариков и соседей – те благословляли с Богом автомобиль, когда забирались внутрь, и благословляли с Богом водителя, когда выбирались наружу. Если, как Пат Хили, кто-то застревал со своим автомобилем посреди дороги и там, где улица с безнадежной тоской устремлялась к серому языку реки, никто не мог протиснуться ни в ту ни в другую сторону, – какая разница, они все идут в церковь, и кляты пусть будут язычники.
* * *
Как и в Ковчеге, имелся в Святой Цецелии определенный неписаный порядок, согласно которому прихожане и входили в церковь, и усаживались. Поскольку во всякую неделю появлялись одни и те же люди, а посторонние и чужеземцы были здешним людям неведомы, можно было закрыть глаза и не сомневаться: Матью Лири, первый на вход, последний на выход, согбенный в первом ряду, темечко склонено, руки сложены молитвенно, бремя грехов его непостижимо и страшно; Мик Мадиган не входил, но по неизвестным причинам стоял под дождем у церковных дверей; словно явилась она прямо этим утром из дома, какой увидишь в музее Голода, торчал маленький очень прямой столп Мари Фалси на переднем ряду Женского придела, а в самом хвосте придела Мужского муж ее Пат шмыгал носом от постоянного насморка. Известно было и то, что миссис Пендер, у кого был самый чистый дом на весь приход (ныне Шон Пендер – прах), сидит вместе с семерыми Пендерами – те болтают ногами – возле Катлин Коннор, которую, говаривали, уже трижды миропомазали, а она все никак не отчалит в Рай, пока, люди поговаривают, не узнает, что ее муж Том в другом месте; на середине придела – семейство Коттер, высший свет, за ними Муррихи, все они пошли дорогой погибели и на ней почти нигде не задерживались; обок их или довольно близко – Фури, ученый Шон, тот ради любви умрет; в сторонке целый гордый ряд (Господь благослови труды) Макинерни, еще ряд застенчивых, но при этом не менее многочисленных Моррисси, все народились в апреле через девять месяцев после сенокоса, и у каждого в характере нечто летнее. Чуть дальше по Долгому приделу слева Лидди – Бриджет и Джером, с десятью ребятишками, коротающими ночи на трех кроватях в попытке укокошить друг дружку, а днем всем своим видом это подтверждающими. Невдалеке от них уйма Кланси, чье детство на вкус что слезы. Напротив них Ласи, четыре девушки, скрывающие хромоту свою от того, что донашивают туфли, из которых повырастали, но вплоть до самого Рождества обувку никак не сменить. За девушками – Мик Бойлан, страдающий от неизлечимого недуга, имя коему Морин. В двух рядах за первым – Мона Клохасси, которую Том, когда понадобилась ему подмога в лавке, привез себе женою с какой-то преуспевающей фермы на севере. Том не дурак. Мона могла б игрушки в Китай продавать. За Моной – Мина-безделка. Дальше Коллинзы, Кинги, Девитты, Давитты и Дули, Джонни Мак, наделенный уродством, неотразимым для всех Хегарти, Томас Динин, отменный скрипач, да и более того, Динины – это вообще мистика, музыкальное семейство, всяк из них способен был взять любой инструмент и извлечь из него мелодию.
Посередке далее, не слишком близко ни к святым в первых рядах, ни к грешникам на задах, – доктор Трой и три его дочери-лебедушки, с виду такие, что казалось, будто не вошли они в двери, а прилетели из другого измерения, где к красоте люди поближе, чем в Фахе. Возможно, благодаря дальним кровям, облачению, манерам или мистической нумерологии, где тройка – число божественное, одного присутствия этих трех хватало, чтоб возникали сами собою волны беспокойства. Влечение непрозрачно и загадочно, как луковица, но справедливо будет сказать, что в приходе Фаха красота этих девушек порождала мученье, перед которым не я один был беззащитен.
Больше о сестрах Трой ничего тут не скажу, вы вскоре с ними познакомитесь, но рад отметить, что даже теперь при их упоминании сердце в моей древней груди трепещет по-прежнему.
Женский придел вообразить удается труднее. Но смиритесь со мною. Тогда как мужчины все без шляп, женщины все сплошь с головами покрытыми – напоминанием, быть может, о Вирсавии. Для некоторых женщин правило о покрытой голове – повод модничать, особенно для миссис Секстон, обзаведшейся целой коллекцией несусветных шляп, одна из них – некая экзотическая чудо-страна с холмом искусственных цветов, что высились Ост-Индией над хозяйкой шляпы, а венчала холм колибри, и когда отправлялась миссис Секстон к алтарной ограде, все это требовало значительного мастерства равновесия.
* * *
Кто-то сказал, что религия в Ирландии задержалась дольше, потому что мы народ с воображением и живо представляем себе картины адского пламени. Так оно, вероятно, и есть. Но вопреки всему, что со временем обнаружится и потребует внесения в церковные хроники, религия была тогда частью мирового порядка, и в церемониях и ритуалах ее имелось свое очарование. В ту Страстную неделю Святая Цецелия оделась цветами. Лица четырехфутовых более-менее подходящих друг другу статуй святых Петра и Павла, а также скрытого капюшоном святого Сенана[3 - Святой Сенан (IV в.) – выдающийся мунстерский святой, миссионер, основатель множества монастырей по всему острову, один из Двенадцати апостолов Ирландии.] и статуи, поименованной святой Цецелией, покрасили к Пасхе, сколы заделали. Замечательная мастерица концертины миссис Риди отставила джиги и рилы, хмурилась и с суровой серьезностью играла на органе.
Курат Отец Коффи был в ту пору юн и по призванию влюблен в свой новый приход. Бледный и тощий, как гостия, он питал навязчивую страсть к “Мечу Уилкинсона”[4 - Wilkinson Sword (с 1772) – британская торговая марка бритв.] и сбривал с себя все до кровеносных сосудов. Имел вид начинающего святого и остекленелый взгляд человека, борющегося с собственной кровью. Но жил он тогда в неприкосновенной уединенности священства, а потому никто в Фахе никогда не сомневался в его благополучии, да и не задумывался о нем. В возвышенном пурпуре Пасхи в тот день располагался он на алтаре один. ПС[5 - Приходской священник.] Отец Том, когда сменил дьявола, в ту пору именовавшегося каноником Салли, – человек, в приходе обожаемый. Он выслушивал покаяния каждой души сорок лет кряду, и отпущение грехов его утомило. От накопленных в нутре у себя прегрешений паствы страдал он очередной грудной инфекцией.
Отдадим молодому Отцу Коффи должное: этот человек прослужит в приходе пятьдесят один год, вопреки привычной картине мира добра содеет больше, чем причитается одному человеку, дважды откажется от перевода в другое место, молча выстрадает наказания, какие нашлют на него из Дворца[6 - Имеется в виду дворец епископа.], ради верности Фахе, где в позднейшие годы, не ушедшего на покой много после соответствующего возраста – пучки белой проволоки из ушей, четыре души на ежедневной Мессе, какую он служил в одних носках, поскольку при двух-то невромах Мортона ботинки мучительны, – его столько раз обворуют, что он начнет оставлять ключ во входной двери своего приходского домика, немного монет и еды на столе, пока не умыкнут и стол.
В ту Страстную среду Отец Коффи, спиною к пастве, закрыл глаза и возвел подбородок горе. Из недр горла своего выдал вверх жалобное “Те Деум”[7 - Te Deum laudamus (лат., “Тебя, Бога, хвалим”) – христианский гимн, предположительно IV в.], еще не ведая, что в тот самый миг небеса над ним расчистились.
3
В тот день в Святой Цецелии я не присутствовал. Мне было семнадцать. Я приехал из Дублина поездом, не то чтобы в немилости – мои прародители Суся и Дуна были слишком своенравными и ушлыми для такого, – но уж точно от милости вдалеке, если милость есть условие беззаботного житья на земле.
Каким был я в ту пору, описать непросто, Кроувость во мне проявлялась по большей части в противоречии самому себе, натура моя – неравномерное нечто, колебавшееся между косностью и поспешностью, покоем и прыжком. Одним таким прыжком я очутился в щетинистой школе-пансионе в Типперэри. Другой забросил меня в тернистую суровость семинарии, а третий – прочь оттуда, когда я проснулся как-то раз посреди ночи от страха, какой не смог поименовать, но позднее счел страхом никогда, вероятно, не узнать, каково это – прожить сполна жизнь человеческую.
Что я об этом тогда думал, точно не скажу, но мне хватило здравого смысла понять, что чего-то недостает и что этого недостатка следует опасаться. Если правда то, что каждый из нас рожден с естественной любовью к миру, детство мое и образование искореняли ее. Я слишком боялся этого мира, чтобы его любить.
Оказалось, что войти в лоно церкви куда проще, чем покинуть его. Отец Уолш был моим духовным наставником. От природы у него были розовые младенческие губки, но кровь ледяная, как у окружного коронера. Чтобы семинаристы сохраняли целеустремленность, сам он поднаторел в уловках, маневрах и лукавстве. Его волнистые волосы, укрощенные студенистой помадой, были угольно-черны, кожа никогда не видела солнца. В комнате, отягощенной мебелью красного дерева, излюбленной среди людей религиозных, когда я сообщил ему, что ухожу, первой он применил тактику безмолвствования. Сложил длинные пальцы домиком – словно церквушка распадалась и ее нужно было стянуть воедино. Не сводил с меня глаз. Молча перебрал доводы, губки сжались, очки блеснули, и вот он пришел к удовлетворительному заключению. Кивнул, словно соглашаясь со старшим адвокатом. Затем объяснил мне, что на самом деле я не ухожу, что он будет считать меня в увольнительной, во временном затворе. В жизнях святых было много таких случаев. Он не сомневался, по его словам, что я, увидев, как оно “там”, вернусь еще более приверженным. Встал, прижал кончик языка губами, протянул мне свою холодную руку и экземпляр Августиновой “Исповеди”.
– Господь с тобой.
Я тогда жил в глубочайшем одиночестве. Не знаю точно, почему и как случается, что человек оказывается на обочине жизни, но именно там я и был. Целиком противоположен уверенности в себе. Никакой точки опоры не находил я себе на земле и никак не видел, куда бы приткнуться.
Вернулся из семинарии домой в Дублин – сплошной оголенный нерв и смятение. Отец мой, сознательно бунтуя против собственной крови Кроу, во всем был очень тщателен. Немногословен; короткие густые брови – черточки Морзе, из-за которых вид отец имел непроницаемый. Отцы наши – тайна, какую постигаешь всю свою жизнь. После смерти моей матери он взял положенные три дня отгулов, общепринято отгоревал, а затем вернулся в излюбленное свое чистилище – Министерство, где легионы мужчин в серых костюмах деловито изобретали Государство по образу и подобию своему. В те времена такова была расхожая глупость – считать собственного отца недосягаемым. Я не пытался дотянуться до него еще двадцать лет, вплоть до того года, когда он взялся помирать, – тогда-то я впервые в жизни и назвал его по имени. Теперь я старше, чем он был, когда умер, и ценю то, чего, предполагаю, стоило ему оставаться в живых. Это не очень-то ухватишь, сдается мне, – пока не проснешься стариком или старухой и не придется пробираться дальше. В наше время мы отцами своими проникались недостаточно. Как сейчас – не знаю. Проникаюсь им и произношу его имя, Джек, теперь, когда он умер, – такая вот блажь, какую старики себе позволяют. На пользу ли ему это, мне неведомо. Мне же самому иногда немножко помогает.
* * *