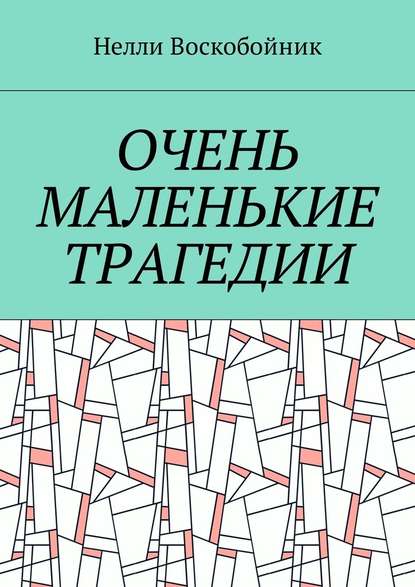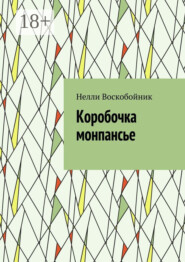По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Очень маленькие трагедии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нет, не буду пересказывать дальнейшего. Люди с опытом – отлично представят. А те, которые еще не видели такого несчастья, всё равно не смогут понять. Не мне, с моими скромными литературными притязаниями, описывать тот вечер и ночь…
Жизнь моя, как поезд, двигается в известном направлении. Соседи остаются позади, как маленькие станции и деревни, которые разглядываешь из окна своего купе, уютно устроившись на животе на верхней полке, улыбаясь их светящимся окнам и станционным часам, показывающим, как недолго осталось ехать до пункта назначения.
Прекрасный человек двоюродный мой брат
Мой двоюродный брат Саша был красавец и щеголь.
Однажды утром он поехал на работу. Приближаясь к повороту на Военно-Грузинскую дорогу, он вспомнил, что давно не видел своего дорогого друга Толика, который жил в Пятигорске. «Надо навестить Толика», – подумал он и свернул в сторону Кавказских гор. Пути было, учитывая, что он был блестящим водителем, участником всяких ралли, – часов на семь-восемь. Его это нисколько не смущало. На работе его ожидали неподписанные бумаги, дома – мама с папой и жена с дочкой, но впереди сияла встреча с Толиком, и Саша не стал морочить себе голову грядущими объяснениями.
Так ехал он пару часов по одной из живописнейших в мире дорог и ни о чем особенном не думал. Впереди показался указатель «Ананурская крепость», и огромный автобус затормозил и въехал на туристическую стоянку. Саша тоже остановился. «Обратите внимание, – услышал он. – Ананурская крепость, построена в шестнадцатом веке». «Вот это да! – сказал себе Саша. – Мне уже тридцать лет, а я еще ни разу не видел крепости шестнадцатого века!» И он пошел вслед за экскурсоводом, радостно впитывая историко-романтические бредни, так любимые всеми туристами на свете. Потом вся группа и Саша пообедали.
На часах было около трех, и Саша подумал: «А нафига сейчас пилить к Толику? Может, его и нет вовсе? Может, он в командировке?» И Саша повернул домой. Он вернулся в прекрасном настроении и охотно рассказал жене и мне обо всех своих впечатлениях.
На работе сильно не удивились. Саша служил там зитц-председателем. У него была большими трудами заработанная справка, свидетельствующая о том, что он шизофреник. Таким образом, если бы ОБХСС, несмотря на регулярные подати, которые это заведение, крывшее коммунальные крыши скверным шифером, им платило, всё-таки пришел с проверкой, – заведующий (Саша) не подлежал уголовной ответственности, а бухгалтеру пришлось бы выкручиваться, как умеет.
Справка эта дарила Саше невиданную в Советском Союзе личную свободу, но была в ней и одна червоточинка: шизофреникам не давали водительских прав. Что ж – Саша очень успешно на протяжении пятнадцати лет ездил без прав. Он клал под заднее стекло полковничью фуражку и уверял, что армейских полковников ГАИ не останавливает. Не стану спорить – ему было виднее.
Потом мы все переехали в Израиль, и Саша срежиссировал себе еще много разнообразных захватывающих приключений.
Он умер пять лет назад. Упал на улице – и умер. Тучный одинокий больной религиозный старик пятидесяти шести лет.
Шить сарафаны и легкие платья из ситца
Я помню себя с трех-четырех лет. Я стояла в нарядном белом крепдешиновом платьице с вышитыми на нем бабочками, а тугая кудряшка падала мне на лоб. Папа фотографировал меня. Тогда я еще любила фотоаппараты, и мне ужасно нравилось название «Зоркий». Удивительно, что эта фотография сохранилась. И трижды удивительно, что я помню это платье и узнала бы его из сотни других. Все-таки одежда очень важна для женщины…
Следующее платье, которое мне запомнилось, было сшито из темно-синего ситца с белыми точечками. Оно было туго перетянуто на животе (лет через десять это место можно было бы назвать талией) десятком тоненьких резиночек, которые отчетливо отделяли верхнюю часть с рукавчиками фонариком от юбочки «клеш». Если покрутиться, то юбочка сначала приподнималась, а потом вообще становилась горизонтальной, как пачка у фарфоровой Улановой, которая стояла у бабушки на буфете. Статуэтка была маленькой и манила мои жадные детские ручки подержать ее, потискать и еще как-нибудь выразить мою любовь и восхищение. Иногда мне это разрешали.
Важное платье, которое я запомнила на всю жизнь, – моя первая школьная форма. Куплена она была в Москве, разумеется, на вырост, так что была намного ниже колена. Юбку укоротили и выпускали каждый год, но плечи, рукава и талия не имели ко мне ровно никакого отношения, что было и не очень важно, так как поверх коричневого платья носился черный шерстяной фартук. Завидная принадлежность московской формы. Тбилисские шились из полупрозрачного нейлона, что ли? – если его тогда уже придумали. Был, конечно, и белый фартук. Казался мне невероятно красивым. Однако, нарядившись по большим праздникам в парадную форму с белыми бантиками в косичках, я всегда поражалась тому, как мало мое отображение в зеркале соответствует воображаемому образу девочки из «Пионерской правды». Белый фартук не стоял торчком, несмотря на крахмал, бантики имели самый поникший вид – то ли ленты были не те, то ли искусство вязать роскошные многолепестковые банты, как у других девочек, было незнакомо моей маме… И галстук из какой-то красной хлопчатой ткани изумлял своим безобразием. Только в шестом классе я обзавелась алым шелковым галстуком, который можно было завязать как следует, чтобы свисающие уголки не топорщились жалко и неуклюже, а покойно лежали на пионерской груди. Как повяжешь галстук – береги его.
В университете мне запомнился яркий сарафан из какой-то крупноячеистой трикотажной ткани. На исходе каникул, вернувшись из Сухуми, загорелая и похудевшая, я спешила в нем к метро, цокая каблучками нарядных босоножек. Навстречу шел сосед-одноклассник. Он посмотрел на меня мельком, не узнал, остановился, потом посмотрел другим взглядом, узнал и изумился. Я моментально вошла в образ неприступной красавицы, надменно кивнула и прошелестела мимо, как ветка, полная цветов и листьев. Он был болван и бездельник, а всё же приятно.
Следующее запомнившееся платье – свадебное. Длинное, доходившее до самых лакированных белых туфель. Его сшила соседка, тетя Циля. Мне оно очень нравилось – я была не искушена. Теперь-то я знаю, какие бывают свадебные наряды, а тогда и это было прекрасно.
Дальше запомнилось больше то, что носили дети. Первая серьезная покупка в Израиле была белой блузкой, купленной для дочки после тяжелых сомнений и колебаний. Я была не уверена, что могу бездумно потратить сорок шекелей на пасхальную обновку, но к блузке прилагалась очаровательная брошечка, и мы с дочкой не устояли. Эта блузка потом несколько лет надевалась по патриотическим поводам (белое с голубым) и просто как нарядная одежда.
Сейчас мой шкаф наполовину забит военной формой, с которой ни сын, ни дочь не захотели расставаться, но и не забрали к себе. И две бритые зеленые кумты[1 - Кумта – форменный берет, неотъемлемая принадлежность израильской военной формы. Чтобы не выглядеть новичками, солдаты стараются состарить новую кумту.] хранятся в узеньком ящике.
Сама я всю рабочую неделю хожу в белом халате и помню все халаты, которые мне нехотя и с большими задержками выдавала прижимистая больница. Среди них были и мужские, и укороченные до состояния блузы, и мешковатые бязевые чудовища.
Теперь в витринах меня притягивают платьица для внучек. Я покупаю их без колебаний – легкие, удобные, милые и ужасно дорогие. Какие из них запомнятся моим девочкам на долгие годы?
Женский взгляд на прожитую жизнь. Курочки вы рябы, дурочки вы бабы.
История с географией
Нашего учителя географии звали Иваном Элефтеровичем. Это был маленький, лысоватый, полноватый человечек, небрежно одетый и неотчетливо выбритый. Понятно, что он был грек. И имел странное прозвище Тер-тер. Не мы, разумеется, это выдумали. И уж точно не мы возражали против бессмысленного прозвища. Тер-тер, как и все на свете учителя географии, требовал, чтобы мы приносили на уроки контурные карты, но, будучи снисходительнее других, редко заставлял нас что-нибудь в них рисовать.
Урок происходил таким образом: кого-нибудь одного или двух вызывали к доске, и он отвечал заданный материал, тыча более или менее успешно указкой в потрепанную карту на стене. Потом учитель велел открыть учебник на следующем параграфе и учить его на отметку. Поскольку больше заняться было нечем, большинство так и поступало. За десять минут до звонка Тер-тер вызывал желающих к доске, и они очень сносно – только что прочли! – рассказывали заданную главу. И получали хорошие отметки. Система была великолепна! Учитель на каждом уроке имел с полчаса свободного времени. Ученики, от скуки и желая избавиться от домашнего задания, если не выучивали назубок, то хотя бы знакомились с темой. А потом еще слушали ответы тех, кто прочел параграф до самого конца и понял написанное. Я думаю, что в географии наши двоечники были осведомлены лучше, чем во всех остальных предметах.
Мучимый укорами совести, а может, и по условиям программы, Тер-тер брал нас иногда на экскурсии, и мы ездили на Джвари, осматривали слияния рек, любовались Светицховели и определяли север по наличию мха и расположению годовых колец на пнях. Все, не исключая и учителя, очень любили эти экскурсии. Но организовывать их было хлопотно, и они доставались нам как приз за хорошее поведение не чаще чем два раза в год – весной и осенью.
Однажды, на первом году изучения географии, Тер-тер снизошел до того, что сам объяснил нам урок. Тема касалась геологических слоев, из которых сложены материки. Учитель объяснил, что под действием гравитации тяжелые породы опускаются глубже, а более легкие расположены на поверхности. Для доказательства этой максимы он велел каждому налить воды в поллитровую стеклянную банку, насыпать туда камней, глины и песка и дать всему этому отстояться. В результате мы должны были увидеть через стекло, что белые камни заняли место на дне, следующим четким слоем была бы черная глина, сверху желтый песок, а над ним чистая вода. Банки следовало принести и сдать учителю и по ним получить окончательную годовую оценку.
Отчего-то я приняла это задание необычайно близко к сердцу. В те времена родители не заморачивались помощью детям в освоении школьных знаний. Мне выдали стеклянную банку и велели сделать всё остальное. Ареалом моих поисков был наш двор. Разумеется, не позволялось выходить за его пределы, да мне это и в голову бы не пришло! Двор был немаленький и захламленный. Но ни гранита, ни кварца в нем почему-то не оказалось. После долгих мучительных поисков, в районе сорного ящика – самом запретном районе двора – я нашла пригоршню кирпичных осколков. И совок грязи, который мог условно сойти за глину. Немножко песка мне дала, сжалившись, соседка, у которой была кошка. В плохую погоду она не выпускала кошку во двор, и песок должен был служить в гигиенических целях.
Трепеща, я положила кусочки кирпича на дно, сверху осторожно пристроила мерзкую полужидкую грязь, засыпала всё это слоем песка – выглядело довольно неплохо – и налила воду. Как я ни старалась лить воду по каплям, струйка взбаламутила всю мою геологию и передо мной оказалась банка неразличимой бурой грязи. Я угомонила свое отчаяние надеждой на силы тяготения и время. Однако и назавтра, и через пару дней положение нисколько не улучшилось. Я мошенническим путем пыталась уложить вниз хотя бы кирпичи, и это мне удалось, но надо было отнести всё это в школу. А по дороге мерзость взболталась окончательно, какие усилия я ни прилагала, чтобы идти плавно и не встряхивать банку. Я поставила банку, на которой была наклейка с моей фамилией, на учительский стол в ряд таких же и почти без надежды села за парту ожидать приговора.
К моему удивлению, учитель не стал оценивать наше задание, но отнесся к нему серьезно, потому что попросил после урока помочь ему переправить все наши работы в учительскую. Тем дело и кончилось.
И только став взрослой, я поняла, что лучшие порывы моей любознательной души были принесены в жертву домашнему консервированию. Тер-тер собрал к сезону сто двадцать банок из трех параллельных классов, и его жена смогла накрутить консервов на немалую семью на весь год вперед.
Вова Миндин
Вова Миндин был нашим соседом. Он переехал в наш двор, когда я была в первом классе. Наши семьи крепко и навсегда подружились всеми поколениями. Он был красивый, высокий, ясноликий молодой человек, прекрасно образованный и воспитанный.
Вовины родители были намного старше моих – скорее принадлежали к поколению наших бабушек. Отец его был замечательным зеркальщиком, и скоро наша квартира украсилась прекрасными зеркалами с разнообразными затейливыми фацетами, подаренными соседями на дни рождения моих родителей. Это были царские подарки. Никогда позже я уже не видела таких зеркал в продаже, а только во дворцах и в фильмах о жизни аристократов. Вовина мама была всего лишь пожилой домохозяйкой и женой ремесленника, но вызывала некий трепет своей твердостью, сдержанной и уверенной манерой поведения и безупречной прической. Муж называл ее «мамочка». Она была настоящей дамой, и звали ее соответствующе – Софьей Марковной. А Вовиного отца, удивительно для меня, звали Юдой. Они были весьма обеспеченными людьми и купили самую лучшую квартиру, оставшуюся в нашем дворе после смерти ее хозяина.
В другом жилище – трудно назвать его апартаментом – в подвальной комнате жили три сестры в возрасте между тридцатью и сорока годами. Одна из них, Ася, была медсестрой и делала за деньги уколы всем соседям. А мелкие медицинские услуги, вроде перевязки пальца или измерения давления, оказывала бесплатно, по-соседски. Другая, огромная толстая Ира, была сестрой-хозяйкой в больнице и возвращалась с работы с тяжелыми сумками, полными продуктов. У нее все соседи покупали сливочное масло. Третья, Армуся, была проституткой. И днем, когда старшие были на работе, приводила клиентов домой, а вечером устраивалась как-то иначе. У нее единственной была дочь. Девочка лет шестнадцати, умница и красавица. Она отлично училась в школе, носила длинные косы и приглянулась даже Вове, интеллектуалу и аристократу духа.
Когда девочка подросла, мать резко сократила прием клиентов дома и старалась показывать дочери только наилучшие примеры поведения. Однако немолодая проститутка была нежеланной мехетунес[2 - Мехетунес – сватья (идиш).] для Софьи Марковны. И хотя Вова только улыбчивым взглядом обозначал, что Тата ему симпатична, Софья Марковна не могла скрыть своего раздражения в адрес всех четырех соседок. Однажды ее недоброе слово вызвало резкий отпор. Услышав громкие голоса, муж вышел во двор и тоже вступил в объяснения. Тогда из подвала выплыли остальные сестры, Армуся уперла руки в бока и показала высокий класс дворового скандала.
Нет слов, скандалы во дворе случались и раньше – из-за общих подпорок для бельевых веревок, из-за очередности развешивания белья, и просто так – под плохое настроение участниц. И никто не стеснялся в выражениях. Поэтому с приближением громкого разговора между соседками бабушка за руку забирала меня и Мишу со двора и запирала дверь. Но все предыдущие скандалы были детским лепетом в сравнении с той атакой, которую повели сестры на семейство богатых спесивых жидовских чистоплюев. После нескольких минут, в течение которых Армуся своим профессиональным языком объясняла старому еврею, кто он есть, Юда Исаакович положил руку на грудь, опустился на дворовый асфальт и умер.
Так Вова стал главой семьи и защитником матери, которую он не только горячо любил, но и искренне почитал. Через несколько месяцев после похорон, немного придя в себя и утратив на время свою суховатую сдержанность, Софья Марковна рассказала маме историю своей жизни.
Она вышла замуж до революции и в девятнадцатом году родила старшего сына Яшу, а в двадцать первом Лазаря. Оба мальчика, особенно старший, были необыкновенно талантливы. Они уехали учиться в Москву. А с Софьей Марковной случился ужасный конфуз. Она забеременела, когда сыновьям было уже за двадцать. Сама мысль – дать понять кому-нибудь, что такая почтенная дама в возрасте около сорока лет занимается с мужем постыдными делами, от которых могут родиться дети, – была невыносима. Она подумывала сделать подпольный аборт. Но прежде всё же собралась с духом и написала сыновьям письмо в Москву. Оба были в восторге, поздравляли родителей и благословляли еще не рождённого брата или сестру со всей пылкостью, на какую были способны. И Софья Марковна родила Вову в сороковом году. А старшие ее сыновья уже в студенчестве проявили себя как выдающиеся филологи. Введение к академическому изданию «Цветов зла» Бодлера написано Яшей, который к этому времени едва успел закончить институт. В этой же книге опубликована статья в память не расцветшего до конца молодого филолога, лучшего в Советском Союзе знатока Бодлера – Якова Миндина, погибшего смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году в возрасте 23 лет. Его брат погиб еще раньше. Так судьба распорядилась жизнью всех членов этого семейства.
А Вова стал ученым-электрохимиком, довольно известным в своей профессии. Именно он показал мне, что если в тетради по арифметике записывать каждую цифру в отдельную клеточку, то все примеры решатся сами по себе и без всяких ошибок.
Эмик
В детстве день моего рождения никогда не праздновался по-настоящему. У моих одноклассников накрывали стол. Десять-двенадцать детей сначала наслаждались грузинским хлебом и сыром, докторской колбасой, вареным языком и жареной курицей. Всё это запивалось отличным лимонадом. Потом получали по куску пирога с чаем, а потом – игры под руководством мамы именинника: «кольцо с места», «золотые ворота» и «испорченный телефон». А мой день рождения был в августе. Все на каникулах, да и я сама где-нибудь на даче.
Но когда мой возраст перевалил за двадцать, мама стала беспокоиться. Никаких поклонников не было и в помине, и, значит, следовало принять меры, чтобы ввести меня в подходящий круг, где я могла бы познакомиться с подходящим еврейским мальчиком.
На мой двадцать первый день рождения было приглашено блестящее общество. Чертог сиял. Архивны юноши дарили мне букеты тугих роз на длинных ножках, а студентки Консерватории и Института иностранных языков – все дети и племянники родительских знакомых – обсуждали своих общих приятелей.
После этого и я получила приглашение к признанной королеве этого круга – томной и уверенной в себе законодательнице по имени Суламифь. Приближенные звали ее Суламой. В гостях были чуть знакомые мне Фирочка, Белочка, Инна, Лина и Нонна. И пять-шесть мальчиков, которые по замыслу должны были мной заинтересоваться, начать ухаживать, приглашать меня в кино и в театр. В перспективе, выдержавшему все отборочные туры предстояло на мне жениться. Это отборное еврейское общество мне ужасно не понравилось. Хозяйка подала ладошку, не сделав ни малейшего мышечного усилия, чтобы сжать ее. Что мне следовало делать с этой тепловатой оладьей? Может, поцеловать? Все остальные были такие же бесстрастные и высокомерные. У одной из девочек мама именинницы спросила, что делает ее папа. Ответ прозвучал так, что ему позавидовала бы Елизавета Английская. Что Первая, что Вторая.
– Мой папа! – сказала она. – Ха! Мой папа!!!
И правда, ее папа был каким-то подпольным советским миллионером.
Я ушла с этой вечеринки раньше всех, сославшись на неотложные дела. Никто не вызвался меня провожать.
Однако через пару дней один из присутствовавших на этом вечере позвонил мне и пригласил на концерт. Его звали Эмик. Было в нем высоты не больше ста шестидесяти сантиметров, и я была для него ценной находкой. (Рост Эллочки льстил мужчинам.) Он стал приходить раз в неделю и водить меня на эстрадные концерты в Филармонию. Таких концертов я раньше не посещала. Билеты на них были очень дорогие, музыка громкая, разноцветные прожекторы бестолково шарили по сцене, публика ликовала, а я скучала и смотрела на часы. После концертов мы пешком шли домой и делали вид, что разговариваем.
Мне льстило, что настоящий взрослый аспирант приглашает меня на настоящие свидания. Приятно было одеваться и подкрашивать ресницы. Но томительные, скучные разговоры с длинными паузами, которые я вынуждена была заполнять неумолчным щебетом, с каждым разом становились всё менее выносимыми.