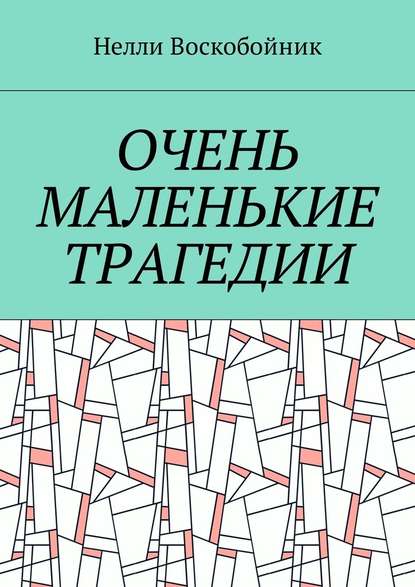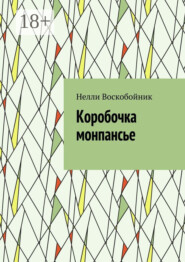По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Очень маленькие трагедии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вариационно-стержневые страсти
Несколько счастливых лет я проработала в Институте энергетики под руководством заведующего отделом вариационно-стержневого метода профессора Константина Михайловича Хуберяна. Это был чрезвычайно интеллигентный, забавный, маленький скособоченный старичок, всегда в костюме с жилетом и при галстуке. Он был талантливым человеком, который не только прекрасно знал и понимал, но еще и чувствовал странную свою науку под названием «Строительная механика». Он не придавал особого значения ни своему научному потенциалу, ни огромной эрудиции. Что вызывало у него настоящее уважение – это способность перевести его формулы на АЛГОЛ и положить на стол небрежно сложенную десятиметровую широченную бумажную ленту с напечатанными на ней нечеткими цифрами, изображающими напряжения в бетоне плотины, сдавленном огромной тяжестью своего собственного веса. Поэтому он набрал штат молодых бездельников (включая и меня), которые, бесконтрольно шляясь между удаленными друг от друга корпусами института, делали необходимые Хуберяну вычисления на электронной машине ЕС-2010, а по особым случаям и на БЭСМ-6. За это мы все получили право и возможность написать в течение шести-семи лет свои диссертации и претендовать на должность старших научных сотрудников.
Хуберян был одинок. Когда-то в молодости жена изменила ему, и он непреклонно с ней развелся, почти потеряв доступ к горячо любимому маленькому сыну. Лет через сорок после этого мои родители свели знакомство с его бывшей женой – пышной, говорливой незаурядной дамой с громким голосом. Среди прочего она рассказала, что в молодости была замужем за одним инженером, который оказался единственным настоящим мужчиной в ее длинной и совсем не одинокой жизни. Мне по молодости лет было смешно вообразить, что кто-нибудь может считать Хуберяна «настоящим мужчиной». В те времена я представляла их иначе. Но старуха разбиралась в этом вопросе гораздо лучше меня.
Пока мы занимались своим АЛГОЛом, а позднее Фортраном, Хуберян сидел в крошечном, забитом книжными шкафами кабинете и беспрестанно строчил. Он писал рецензии и отзывы на диссертации, статьи в журналы и главы в альманахи и учебники. Утончал и развивал свой вариационно-стержневой метод, который уже через несколько лет был начисто вытеснен методом конечных элементов, взявшим верх благодаря неожиданно бурному расцвету компьютерной техники. Кроме того, он по нескольку раз в неделю беседовал с каждым из нас, досконально записывал каждое слово, сказанное обеими сторонами, и отдавал эти записи перепечатывать в трех экземплярах. Один экземпляр отдавался на руки беседуемому, второй клался в папку, помеченную его именем, а третий – в папку, посвященную теме беседы. Помню документ, который начинался так: «В ответ на недоуменный вопрос Нелли о граничных условиях уравнений…»
Он очень огорчался, когда кто-нибудь из нас болел, уходил в отпуск или по иной причине прерывал свою плодотворную работу. Когда заболела няня и я сказала ему, что несколько дней вынуждена посидеть дома с ребенком, он горячо посоветовал мне купить большой термос, заложить в него обед и объяснить трехлетнему Давиду, в котором часу он должен будет выложить этот обед на тарелку и съесть его самостоятельно, пока я буду семимильными шагами двигать вперед инженерные науки.
А потом всё кончилось известным образом: СССР развалился, институт перестал получать заказы из России и закрылся, а Хуберян оказался замкнутым в своей одинокой квартире на крутой обледенелой улице Энгельса, где до смерти писал безупречным инженерным почерком никому более не нужные уравнения.
Русский Ваня
Саша был одним из самых блестящих людей, с кем сводила меня судьба. Он не достиг ничего особенного в своей карьере – так, кандидат технических наук, старший научный сотрудник… Но беседа с ним искрилась, пузырилась и переливалась. И собеседник, даже если мог соответствовать ее уровню, отнюдь не выбирал направления, а послушно следовал за всеми извивами Сашиных переходов-перескоков от утреннего разговора с тестем к политической оценке Грузинского Народного Фронта, а оттуда прямиком к предполагаемым альковным проблемам завлаба дружественно-конкурентной лаборатории. Внезапно, но вполне логично беседа завершалась поголовным опросом сотрудников о способах крепления тяжелой люстры к ненадежному потолку. Отхохотавшись и отерев слезы, понимающие расходились к своим столам работать. А непонимающие пожимали плечами и делали то же самое, время от времени вспоминая Сашин утренний дивертисмент и уточняя у соседей детали: «А что, Джемал действительно ухаживает за Нателой?» – что заставляло соседей прыскать от смеха.
Временами, наскучив строительными конструкциями, Саша забредал в комнату, где сидело большинство сотрудников и я в их числе, усаживался на свободный стол и ввинчивался в общий разговор. Среди нас была одна исключительно простая русская женщина, по иронии судьбы носившая аристократическую немецкую фамилию Гессен. Она любила рассказать о своих родственниках и соседях, о вариантах приготовления борща и пельменей и о маленьких женских уловках, позволяющих избежать больших неприятностей и даже несчастий. Это от нее я узнала, что если джадо (грузинский вариант диббука) отравляет жизнь семье, то первым делом следует вынести горшки с цветами, ибо именно они являются излюбленным местом гнездования злых духов.
Саша внимательно выслушивал ее рассказ о коварстве двоюродной сестры мужа, задавал правильные вопросы и плавно вступал с исключительно похожей историей, приключившейся с одним студентом Института Патриса Лумумбы, который внезапно влюбился в племянницу Сашиной соседки. Студент непременно хотел жениться на блондиночке, и она не устояла перед напором его страсти. Родители ее безуспешно сопротивлялись, но все-таки уступили молодым и даже сняли им однокомнатную квартиру. Однако счастье черно-белой пары было неустойчивым. Муж оказался требовательным, а жена неаккуратной и несобранной. Она постоянно всё забывала и теряла, отчего он приходил в ярость и даже пугал ее своим гневом. Особенно он сердился, когда пропадали носовые платки… К этой точке рассказа все, кроме Лиды, уже догадывались, какую печальную судьбу уготовил рассказчик бедной Зинаиде. А Лида слушала, затаив дыхание, и уточняла подробности. Отвратительный поступок несдержанного студента, который задушил-таки рассеянную девочку из-за пустяковой пропажи, вызвал у Лиды гневную реакцию. Особенно ее сердило, что все смеялись, и никому не было дела до красавицы, невинно погибшей в расцвете лет. Даже то, что студент, опомнившись и раскаявшись, закололся хлебным ножом, не могло примирить Лиду со случившимся. А мы смаковали каждую новую деталь и вносили уточнения и дополнения, чем несколько сбивали ее с толку. Она немного удивлялась, что столько народу оказалось знакомыми с Сашиной соседкой и ее племянницей.
Таким манером мы выслушали «Анну Каренину» (спортсмен-наездник и молодая бухгалтерша – жена второго секретаря райкома), «Евгения Онегина» (юная агрономша пишет письмо тунеядцу, а потом выходит замуж за профессора), «Гамлета» и даже «Преступление и наказание».
Саша был невысок ростом, неказист и курнос и себя называл в третьем лице «русский Ваня». «Ну конечно, никто пальцем о палец не ударил, статью писать будет русский Ваня». Или: «Русский Ваня сейчас сбегает в магазин и прикупит к завтраку на всю компанию чего следует».
Он был классический юдофил. Любил евреев и особенно евреек. И пользовался взаимностью. В результате чего у него родился сын, которого он бестрепетно признал, наделил своей фамилией и всеми сыновними правами, несмотря на то, что был женат и своего старшего ребенка обожал и не собирался оставлять. Он менял своему маленькому сыну пеленки, водил его в зоопарк и собирал с ним модели парусников. Как-то умудрялся.
В прошлом году он умер. Младший сын его удивительно похож на отца. Просто удивительно… Точно такой же. Только очень высокий и очень красивый.
Первоклассная история
Мой сын укусил своего товарища. Ему было шесть лет. Он был маленьким, худеньким самолюбивым очкариком. А товарищ был крупным, веселым, румяным ребенком с жгучими черными глазами. История конфликта осталась неизвестна. Кто бы ни был прав – у Давида не было ни единого шанса выяснить отношения в честном единоборстве.
Когда я пришла забирать его из школы, его не было в коридоре. Он был узником в классе, где кроме него находились еще две учительницы. Они все ждали меня для воспитательной беседы о случившемся безобразии. Одна из учительниц была «наша» Валентина Федоровна. Замечательная женщина с постоянной то явной, то скрытой улыбкой и подозрительной фамилией Уманская. Другая была учительницей параллельного первого класса. Звали ее Надеждой Ивановной, и она была высоко ценима родителями обоих классов за безупречно правильное умение соединять прописные буквы «о» и «м». Общаясь с другими родительницами, я постоянно попадала впросак, невольно выражая сомнение в том, что твердым ядром школьного воспитания должно быть именно чистописание. Парочка наиболее активных и авторитетных блондинок из родительского комитета не позволяла усомниться, что ребенка, начинающего писать цифру 5 не с левого верхнего угла, а как-нибудь по-другому, ждет дурная компания, наркотики и колония строгого режима.
Меня ввели в курс дела, и, подчиняясь невидимому сценарию, я спросила Давида, почему он укусил Арменака. Наступила пауза. Нераскаянный преступник молчал. Я тоже не знала, что сказать. Тогда вступили учительницы. Каждая из них сказала то, что ей казалось правильным. Надежда Ивановна сказала рассудительно:
– Если ты будешь кусаться, мы принесем щипчики и вытащим у тебя все зубки.
Одновременно с этим Валентина Федоровна сказала:
– Ведь у него на руках микробы! Ты же мог заболеть!
Я смотрела на двух женщин и маленького сердитого очкастого мальчика и думала, что жизнь слишком сложна для моего разумения.
Роза и крест
С нежностью вспоминаю Грузинский институт энергетики, в котором я проработала несколько счастливых лет перед отъездом в Израиль. Небольшой отдел профессора Хуберяна располагался в трех комнатах и представлял собой довольно пеструю компанию, связанную узами взаимной симпатии. Там работала очень близкая моя подруга, и поэтому вопрос душевной акклиматизации в новом коллективе прошел на ура. Она предварила мое появление рассказами о моих действительных и вымышленных достоинствах, и меня приняли очень хорошо. В этом отделе все были инженерами, и только мы с подругой закончили физический факультет и имели о сопромате и теории строительных конструкций самое смутное понятие. Однако не боги горшки обжигают. Было довольно интересно, и люди вокруг оказались симпатичными и занимательными.
С некоторыми я сблизилась, другие остались приятелями. Только одна молодая женщина была чуть холоднее остальных. Ее звали Розой. Она приехала из маленького приморского городка и работала над своей диссертацией, как и каждый из нас. У нее было удивительное свойство. Ее одежда, обувь, чулки, волосы всегда были в идеальном порядке. Юбка никогда не мялась. Стрелка шла точно в середине лодыжки и не изгибалась в сторону ни на миллиметр. Никакой дождь не мог сделать ее волосы вислыми сосульками, как это постоянно случалось со мной, да и с другими – кроме лысого шефа и безволосого, благодаря редкой болезни, Марселя. Но самое удивительное: лужи, через которые приходилось в дождливую погоду прошлепывать между остановкой автобуса и широкими величественными ступенями института, не оставляли на ее чулках и светлом плаще никаких следов. Я искренне восхищалась: это была фея вежливости и точности. Она никогда не шутила, но улыбалась нашим шуткам.
В отличие от прочих, она занималась мягкими вантовыми конструкциями, и хотя у нее были серьезные проблемы, никто из нас не мог что-нибудь посоветовать – все остальные были погружены в расчеты арочных плотин. Роза билась на своем фронте совершенно одна. Ее результаты оказались парадоксальными, и шеф уже подумывал о теоретическом обосновании этого удивительного явления, которое он должен был закончить к Розиной защите. Однако защита не состоялась. Однажды ночью, в квартире своих дальних родственников, у которых она жила в Тбилиси, Роза внезапно умерла от таинственной болезни – арахноидита.
Я проплакала всю ночь, представляя, как она одна, раздетая и одинокая, лежит в морге на цинковом столе. Казалось, если бы она лежала дома и кто-нибудь держал ее за руку, дело было бы более поправимым. Наутро приехали родители и забрали тело, чтобы похоронить его на кладбище в Очамчире. Похороны были назначены через неделю. Ведь с Розой должно было проститься множество человек. Неделю они сходились со всего города и съезжались из деревень, чтобы вечерами обойти вокруг открытого гроба, поцеловать ближайших родственников, сидящих на стульях вдоль стен, а потом поцеловать покойницу в лоб и оставить на крышке гроба букет цветов. Приехавших и оставшихся до похорон надо было кормить; соседи собирались во дворе дома, резали кур, пекли хачапури, варили кофе. Мы приехали на похороны в последний день. То, что мы увидели, трудно достоверно пересказать. Уже на вокзале нам охотно и без вопросов показали, как пройти к дому директора школы, у которого скончалась юная невинная дочь. Улица была полна народу, во дворе вообще не протолкнуться. Блеял баран, которого готовились зарезать к поминкам. Пришли не только все, кто когда-нибудь учился в школе, но и родители всех бывших учеников. Съехались не только родственники из деревень, но и их ближайшие соседи. Двор кипел хозяйственной деятельностью. Входящим сразу же давали напиться и предлагали закусить.
Наконец мы вошли в залу. Посредине комнаты на возвышении стоял гроб. В нем лежала наша Роза в подвенечном платье. На груди блестел толстенький золотой крестик. В руке была зажата сторублевая бумажка – щедрая плата Харону. А в ногах – о ужас! – лежали колоды перфокарт – все, что Роза сделала для Хуберяна за годы работы.
Мы посмели только переглянуться. Поцеловали всех, кого следовало, проводили нашу подругу до могилы и не вернулись с кладбища на поминки, потому что опаздывали на обратный поезд в Тбилиси. Мы были потрясены. Подвенечное платье, специально сшитое к похоронам, сторублевка, крест и перфокарты. Всю дорогу домой сквозь приличную случаю и вполне искреннюю печаль прорывались вспышки смеха и молнии неуместного веселья. Мы болтали без умолку. Прикидывали, как скажем Хуберяну, что от программы расчета мягких конструкций не осталось камня на камне, и что он, бедняга, ответит.
Впрочем, Хуберян мне же и поручил восстановить программу, а когда я написала ее заново, там не обнаружилось никаких парадоксов. Результаты полностью соответствовали теории. Жаль, Роза этого не видела.
История телевизора
У меня была родственница – одинокая старушка. Собственно, она была второй женой моего деда. Ее отец, Абрам Берг, был керченским купцом – торговал селедкой в бочках. Потом купил засолочный цех и сильно разбогател. Его селедка была и лучше, и дешевле, чем у других. Детей своих он обучал в гимназии. Дочь Идочка была красавицей и рукодельницей, играла на рояле и рисовала акварелью.
Революция отобрала у них баркасы, бочонки, селедку, дом и все, что можно отобрать. Но красота, образование и хорошее воспитание остались. Идочка удачно вышла замуж за советского работника Эппельбаума, родила ему двух сыновей и заняла в обществе то же место, что занимала при отце. Любимая, красивая, обеспеченная, прекрасно одетая, с хорошими манерами и гостеприимным домом.
История шла своим чередом. В сорок втором году ее муж и двое сыновей погибли на фронте, дом был разрушен, друзья и родня погибли в Катастрофе.
Потом она встретила моего деда. Он происходил из очень простой местечковой семьи, но был высоким, статным голубоглазым красавцем. Так что в 1913 году он проходил армейскую службу в гвардии и даже оказался в Ливадии, где служил в личной охране Великой княгини. По семейной легенде, еврейское происхождение было причиной того, что, сопровождая карету Великой княгини, он скакал всегда сзади, в пыли. А впереди кареты скакали двое стройных, голубоглазых гвардейцев православного вероисповедания.
После службы дед вернулся домой, в Каменец-Подольск, женился на хорошей девушке, завел хозяйство. Служил счетоводом и принадлежал к лучшему еврейскому обществу почтенного города.
Но история шла своим чередом. В сорок первом деда призвали в армию. Он уходил под пули, а жена оставалась дома в безопасности – ведь рядом была семья, друзья, соседи… И дочь должна была вот-вот приехать на каникулы из Ленинграда.
Одиннадцатого августа мою бабку расстреляли вместе со всеми родственниками, подругами и соседями-евреями. Дед остался жив и даже избежал тяжелых ранений. В конце войны у него не было ни жены, ни дома, ни родни, ни друзей. И дочь пропала.
Тут им обоим сверкнула искра удачи: они встретились, Ида Абрамовна вышла замуж за моего деда и была ему хорошей женой. Дед нашел маму и переехал в Тбилиси. Они пристроились в крошечной комнатке в старом тбилисском дворе на улице Клары Цеткин. Он работал бухгалтером в каком-то цеху.
Я помню его, красивого, с прямой спиной, в белом кителе и отглаженных светлых брюках. И туфли были белые, парусиновые. Ида Абрамовна чистила их каждое утро зубным порошком. Все стены их комнаты были увешаны ее вышивками. Среди прочих был даже портрет Максима Горького, выполненный болгарским крестом. Мне ужасно нравилось. На диване лежало множество вышитых ею подушек. Я тогда еще не видела никаких музеев и думала, что именно так они и выглядят.
Потом дед умер, и Ида Абрамовна осталась одна. Она ходила в гости к нам, и мы навещали ее хотя бы раз в неделю, но всё же жизнь ее была ужасно одинока. И тут история преподнесла еще один сюрприз. Появились первые доступные телевизоры, и папа купил для одинокой старушки новенький «Рекорд». В ее комнате опять зашумела жизнь. В красном углу светился экран, и на нем толстый дядька бубнил что-то на непонятном ей грузинском языке. А всё же она была не одна! По вечерам показывали кино. Прямо дома можно было смотреть настоящее кино со звуком!
Как украсилась ее безнадежная жизнь! Впереди забрезжили праздники с Голубыми Огоньками и концертами из Колонного Зала Дома Союзов. Певицы с напомаженными сердечком губами, поджав руки, пели арии из опер. Потные полуголые мужики поднимали штанги и дрались между собой тяжеленными кулаками. Пионеры танцевали народные танцы. Генеральный секретарь ЦК КПСС читал на съезде отчетный доклад…
Иногда кто-нибудь из нас предлагал ей переключиться на второй канал – их было уже два. Или поправить изображение, или хотя бы ослабить звук. Она всегда испуганно отвечала: «Что ты! Как можно! Не трогай! Еще перекрутишь что-нибудь!»
Тетя Маша
В молодости тетя Маша была высокой худощавой блондинкой. У нее были головокружительные романы с грузинскими офицерами, несмотря на чисто русскую внешность, курносый нос, острый язык и полное отсутствие хороших манер. В конце концов блестящий военный летчик, красавец и единственный сын из интеллигентной грузинской семьи умолил ее выйти за него замуж и дал ей свою звонкую фамилию – Метревели. Родители его были в ужасе, но любовь, как известно из пьесы «Ромео и Джульетта», игнорирует родительское мнение.
Несколько лет они пытались завести ребенка и в конце концов удочерили маленькую девочку. Еще через несколько лет выяснилось, что любовь к бесплодной жене слабеет, а к маме остается такой же, как была. Тетя Маша развелась с мужем, но он – уже гражданский летчик – продолжал регулярно навещать ее с ребенком и платить алименты. Чудом этой женщины было то, что все люди, с которыми она встречалась в жизни, навсегда сохраняли к ней острую и необъяснимую симпатию.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: