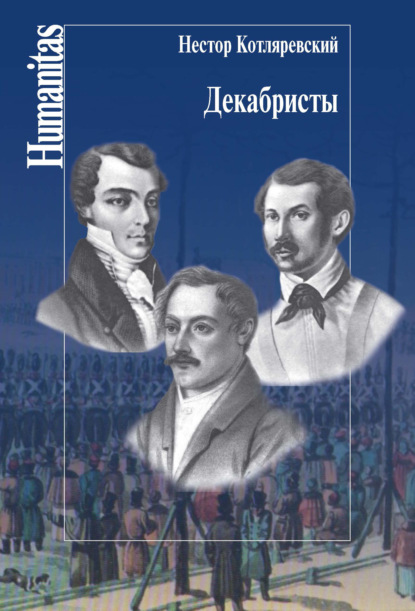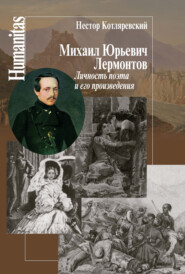По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Декабристы
Жанр
Серия
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Подвиги старых князей киевских и новгородских, восхваление князей-собирателей земли русской, подвиг Ермака, гражданская доблесть Минина и Пожарского, затем Великий Петр и его победы, затем Суворов, пылающая Москва и нашествие галлов, наконец, победы нашего оружия на Востоке, «брак русского царства с Грузией» – все эти кровавые страницы родной истории приходили часто на память нашему мирному поэту, и так же часто поэзия и вымысел заступали в его речах место исторической правды. Иногда, впрочем, он позволял себе помечтать и о грядущем, и тогда его стихотворение выходило столь типично славянским, что под ним охотно подписался бы любой из членов кружка Хомякова. Таково, например, его стихотворение «Славянские девы».
В образе дев рисуется Одоевскому вся великая славянская семья. Быстры и нежны напевы дев ляшских, просты и дики песни дев сербских; дышат любовью и славой песни чешских дев – отчего же все эти девы не поют согласно святые песни минувших времен и не сольют всех своих голосов в единый голос? И отчего так грустны песни старшей дочери в славянском семействе, почему она проводит свои дни как ночи, в тереме, почему заплаканы ее очи? «Отчего ты не выйдешь в чистое поле, – спрашивает поэт старшую сестру, – отчего не разгуляешь своей грусти? Спеши в поле навстречу меньшим сестрам, веди за собой их хоровод и, дружно сплетя свои руки с их руками, запой песню свободы!»
Боже! Когда же сольются потоки
В реку одну, как источник один!
Да потечет сей поток-исполин,
Ясный, как небо, как море широкий,
И, увлажая полмира собой,
Землю украсит могучей красой.
[«Славянские девы»]
В стихах, в которых Одоевский говорил о России, ему приходилось неоднократно вспоминать о том лице, против которого он некогда поднял оружие. За исключением ранних стихов, на которые уже указано, Одоевский во всех своих словах о царе выдерживал тон восторженного почтения. Этот тон не был ему насильно навязан обстоятельствами, так как никто не заставлял его говорить об императоре, и если бы он питал к нему прежние враждебные чувства – он мог молчать. Нельзя видеть в этих словах также и умышленной лести, – в словах, которые были сказаны в тесном кругу, написаны для себя и не посланы по адресу.
Впрочем, одно стихотворение Одоевского было написано с прямым умыслом и надеждой на то, что оно дойдет по адресу. Это – известное стихотворение «Послание к отцу» (1836).[118 - Оно ходило по рукам в массе списков. Один список был прислан в редакцию «Русской Старины» крестьянином Самсоновым. (Русская старина. 1875. Т. IX, с. 47).]
Одни укоряли Одоевского за это стихотворение,[119 - В особенности Завалишин, который говорит, что Одоевский раньше наделял царское семейство самыми язвительными эпитетами, а затем написал это стихотворение. Завалишин Д. Декабристы. – Русский вестник. 1884. Т. II, с. 856–857.] другие извиняли его тем, что поэту все дозволяется: и кадить, и льстить, и проклинать, и благословлять – лишь бы он делал это отборными музыкальными стихами. Сам же поэт смотрел на эти стихи как на единственную пилу, которой он мог перепилить железную решетку своей темницы и выйти на волю.[120 - Розен А. Записки. Лейпциг, 1870, с. 364.] Дело в том, что это послание кончалось таким обращением к императору:
Займется ли заря,
Молю я солнышко-царя,
И вот к нему мое моленье:
Меня, о солнце, воскреси
И дай мне на святой Руси
Побыть, вздохнуть одно мгновенье!
Взнеси опять мой бедный чёлн,
Игралище безумных волн,
На океан твоей державы,
С небес мне кроткий луч пролей
И грешной юности моей
Не помяни ты в царстве славы!
– и ходили слухи, что император, растроганный стихотворением, услышал просьбу Одоевского и разрешил ему перевод из Сибири на Кавказ.[121 - Ср. с. 295: «Следует заметить, – справедливо указывает Н. Мазаев, – что эта милость коснулась не одного Одоевского, а одновременно и других декабристов, находившихся с ним в одном разряде». (Сочинения А. И. Одоевского. С. IX).]
Если этот слух верен, то все-таки не должно забывать, что у Одоевского были и другие стихотворения, в которых он говорил о царе в тех же выражениях и которые шефу жандармов не передавались. Заподозрить эти стихи в льстивой тенденции нет основания, да и написаны они к тому же с большой искренностью.
Остается предположить – и в этом не будет никакой натяжки – что у Одоевского, как и у многих других его товарищей, очень скоро после катастрофы исчезло неприязненное чувство к тому лицу, которое их так жестоко покарало. И это понятно. Они были врагами не какого-либо лица, а известной системы, известного государственного порядка. Этот порядок не мог в их представлении соединяться с личностью молодого императора Николая Павловича, которого они мало знали; они были свидетелями только единственного и притом самого тревожного дня его царствования; государственная тенденция этого нового царствования определилась позднее, в те годы, когда декабристы не имели уже возможности пристально следить за ее развитием. Таким образом, они могли на первых порах лишь с известной натяжкой перенести свою нелюбовь к императору Александру на его брата. Кроме того, при их религиозно-сентиментальном мировоззрении и при их житейской неопытности они могли питать надежду на то, что новое царствование не пожелает повторить или усугубить ошибок прошлого. Наконец, нельзя забывать и того, что известным залогом этой надежды служили те частичные льготы, которыми правительство изредка смягчало непомерно тяжелые условия их жизни.
В 1837 году наследник Александр Николаевич совершил свое путешествие по Сибири. Для Одоевского это событие было поводом к созданию целого ряда патриотических стихотворений («На проезд Наследника Престола» и четыре стихотворения «На приезд в Сибирь Наследника Цесаревича»). Одоевский приветствовал наследника от имени забытой и в опале находящейся Сибири. Если в своих обращениях к императору поэт держался патетически возвышенного тона, то в приветствиях его сыну он этот тон еще более повысил. Его стихи были торжественным гимном в честь гостя, которого Сибирь встречала как исполнителя своих заветных мечтаний о том, чтобы «пришел, наконец, владыко и извел для великого света всех сидящих в узах темноты».
Когда Одоевский писал эти строфы, предчувствовал ли он, какое в них заключалось пророчество? Угадывал ли он, что с именем юноши, приезд которого он благословлял, будет связана память о падении тех «уз темноты», за борьбу против которых погибал он и его товарищи?
Во всяком случае, поэт был преисполнен чувств и надежд самых радостных.
XVII
Мир как воплощение Божьей мысли и воли и как арена для нравственного подвига человека, мир как воплощение красоты вечной и, наконец, среди этого мира Россия с ее настоящей и грядущей славой – вот мысли, которые вдохновляли поэта и вот источник той любви к жизни, которую не могли заглушить в нем печали его личного существования.
Что же дала ему жизнь, ему самому, как человеку, чтобы «воспоминание о ее красоте» могло скрасить его настоящее?
Отметим прежде всего, что вся личная жизнь поэта исчерпывалась, действительно, одними воспоминаниями.
Как недвижимы волны гор,
Обнявших тесно мой обзор
Непроницаемою гранью!
За ними – полный жизни мир,
А здесь я одинок и сир
Отдал всю жизнь воспоминанью —
[«Послание к отцу», 1836]
признавался он тому человеку, которого любил больше всего на свете.
Стихи, в которых он вел эти одинокие беседы со своим прошлым, должны были носить, конечно, характер самый интимный.
В одном грациозном по замыслу стихотворении «Роза и соловей» поэт заставляет соловья жаловаться на то, что роза, склонив печально свою голову, не глядит на него и его не слушает. «Зачем мне слушать тебя? – отвечает роза. – Ты про свою любовь поешь слишком громко, и мне грустно: если ты поешь не для меня одной, то, значит, ты меня не любишь». «Отдай мне всю твою душу, – говорит ей в ответ соловей, – не расточай ее другим, и тогда я буду петь тихо».
Песнь Одоевского о своем прошлом была именно такой тихой песнью любви, в которой и певец, и то, к чему он обращался, принадлежали неразрывно друг другу и в своих беседах не желали иметь свидетелей. «Скромный, пустынный цвет, распустившийся над могилой певца» – вот как сам поэт называл эти свои заветные думы. Но хоть эти цветы и росли над могилой и говорили о смерти, в них, тем не менее, таилось глубокое и сильное очарование жизнью.
Само собою ясно, что о медленном увядании и смерти поэту приходилось думать и говорить очень часто. Еще в Петропавловской тюрьме он писал:
Как много сильных впечатлений
Еще душе недостает!
В тюрьме минула жизнь мгновений,
И медлен и тяжел полет
Души моей необновленной
Явлений новых красотой…
Однообразна жизнь моя,
Как океана бесконечность
Но он кипит… свои главы
Подъемлет он на вызов бури,
То отражает свет лазури
Бездонным сводом синевы,
Пылает в заревах, кровавый
Он брани пожирает след;
Шумит в ответ на громы славы
И клики радостных побед.
Но мысль моя – едва живая —
Течет, в себе не отражая
Великих мира перемен.
Все прежний мир она объемлет,
И за оградой душных стен —
Востока узница – не внемлет
Восторгам западных племен.
[«Дума узника», 1827]
Тюрьма сменилась каторгой, и мысль о настоящем стала еще мрачнее.
Одоевский узнал о смерти Грибоедова и писал:
О дайте горьких слез потоком
Другие электронные книги автора Нестор Александрович Котляревский
Декабристы




 3.67
3.67
Рылеев




 0
0