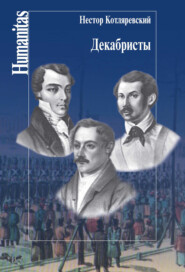По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность поэта и его произведения
Жанр
Серия
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Злой дух коварно усмехнулся;
Зарделся ревностию взгляд;
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
«Она моя! – сказал он грозно, —
Оставь ее! она моя!
Явился ты, защитник, поздно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою…»
Сопротивление, оказанное Демону, было очень слабо; и может показаться странной та поспешность, с какой ангел поторопился, взмахнув крылами, утонуть в эфире неба. Тамара сдалась слишком скоро, и весь последующий ее разговор с Демоном уже не борьба, а ряд нарочно высказанных опасений, с целью в них разубедиться. Весь этот разговор Тамары и Демона – перл блестящей художественной риторики в стиле Виктора Гюго. Психологическая задача, сама по себе очень несложная и обыденная, получает совершенно оригинальную окраску от нагромождения поэтических сравнений, от этого приподнятого тона, от переливов величавой, возвышенной мысли, которые чередуются с мелодичными напевами нежной любви и вновь заглушаются словами вскипающей страсти.
В самом ходе этого любовного диалога особых оригинальных приемов не видно. Сначала очень гордые речи о своей силе и могуществе, затем исповедь побежденного, жалоба на одиночество и на свои печали и, наконец, легкое смущение при напоминании о Боге, смущение, которое ощутил не только Демон, но и сам автор поэмы. На брошенный Тамарою вопрос о Боге ни у того, ни у другого не нашлось должного ответа; но вопрос был предложен как-то случайно, без глубины и тревоги мысли; по крайней мере, сама героиня удовлетворилась первым попавшимся ответом[14 - Этот ответ Демона, что «Бог занят небом, не землей», был в окончательной редакции поэмы пропущен.] и потребовала от Демона только клятвы в искренности его чувств. Остановки за этой клятвой, конечно, не было; она в своей величественной красоте превзошла даже все ожидания Тамары, судя по последствиям, какие она имела. Демон одержал победу и вместе с этой победой утратил вновь и спокойствие, и цель жизни. Житейская драма кончилась, и эпилог был разыгран уже на небе.
Фантастичность этого эпилога и его содержание были Лермонтову продиктованы традиционной легендой. Рай должен был открыться для чистой любви, и начало добра должно было восторжествовать над началом зла[15 - Только в первой редакции поэмы соблазненная демоном героиня делается духом ада.]. Теперь понятно, почему в последней сцене никто не мог узнать привлекательного и даже любезного героя поэмы:
Каким смотрел он злобным взглядом,
Как полон был смертельным ядом
Вражды, не знающей конца, —
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица.
Как символ, противопоставленный ангелу, он и не мог иметь иного вида. Земная оболочка с него упала и остался один бесплотный дух зла и отрицания.
Этот аллегорический эпилог не был таким суровым для Демона в первых редакциях поэмы, т. е. в то время, когда настроение и склад мысли автора соответствовали больше настроению и взглядам Демона. Во втором очерке поэмы Демон совсем не обменивается словами с ангелом, а пролетает мимо:
…над синей глубиной
Дух гордости и отверженья
Без цели мчался с быстротой;
Но ни раскаянья, ни мщенья
Не изъявлял угрюмый лик;
Он побеждать себя привык;
Не для других его мученья!
Стало быть, они не исчезли, эти мученья, и преследовали Демона и после смерти Тамары!
В этом втором юношеском очерке Демон был ближе к земле и психика его была более человечна.
Итак, «Демон», при всей его фантастической обстановке, тесно связан с чисто земным существованием самого автора. Это символ, не заимствованный из книг и разукрашенный воображением, а взятый из личной жизни поэта и заключенный в рамки фантастической легенды.
IV
Лермонтов, перерабатывая свою поэму, не торопился с ее печатаньем. Она ходила по рукам в бесчисленных списках и была принята с восторгом и молодыми читателями, и взрослыми. Восторг этот был знаменательным явлением: он показал, что думы и чувства автора шли вровень с веком. Одна единичная личность, с душой замкнутой и одинокой, объединила в себе многие черты целого поколения. Одного этого факта достаточно, чтобы зачислить «Демона» в разряд очень ценных литературных памятников, несмотря на все его погрешности. Но и недочеты поэмы нравились тогда многим. Туман неопределенных желаний, сильных, но неясных порывов висит иногда над целым поколением и покрывает одинаково и гения, и простого смертного.
Внешняя отделка много способствовала успеху «Демона». Она всем бросалась в глаза и всех ослепляла. Вспомним, что Пушкина уже не было на свете, когда «Демоном» стали зачитываться. Никто из современников Пушкина не мог равняться красотой своего стиха со стихами Лермонтова; да и сам учитель, по природе своей любивший больше простоту, чем блеск, едва ли мог указать в своих произведениях что-либо равное «Демону» по эффектам внешней отделки.
Но «Демон» пленил всех главным образом своим настроением. Туманный герой поэмы сумел вселить в душу читателей какое-то неопределенное настроение, под влиянием которого они, не отдавая себе ясного отчета в сложной психологии героя, могли, однако, чувствовать ее.
«Демон» – новинка по фабуле и ее отделке – не давал, в сущности, нового типа. Читатель того времени не мог отделаться от впечатления, что где-то он встречался с Демоном или с подобными ему образами; он мог, кроме того, заметить и в себе самом некоторое духовное родство с героем поэмы. Действительно, к этому герою примыкал длинный ряд западноевропейских типов, в том числе самые популярные типы поэм Байрона, а в нашей жизни того времени его поддерживал целый круг «романтически», восторженно настроенной молодежи.
Молодежь была неравнодушна к Байрону и французским романтикам, что видно, между прочим, на приеме, какой был сделан писателям, опережавшим эти «романтические» вкусы. Вспомним, что последние произведения Пушкина остались непонятыми; вспомним, сколько труда потратили критики на истолкование произведений Гоголя, и сравним с этим успех романов Полевого и Марлинского, драм Кукольника и популярность целой бездны пьес и повестей с повышенным настроением и фантастическим колоритом.
Русская жизнь сама по себе представляла очень удобную почву для восприятия и дальнейшего развития мятежной тревоги духа, скучающей силы, разочарованной бездеятельности и всех тех кипучих чувств и эксцентричных положений, какие составляют сущность некоторых романтических движений сердца. «Демон», который отразил в себе всю юношескую жизнь Лермонтова и все его юношеское чтение, не мог не быть симпатичным тому поколению, которое увлекалось теми же туманными идеалами и теми же книгами.
Таким образом, наш писатель, сочиняя своего «Демона», не только говорил от своего лица, но, сам того не подозревая, от лица весьма многих.
V
Сказалось ли литературное чтение Лермонтова на его «Демоне»?
Из автобиографического характера этой поэмы, этого символического обобщения детства и отрочества Лермонтова вытекает оригинальность и искренность ее настроения и основной ее идеи. Во внешней отделке, конечно, многое напоминает Байрона; байронические мотивы можно найти в изобилии во всех главах «Демона», но ни одно из произведений Байрона все-таки не может быть названо прототипом поэмы Лермонтова.
В какой мере оригинальна сама кавказская фабула – вопрос спорный; она была присочинена Лермонтовым позднее и потому, конечно, не могла натолкнуть его на характеристику героя. Герой был создан раньше, так же как и главное драматическое положение – столкновение демона с земной женщиной и ее гибель.
Насколько же оригинальны эти основные положения «Демона», т. е. трагедия героя и трагичная любовь Тамары?
Сравнение с некоторыми западными типами, взятыми у различных авторов, убедит нас, что, несмотря на известное сходство, нет прямой зависимости между Демоном и этими типами. Все они родные братья по настроению, только один старше, другой моложе.
Они все выросли на почве общественного и умственного движения конца XVIII века, из той революции во всех областях мысли и чувства, которая наобещала на первых порах так много, а в страшном итоге дала так мало. Принцип свободы и жажда счастия стали источником всех титанических порывов, какими жили идеалисты конца XVIII и начала XIX столетия, точно так же, как крушение всех идеалов и надежд вызвало в этих же восторженных людях острые приступы озлобления, разочарованности, меланхолии и даже мизантропии. В этом столкновении необузданной жажды счастия и самой широкой свободы с внешним и внутренним установившимся строем человеческой жизни кроется начало тех душевных настроений, какие выразились всего отчетливее в героях Шатобриана, молодого Гёте и Байрона.
Наш Демон принадлежит к их орлиной семье. В нем сохранились общие семейные признаки – гордый ум, сила духа и тела, огонь страсти, – но он не знает, как пользоваться всеми этими преимуществами. Этим именно незнанием он и отличается от своих западных родственников, которые, как дети революционного века с определенными общественными идеалами, знали, куда должно было направить свои силы, и страдали только от невозможности приложить их к делу или от сознания, что они были приложены не так, как должно. У нашего Демона таких идеалов совсем нет. Несмотря на свои земные чувства, герой поэмы считал интересы земли нестоящими внимания; ввиду людской ничтожности и мелочности он давно порвал всякую связь с людьми и был занят лишь самим собою.
Главное драматическое положение поэмы, встреча демона с Тамарой, имеет также свои аналогии на Западе.
Драматическая завязка поэмы вытекает естественно из характера самого героя, чем и объясняется сходство многих произведений, друг от друга не зависящих.
Демоническая натура, несмотря на многие привлекательные свои стороны, – натура эгоистическая. Сознание своей силы и величия своих порывов и замыслов умаляет в глазах такого «демона» цену какой бы то ни было жертвы, принесенной ему его ближними. Глубина и острота собственных страданий заставляет его хладнокровно смотреть на страдания других, в особенности если эти страдания не захватывают столь широкого круга чувств и мыслей, какой охвачен страданиями самого героя. Встречаясь с натурой более слабой, демоническая натура обезличивает ее, иногда даже против свой воли, и становится источником ее нравственных мучений, так как предъявляет ей требования, на которые она ответить не в состоянии. Вот почему жизненные столкновения с такими демоническими характерами не обходятся дешево людям обыкновенным и преимущественно женщинам.
Общественное движение, создавшее демонических мужчин, поселило и в женских сердцах жажду свободы. Но героиня была очень консервативна, менее стремительна в своих думах и чувствах, пока еще безмолвна и очень смиренна в сравнении с героем, который, хоть и одинокий в мире, все-таки не отказывался от личной жизни и нуждался в подруге. Сродных по духу взять было негде и приходилось довольствоваться кругом нежных, любящих и слабых женских натур. Отсюда вытекает драматическое противопоставление демона-мужчины ангелу-женщине, контраст, являющийся обычным, повсеместно распространенным рычагом поэм и романов в первой половине XIX столетия.
Еще в XVIII веке встречаем мы целый ряд таких героинь в английских, французских и немецких романах. Эти героини романов Ричардсона и Руссо – христианки, смиренные женщины, отданные на произвол единственной страсти – любви, смешанной иногда с большою долею страдания и сожаления.
Но так как прямой или косвенной задачей романов Ричардсона и Руссо и их прямых последователей была проповедь нравственности и притом довольно узкой, то и главные герои, противопоставленные этим нравственным женщинам, были, в большинстве случаев, люди, характер которых скорее определяется отсутствием известных добродетелей, чем присутствием иных сильных душевных качеств. Таковы, например, Ловелас, герой «Памелы», и Сен-Прё – «Новой Элоизы». Отнимите у Ловеласа его донжуановскую натуру, не останавливающуюся перед насилием, устраните из жизни Сен-Прё некоторые социальные предрассудки – и все эти семейные драмы кончатся картиной супружеского счастья. Во всех героях дореволюционной эпохи нет демонического элемента, того склада характера, при котором покой и счастье невозможны, даже при самых благополучных условиях. В сердце таких героев для сатаны остается мало места. Он вселится в этих людей, когда крушение великих надежд ляжет на них всею тяжестью.
Пример тому – Рене и его младшие братья. «Рене» Шатобриана многими своими сторонами коренится в действительно выстраданных минутах жизни. Он – родной сын французской революции, и этим все сказано. Запас его душевных сил велик, как велико и его страдание. В его душе живет это чувство недовольства всем и всеми, которое заставляет его бежать от людей, говорить о ничтожестве мира, не находить ничего поучительного ни у древних, ни у новых народов, смеяться над всякой обязательной работой и предаваться мрачным мечтаниям, «сидя у кратера огнедышащей горы». В вопросах религиозных этот человек не может быть назван неверующим; но гордость и жажда великой роли никогда не уживаются с христианским смирением. Мы чувствуем, что для лиц с таким характером возможен лишь один покой – кажущийся покой бури. Дружба и любовь такого человека опасны и гибельны. Он, правда, не совращает невинных, но любовь его не может удовлетвориться обыкновенной страстью; ему нужно что-то особенное, что выдвигало бы его и в этом чувстве из ряда других людей; и Рене любит свою родную сестру, но любовью не братской. Когда он потом берет себе жену из дикого племени, семейная и, по-видимому, счастливая жизнь среди девственной природы не дает ему успокоения. Он бросает жену и доводит ее до самоубийства. Призрак несчастной сестры не покидает его и становится источником того мистического настроения, той скуки и томления, которые окончательно парализуют все его душевные силы.
Если оставить этому типу его эгоистическое самообожание, дать ему возможность более энергично действовать, не в дебрях американских лесов, а в цивилизованных странах, заставить его любить глубже и глубже ненавидеть, со страстью бороться за свои идеалы и затем оплакивать их крушение – то получится тот тип героев, которым Байрон придал такую мрачную красоту.
Оставляя в стороне социальное значение этих типов, возьмем их личную жизнь, и мы увидим, что их любовь – проклятие. Вспомним сначала Сбогара и его возлюбленную, затем Конрада и Медору, Лару и Калед, Селима и Зулейку, Манфреда и Астарту, Альпа и его невесту, Уго и Паризину.
Припомним также Фауста и Маргариту. У Гёте, Байрона и Нодье, как позднее у Мура и Виктора Гюго, Мюссе и других поэтов первой половины XIX столетия, часто будет попадаться эта основная пружина эпических рассказов и драматического действия, это постоянное столкновение сильного мужского характера с женским, более слабым, но всегда более симпатичным. Женщина, исполнив свой долг утешительницы и помощницы, будет смиренно сходить со сцены как мученица своей нравственной чистоты. Ей будет открыто небесное царствие, как в последней сцене Фауста, а невольный или вольный ее мучитель будет страдать и казниться. Но и здесь женщина не покинет его. Любящая, она и за гробом будет ходатаем перед Богом за его искупление. Старый мотив Данте оживет в новых образах.
Образец такой, хотя и тщетной, попытки утешить и возродить к новой жизни падшего духа дан в том подвиге ангельской любви, о котором так нежно говорил в своей знаменитой поэме «Элоа» Альфред де Виньи. Автор этого трогательного рассказа был глубоко религиозный человек – отсюда мягкая христианская окраска его поэмы или, вернее, элегии.
Элоа – ангел, родившийся от слезы, которую проронил Спаситель, когда узнал о смерти Лазаря; существо любящее, мягкое, нежное, способное на ту же высокую степень любви и самоотвержения, какая была освящена его Божественным Родителем. Как Он был послан в мир для спасения грешных, так и для Элоа предназначена многострадальная судьба утешительницы родоначальника всего греха в мире, отверженного и падшего ангела. С этим ангелом встретилась Элоа, когда случайно залетела на землю; он, увидав ее, пленился ею, стал рисовать ей свое царство в самых заманчивых красках, поверил ей тайну своего отчужденного и разочарованного существования и тем, в свою очередь, пленил ее сердце. Ей стало жаль его, и в ней вспыхнуло желание возродить его к новой жизни. Была минута, когда демон, говоря ей о своей любви, был готов принести покаяние и молить Бога о прощении. Наплыв воспоминаний о минувшем блаженстве размягчил его душу. Но это была только минута; злоба и ненависть воскресли в демонической душе с прежней силой, и он, увлекая Элоа с собою в преисподнюю, на вопрос: кто он? – мог ответить только, что «он увлекает свою рабыню и держит в руках свою жертву». Элоа погибает, и никто не приходит ей на помощь.
Но скоро писатели, а в особенности писательницы, обращавшиеся к той же теме женского самоотвержения, стали решать этот вопрос несколько иначе.