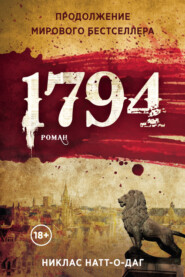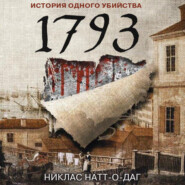По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
1795
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Последний задушенный вопль повешенного, перешедший в угасающее глиссандо предсмертного хрипа.
Винге встал на цыпочки и вертел головой, как заводная кукла.
– Ну что? По-прежнему никого? – спросил он лишенным надежды голосом.
Кардель промолчал. Его внимание привлек некто в плаще и широкополой шляпе с опущенными полями, с бородой. Встретился он с ним взглядом или нет – точно не скажешь, но неизвестный внезапно развернулся и смешался с толпой.
– Вон там… смотрите. У самой виселицы. Видите?
– Сетон?
– Может быть. А может, и нет.
– Тогда быстро. Лучше потревожить постороннего, чем упустить такой шанс.
Они пустились бежать, Кардель впереди. Он рассекал толпу зевак, как нос корабля рассекает набегающие волны. Хотя этой весной он только и делал, что бродил по городу, марш-бросок – нечто совсем иное. Мышцы протестуют, дает о себе знать спина, ломит бедра. Толпа все реже. Скоро он оказался на возвышении, где ничто не заслоняло обзора.
И он его увидел. Бородач быстро, почти бегом спускался по склону. Кардель бросился вдогонку. Вниз бежать еще хуже – каждый шаг, словно ломом по коленям, от пыли слезятся глаза. Сетон, если это он, бежит так, будто сверху летит каменная глыба, и ему во что бы то ни стало надо успеть покинуть смертельно опасную зону. Расстояние между ними пока еще велико, но сокращается с каждым шагом, и гримаса боли на лице Карделя все сильнее напоминает волчью ухмылку: добыча не уйдет. Вон таможня с поднятым по случаю праздника повешения шлагбаумом, а дальше и спрятаться негде: пустырь с редкими, отдельно стоящими хижинами. Свистящий привкус крови во рту, в селезенку будто пику воткнули – плевать. Главное другое: победа близка. Очень близка.
А может, и еще ближе: Сетон остановился у шлагбаума и о чем-то заговорил с одним из прикомандированных по случаю необычного скопления народа полицейских. Показал в сторону преследователя. Кардель оглянулся через плечо: отсюда фигура Винге на висельном холме кажется совсем крошечной. Черт, ему надо бы быть под рукой с его полицейским мандатом. Выругался, побежал дальше и через мгновение оказался в окружении полицейских. Руки в перчатках подняты в предупреждающе-угрожающем жесте.
Кардель попытался что-то объяснить, но запаленное дыхание не дало такой возможности; из гортани вырвался только свирепый, больше похожий на рычание хрип.
Плюнул и сделал попытку возобновить погоню, но куда там!.. Самое малое полдюжины полицейских набросились, скрутили и заставили встать на колени. Унижение придало ему силы, и на какое-то время все, в том числе и он, катались по земле, сцепившись в клубок, где невозможно различить, кто есть кто. Наконец подбежал Винге, тоже задохнувшийся. Не сразу удалось ему вылить масло на водоворот тел, успокоить дерущихся и объяснить, кто есть кто и на чьей стороне право. Полицейские неохотно поднялись и стали приводить в порядок свои мундиры, бросая на Карделя ненавидящие взгляды.
Сетон исчез.
– Это был он?
– Кто ж еще? Бритва у него давно заржавела, бородища как у русского купца, но шляпу свою он потерял, и я… о черт, чтоб его…
Эмиль открыл рот, хотел что-то сказать, но промолчал: понял, что не время.
– Черт, черт… чтоб ему дьявол яйца поотрывал!
Винге кротко кивнул, соглашаясь, – да. Хорошо бы.
Кардель счистил грязь с панталон.
– Все. Ни на что не гожусь.
Они медленно двинулись в город. Винге нервно теребил часовую цепочку.
– Конечно, он, – неожиданно настоял Кардель. – Иначе с чего бы ему так драпать?
– Сетон не один в этом городе, у кого есть причины убегать, если почует, что его преследуют. У каждого второго неоплаченные долги, и кредиторы наступают на пятки. А среди кредиторов если и попадаются добродушные, то редко. Так что лучше удрать, чем пытаться выяснять, есть причина для бегства или нет.
– Нет-нет… я видел шрам. То есть… почти уверен, что видел.
– Наши неудачи продолжаются в геометрической прогрессии, – внезапно сообщил Винге, не заботясь, понял его Кардель или нет. – Мало того что Сетон ускользнул, он теперь еще и знает, что мы его ищем. Все очень плохо, и я боюсь, что будет еще хуже. Нам остается только ждать. Боюсь, скоро мы увидим еще один труп с его фирменной печатью.
– Что? Что нам остается ждать?
– На висельный холм он теперь и носа не сунет. Так что будет искать свои любимые развлечения где-то еще… очень и очень плохо, – повторил Винге. – Мы словно сами приглашаем его разыгрывать спектакли.
Они шли по Почтовому холму. Винге пнул ногой камень, и тот, подпрыгивая, покатился по склону.
– О черт… забери его преисподняя к такой-то матери…
Кардель посмотрел на него с удивлением, потянулся рукой к поясу проверить, не потерялся ли в драке кисет с табаком, и довольно кивнул.
– Вот это да… вы учитесь, Эмиль.
15
Воскресный день. Петтер Петтерссон ненавидит воскресенья всей душой. Колокола по всему городу призывают на воскресную службу, даже ядовито-писклявый колокол в капелле Прядильного дома и тот старается изо всех сил. Еще одна издевка, символ общенационального ханжества, предназначенный только для того, чтобы пробудить в нем муки совести. Ты хуже других, Петтер. Ты намного хуже других. Твое место в аду, а памятью о тебе будет презрение. Ты даже не можешь следовать образу, который сам себе выдумал.
Вот это самое худшее. Молния истины в тщательно оберегаемой и недоступной прочим тьме сознания.
Тяжело сел в постели. Ему показалось, что мозги сделались жидкими и перемещаются в черепе, стараются занять параллельное земной поверхности горизонтальное положение. Так вела бы себя на их месте любая другая жидкость.
Встал и пошел к рукомойнику. Налил воды, опустил лицо в воду и ждал до последнего, когда уже невыносимо загорелись легкие. Потом, набирая воду в горсть, плеснул на шею и живот. Член, как всегда, эрегирован, больно прикоснуться, но он по опыту знает: самоудовлетворение невозможно. Еще один повод для стыда. Только по ночам получает он облегчение, в лихорадочных снах. Просыпается с бьющимся сердцем и с липкими ляжками – как ребенок, еще не научившийся пользоваться ночным горшком.
Почему же так получилось? Сколько ни перемалывает в голове обстоятельства, вывод всегда один: во всем ее вина, этой девки Кнапп.
Дала слово и не сдержала. Врала прямо в лицо. И бросила, как глупого жениха, попавшегося на очередное женское коварство. Сто кругов, сказала. Небось даже и в мыслях такого не держала. Поймала в ловушку.
Это отвратительный обман не давал Петтерссону покоя. Мрачный, с темными кругами под глазами, ходил он по двору и срывал зло на ни в чем не повинных, голодных пряхах. Не раз зажмуривался – стряхнуть наваждение. Часто казалось: вот же она, девица Кнапп. И возвращался в свою комнату, но и там не находил покоя. Рваный, тревожный сон, полный дразнящими мечтами, как могло бы все сложиться…
Пытался найти замену. Упаси бог, если кому-то из заключенных не повезет и она хоть чем-то напомнит обманщицу. Льняные волосы, тщательно скрываемая смелость взгляда. Такую ждет мрачная экзекуция в первый же день, но облегчения она не приносит. Почти все начинают хныкать, стоит огреть плеткой, и через пять минут с ними уже нечего делать, ни на что не годятся. И пока их тащат в больничный флигель, он плетется в спальню – даже дыхание не участилось.
Знает прекрасно – пора взять себя в руки. Слишком много он себе позволяет. Скрывать свои страсти всегда трудно, но скрывать так, чтобы не возникало подозрений, – вряд ли вообще возможно. То, что открылось один раз, никогда больше не станет тайной.
И конъюнктура изменилась. Он посвятил Ройтерхольму длинное затейливое ругательство, а заодно и всем господам, щелкающим на счетах королевской бухгалтерии. Обращались бы поумнее с налогами, его положение стало бы попрочнее. А теперь взялись все пересчитывать. Все подряд, в том числе и квоты на Прядильный дом. Журналы проверяют от корки до корки, спряденную шерсть надумали мерить не в мотках, а в локтях. Даже инспектор Крук, сменивший певуна Бьоркмана, тот самый, который раньше почти не появлялся на службе, предпочитая светские развлечения, ни с того ни с сего начал вникать в дела Дома. Делался красным как вареный рак и начинал орать на него и других охранников на своем шведско-финском, то и дело взрывающемся отборной руганью, диалекте: «Мало прядете, надо повышать квоты». Никто словом не обмолвился, хотя причину знали все – охранники боялись Петтерссона, как огня. Среди них, конечно, особых умников не найти, но даже полному идиоту ясно: какие там квоты, если Петтерссон каждый выходной избивает до полусмерти работницу. Причем выбирает помоложе, от которых самый прок. Больничный флигель забит этими девчонками, трещит по швам. Многие мрут; при таком питании раны заживают плохо и долго, если вообще заживают.
Он пытался предаться другим порокам, чтобы избавиться от даже ему самому казавшейся опасной непобедимой страсти. Напивался до одурения в своей спальне, набивал рот табаком так, что сердце пускалось в галоп и темнело в глазах, – ничто не помогало. Наоборот. Перегонное растворяло даже те тормоза, что имелись. И если какая-нибудь девка нечаянно согнула вилку или валяется в постели в ознобе – тут уж он ничего не может с собой поделать. Мастер Эрик сам ищет его руку – и начинаются танцы. Он считает круги, как всегда. Он всегда считает круги. Но сто… Сто кругов! Она обещала сто кругов – и обманула!
Колокола так и трезвонят, черт бы их побрал.
Но сегодня воскресенье, он трезв – надо держать себя в руках.
Подошел к зеркалу и принял решение, которое пережевывал уже больше недели, а может, и больше. Надо остановиться. Хотя бы на несколько недель. Приглядеть, чтобы выполнялись квоты. Трясясь от страха, много не напрядешь. Хотя бы до осени. Время покажет.
Почистил мундир, потер мылом, постарался вывести, насколько мог, темные пятна. Все. Танцы только по воскресным вечерам, как и требует народный обычай.
С вновь обретенной уверенностью Петтерссон начал методично направлять нож на подвешенном на двери ремне – физиономия должна быть чистой и розовой.
Побрился, провел по щеке рукой и довольно кивнул сам себе.