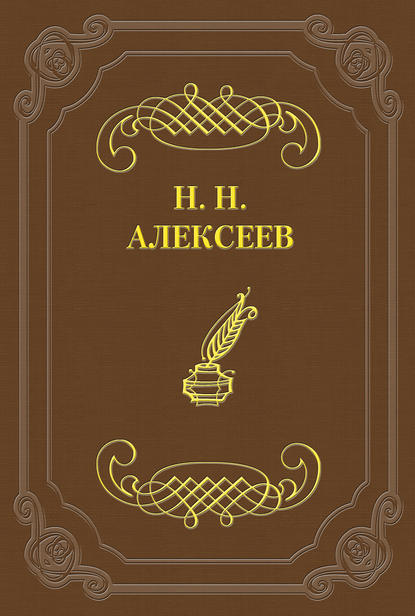По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лжецаревич
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, уж и строят же эти москали изгороди! Гляньте, лазейка какая!
И он совсем близко подошел к «лазейке».
В это время Афоня и Максим Сергеевич были уже в чаще леса – в безопасности; в безопасности, конечно, сравнительной, потому что в лесу были медведи, волки, рыси и иное зверье, но все же это были только злые звери, но не злые люди: последние страшнее!
Лежа в лесу, Златояров смотрел на зарево пожарища и думал, за что преследуют его эти люди? Что он сделал Гоноровому? Ведь он и встречался с паном Феликсом всего раза два у Влашемских, и вот тот однажды уж едва не убил его, теперь разорил родное гнездо и тешился мыслью, что Златояров погиб в пламени… За что? За что?
Горе не умерло в душе Максима Сергеевича, но оно несколько улеглось под напором нового чувства. Это чувство была злоба. Теперь Максим Сергеевич не стал бы в уединении отдаваться печальным думам, ему хотелось борьбы, шума, жизни полной опасности, полной запахом крови убитого врага.
Поутру он вернулся на пожарище. Из слуг Гонорового уже никого там не было.
Мертвый сторож Петр так и закоченел, сидя прислонившись к забору. Когда Максим Сергеевич и Афоня, крестясь, подошли к нему, на них пахнуло запахом тления: он уже начал разлагаться.
Груды обгорелых, дымившихся балок, груда мелких углей, перемешанных с полусгоревшими человеческими костями – останками несчастных холопов – вот все, что осталось от дома Златоярова.
Служебные постройки были почему-то пощажены врагами и не тронуты огнем. Златояров, с радостным изумлением расслышал донесшееся до него ржание любимой лошади. Лошадей у него было несколько – они все оказались налицо. Его удивила такая забывчивость или бескорыстие пана Феликса. Конечно, ему и в голову не могло прийти, что это сделано для отвода глаз кому следует: ничего не похищено, значит, пожар произошел по вине самих пострадавших.
Златояров поспешил воспользоваться «забывчивостью» Гонорового и, взяв себе одну из лошадей, другую отдал Афоне, который, ежась от боли, кое-как взобрался в седло, и отправился в путь. Он не заехал ни к кому из соседей рассказать о своем несчастии и преступлении Гонорового, а поехал прямо в свое другое поместье, где запасся деньгами, оружием и дорожными припасами, и с неизменным своим оруженосцем Афоней да десятком холопов направился туда, куда стекался тогда и стар, и млад, и удалый молодец, и обездоленный жизнью, и разбойник, и честный человек, туда, где развевался стяг царевича Димитрия – в Галицию, в Самбор.
XXVI. Признан
Комната перед кабинетом короля в краковском дворце была переполнена придворными. Давно уже они не съезжались в таком количестве в королевские палаты; всех их собрал исключительный случай: сегодня должен представляться наияснейшему Сигизмунду «московский царевич»; сейчас должно решиться – истинный ли он сын царя Ивана или наглый обманщик, достойный плахи.
Несмотря на многолюдство, в комнате давки нет; нет и шума, слышатся лишь сдержанный говор, полушепот.
– Ты знаешь, пан Войцех, – говорит какой-то залитый золотом вельможа стоящему рядом с ним пану Червинскому, – носится слух, что этот царевич – просто-напросто ловкий проходимец, расстриженный диакон Григорий Отрепьев.
– Откуда взялся этот слух?
– Царь Борис сообщал, говорят, нашему наияснейшему королю.
– Гм… Король разрешит сейчас все сомнения. Если он признает его царевичем, значит, этот, якобы Григорий, и есть истинный царевич. Полагаю, слово короля имеет больше значения, чем какие бы то ни было доказательства?
– Конечно! – поспешил согласиться царедворец. – Во всяком случае, любопытно на него взглянуть.
– Тсс!.. Идет!.. – пронесся и замер возглас.
Гробовая тишина наступила в комнате. И среди этой тишины все явственнее слышался топот ног, по-видимому, более привыкших ступать по мягкой почве полей, чем по лоснящемуся полу королевских палат.
– Топочет, как мужик! – соображали придворные, прислушиваясь к этому топоту.
Глаза всех были устремлены на входную дверь.
Ближе, ближе топот… Через минуту предшествуемый королевским чиновником в дверях появился «царевич».
Первое впечатление, произведенное им на придворных, было неблагоприятно.
Правда, кто знавал Григория-слугу, тот вряд ли узнал бы Григория-царевича: богатый наряд изменил к лучшему его наружность. Но все-таки опытные глаза царедворцев сразу подметили все недостатки его внешности: и рыжеватые волосы, и бородавки на лице, и короткую руку.
Однако, первое впечатление быстро заменилось новым, когда «царевич» вступил в их толпу. Он шел медленно, быть может, несколько тяжеловатой походкой, но величаво. Голова его была гордо закинута, на обыкновенно бледных щеках играл румянец от волнения, прежде тусклые глаза теперь лихорадочно светились. Чувствовалось что-то властное и мощное в этом человеке, чувствовалось, что это – господин, а не раб толпы.
Григорий скользнул взглядом по толпе придворных, и надменные вельможи от этого взгляда почувствовали что-то похожее на робость провинившегося школьника перед строгим учителем, и головы их невольно склонялись несколько ниже, чем следовало перед еще непризнанным окончательно царевичем.
Предшествуемый и сопровождаемый королевскими чиновниками, секретарем короля Чилли, Юрием Мнишком – величавым стариком с лукавыми глазами, – Вишневецким и еще несколькими магнатами, «царевич» направлялся к кабинету короля, слегка кивая на поклоны придворных.
Видно было, как легкая судорога пробежала по лицу «царевича», когда все сопровождающие его отошли, и он, выжидая, пока доложат королю, на мгновение остановился перед дверьми кабинета.
В королевском кабинете находилось в это время двое людей. Один из них – худощавый старик, с гладковыбритым лицом, одетый в шелковую фиолетовую епископскую рясу, что-то торопливо говорил, прерывая свою речь иногда легким старческим покашливанием, другому, одетому в темный бархатный кафтан и маленькую круглую бархатную же шапочку, пожилому человеку, с холодным лицом, с тупым, тусклым взглядом.
Духовное лицо был апостольский нунций в Кракове, Рангони, его собеседник – король польский Сигизмунд.
Король сидел, откинувшись на спинку кресла, и молча слушал нунция, лишь изредка наклоняя голову в знак согласия.
Наконец, он прервал молчание.
– Да, да, святой отец, польза тут и для церкви, и для королевства несомненна, если… если только он не лицемерно выказывает преданность нашей церкви.
– Я уже говорил с ним: в его искренности сомневаться невозможно! – с жаром возразил Рангони.
– В таком случае… – начал король.
В это время ему доложили о приходе «царевича».
Король принял его стоя и, хотя не снял шапки, но приветливо улыбнулся.
Григорий-Димитрий, переступая порог королевского кабинета, побледнел, как снег.
Он низко поклонился королю и поцеловал его руку.
Король разглядывал «царевича». В свою очередь, Григорий некоторое время молчал и смотрел прямо в глаза Сигизмунду. В тусклых глазах короля трудно было что-нибудь прочесть, но зоркий «царевич» успел уловить мелькнувшую в них искру любопытства, и это его ободрило.
«Интересуются мною, стало быть, я им нужен!» – вот, смысл того, что подумал в эту минуту Григорий.
– Итак, я вижу перед собой сына царя Иоанна? – вымолвил король.
– Да, государь! – с живостью проговорил Григорий-Димитрий. – Да, я – истинный сын Иоанна, лишенный отечества, престола, даже пристанища, сохранивший только крест святой на груди своей, данный при крещении, а в груди веру и надежду на Бога да на людей, которые помнят завет Господа помогать страждущим и угнетенным!
Потом Григорий стал рассказывать, как он избег смерти, скрылся в Литву, жил в нужде в постоянном опасении козней со стороны Бориса Годунова. Рассказывая, он сам увлекся, он сам почти верил той вымышленной истории, которую передавал.
Воображение рисовало ему картину преследования, страданий несчастного царевича, и он описывал их своим слушателям в сильных образных выражениях. Он сам в это время переживал все бедствия, о которых говорил, как переживает писатель все душевные движения своих героев прежде, чем изобразит страдания и радости их перед читателем, как должен «прочувствовать на себе» художник или ваятель те людские муки или горе, которые хочет нанести на полотно или иссечь из мрамора, как, наконец, актер на подмостках переживает все волнения героя пьесы.
Речь свою Григорий закончил так:
– Государь! Ты выслушал правдивую историю моих бедствий… Ты сам родился в темнице, тебе также в детстве грозили опасности, и только Бог Милосердный помог тебе… Теперь такой же обездоленный, сирый, бесприютный скиталец, единый потомок царского рода, прибегает к твоей защите и помощи… Государь! Не откажи несчастному!
Последние слова он проговорил дрожащим голосом, со слезами на глазах.
Григорий был предупрежден, что после речи он, по знаку стоявшего у дверей царедворца, должен будет удалиться из кабинета, чтобы оставить короля и нунция посоветоваться наедине.
Другие электронные книги автора Николай Николаевич Алексеев
Розы и тернии




 4.5
4.5
Игра судьбы




 4.6
4.6