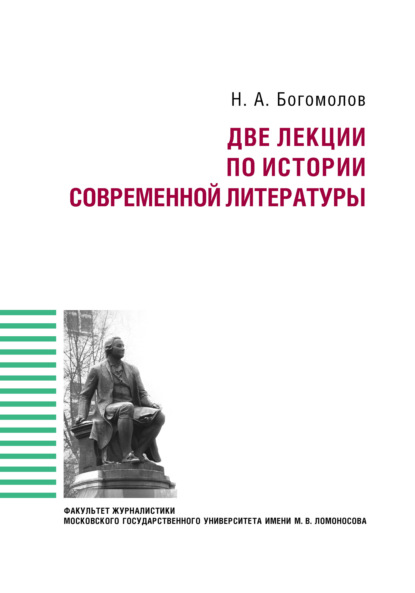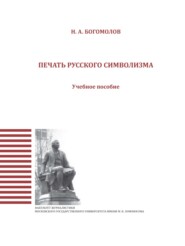По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Две лекции по истории современной литературе
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
. Примечательно здесь не только определение «мемуарный роман», но и горьковские обертоны в разговоре
, на что, кажется, автор нисколько не претендовал. Жизнь как первого, так и второго поверяется собственной жизнью читателя, охотно отождествляющегося с повествователем. Но что делать с таким романом тем, у кого жизненный опыт был совсем другим? Может быть, отнестись к нему как к мемуарному свидетельству – и дело с концом? Кажется, нет.
«Ложится мгла.» держится как единое повествование именно безошибочно выверенным авторским отношением к миру, проступающим словно бы «поверх» сознания протагониста. Антон, равно как и условный «я», – фигуры фиктивные, за которыми скрывается вовсе не мемуарист и даже не автор сегодняшней «Семейной хроники», а сам автор, для которого важно не мемуарное, а художественное начало. В уже цитировавшемся дневнике записан разговор с А. А. Долининым: «Долинин спросил, не у Набокова ли из “Дара” я взял прием перехода 1-го л[ица] в 3-е. – Я не помнил, что это есть в “Даре”. Просто почувствовал, что некоторые пассажи должны исходить от “я”»
.
Кажется, именно этот переход более всего и нацеливает читателя на восприятие романа как романа, а не какого-то произведения из круга non-fiction. Меняющиеся местами Антон и «я» подчеркивают именно фиктивность принципов авторского видения, где важна не «достоверность», а сложная связь пространственно-временных координат романа с предметным миром и сюжетными перипетиями.
Более традиционным кажется путь, избранный в рассказах известного театрального художника Э. Кочергина
. Они как будто не претендуют на что-либо иное, чем искусная запись воспоминаний мальчишки, бродяжничающего по разрушенной войной стране и сталкивающегося с миром карманников, нищих, проституток, инвалидов, алкоголиков, воспитателей детских приютов, легавых, стукачей, мелкой шпаны и многих-многих других. Однако и в его рассказах постепенно создается облик не только причудливых людей (вроде гермафродита Гальваника, проглотившего чайную алюминиевую ложку, вышедшую из него желтой), но и всего этого мира, искореженного злой волей Усатого пахана и его подручных, невероятной войной да и просто прихотями природы, порождающими то одно, то другое гротескное существо, наделенное, в то же время, собственной внутренней жизнью. Характерно при этом, что создаваемый автором мир далек от нарочитой «чернухи», потому что в нем теснейшим образом переплетены отчаяние и нежность, злоба и любовь, простое человеческое дело может быть объявлено преступлением, а преступление – стать естественной жизнью. Едва ли не самый характерный в этом отношении рассказ – «Анюта Непорочная», где рассказчик эпически повествует: «Попал я в эти края (на остров Голодай – Н. Б.) по буквальной нужде. Матушка моя после отсидки по 58-й статье была второй год без работы. Голод не тетка, и мне, загнанному в угол, пришлось вспомнить недавнюю мою биографию. Люди хорошие порекомендовали меня знаменитому питерскому уркагану с выразительной кликухой Мечта Прокурора в качестве пацана-затырщика – помощника, принимающего краденое». И в какой-то момент читатель ловит себя на том, что вместо нормального сочувствия обокраденным он оказывается на стороне вора и его помощников. Едва ли не центральная фраза этого рассказа – «Старик здорово утомился, несмотря на талант и опыт работенка у него была не из легких». И ночное объяснение в любви старого вора и его подруги, не случайно названной «Непорочной», и поминальная тризна (именно так!), и арест Анюты, и уничтожение последнего уголка «старого мира» на Голодае воспринимается не с точки зрения знаменитой реплики Глеба Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме!», а с прямо противоположной. Именно жизнь Мечты Прокурора (к концу рассказа теряющего кличку и становящегося Степаном Васильевичем), умирающего в конце приснопамятного 1953 года, предстает естественной в той стране, которая исказила Божьи и человеческие законы.
Отчасти именно сложное соотнесение автора и героев, только постепенно прорисовывающееся в сознании читателей, делает это представление неотразимо убедительным. Наивный повествователь, как будто бы исполняющий лишь функцию фиксатора событий и речевых формул, на деле оказывается чрезвычайно существенным звеном, определяющим отношения автора и персонажей.
Наконец, последнее произведение, которое станет для нас предметом рассмотрения, – это роман Юрия Давыдова «Бестселлер» (под романом стоят даты 1924–2000; первая из них – год рождения автора; печатался роман в 1998–2000 гг.). Ю. Давыдов первоначальную известность обрел как автор документальной прозы о моряках; некоторое время спустя широко читали его романы о революционерах второй половины XIX века: А. Михайлове, Д. Лизогубе, С. Дегаеве, Г. Лопатине (а также и о не-революционерах – Г. Успенском, об абиссинской экспедиции Ашинова и др.). Но постепенно из этого выкристаллизовалась та тема, которая уже не оставляла его до конца жизни, – тема предательства и провокации, поражавшей в равной степени и революционеров, и тех, кто им противостоял. Поначалу это были теснейшим образом переплетавшиеся между собой Дегаев и Г. П. Судейкин, Лопатин и Азеф. Однако постепенно на первый план в авторском сознании выдвигалась эпизодически уже возникавшая в его романах фигура В. Л. Бурцева, связанного уже не только с разоблачением провокации и предательства в революционном движении, но и с борьбой против большевиков, и с разоблачением провокационной природы «Протоколов Сионских мудрецов». Именно они и есть тот «бестселлер», который стал заглавием последнего романа.
Как хорошо известно, «Протоколы.» стали настольной книгой антисемитов всего мира, и загадка этого феномена заставила писателя прибегнуть к особому построению авторской позиции. Его герой, Вл. Бурцев, посвятил значительную часть своей жизни доказательству того, что этот текст является фальшивкой. Для Давыдова тут нет вопроса. Вопрос в том, почему доказанная фальшивка продолжает покорять воображение все новых и новых читателей. Вопрос в том, как топорно сработанный не слишком искусными мистификаторами текст становится одним из краеугольных камней мифа, за который было пролито столько человеческой крови. Вопрос в том, что делать с этой античеловеческой энергией, выделяемой простой книжкой. Историческая проза становилась жгуче актуальной и требовала поэтому для себя особой реализации.
В значительной степени организация повествования в «Бестселлере» и соответствующая ей организация пространственновременной структуры уже стала предметом анализа в недавней ста-тье
, при этом отчасти была затронута и проблема автора. Однако, как нам представляется, преимущественное внимание к лингвистическим особенностям построения текста приводит к некоторому преувеличению близости автора и персонажа. Э. Лассан стремится показать, что «Текст рождается из понятных только говорящему ассоциаций <…> Их отсутствие и делает текст апрагматичным, не адаптированным к восприятию чужим сознанием»
. Однако более внимательное чтение фрагмента текста, на основании которого сделан подобный вывод, показывает структуру гораздо более логически выстроенную, чем то кажется исследовательнице. Вот хотя бы крошечный фрагмент текста Давыдова: «.и вдруг ты слышишь журавлиный клин над Левашовской пустошью.», вызывающий сразу два вопроса: «Многие ли из потенциальных читателей знают сегодня про место захоронения жертв репрессий вблизи Ленинграда, именуемое Левашовской пустошью? Сразу ли мы интерпретируем журавлиный клин как метафору уходящих из жизни людей?»
. На первый вопрос легко ответить: об этом знает всякий, внимательно прочитавший не только приведенную фразу из третьей части романа, но и вторую часть, где Левашовская пустошь поминается значительно чаще, в том числе и с объяснением: «В тридцатых трупов стало невпроворот, а рук желательных нашлось с лихвой. Тогда и эту пустошь близ станции Левашове, которая от града Ленина близехонько, отдали органам НКВД». И журавлиный клин над Левашовой пустошью в той же второй части романа мелькает постоянно (не говоря уж об известном каждому российскому читателю Давыдова старше сорока лет источнике этой метафорики – песне на стихи Р. Гамзатова, для особо проницательных еще и подсвеченным мандельштамовским «журавлиным клином» из «Бессонница. Гомер…»), и возникает чаще всего в соседстве с судьбой Бруно Лопатина, что позволяет ответить еще на один вопрос Э. Лассан.
Этот пассаж понадобился нам не для того, чтобы уличить автора статьи в невнимательности, а лишь для того, чтобы более адекватно, с нашей точки зрения, понять соотношение авторского сознания в «Бестселлере» с внешними формами повествования.
И в этом романе, как в других, нами рассмотренных произведениях, автор создает иллюзию своего проникновения, впечатывания в роман, иллюзию разрушения единого хронотопа романного мира. Не повторяя примеров Э. Лассан (по большей части вполне убедительных), приведем свой: «В моем архиве – позабытом, петербургском – есть письма восемнадцатого века. Парижские. Их автор – разночинец – указывал жене обратный адрес: улица Иуды, гостиница Иисуса. Выходит, я навязал В. Л. маршрут, дорогу, пункт в соответствии с подтекстом к впереди идущим текстам? Но улица, гостиница давно исчезли в достройках, перестройках, как исчезают государства и режимы. Выходит, господа, ради концепции не пожалеешь и отца? Но, знаете ль, концепцию подрезал, как серпом, Андрей Синявский, бывший зэк, гулявший с Пушкиным под ручку: “Не тот Иуда”, – негромко молвил знаменитый критик, молвил с оттенком снисходительного сожаления, и словно молнией обжег. Федот, да не тот! И верно, в Библии Иуд ни много и ни мало одиннадцать, в том числе Иуда сын Иосифа, брат по плоти Христа. Спросите-ка в своем приходе – старший или младший? – я не знаю».
Кажется, что ссылка на реальный архив и на А. Д. Синявского прорывает художественную реальность, заставляет нас поверить в то, что автор попал в текст в своем натуральном виде. Но эта натуральность тут же уходят, как только мы обращаем внимание но то, что Синявский гуляет с Пушкиным под ручку, то есть предстает в облике автора своего произведения, а не только «знаменитого критика». И «Давыдов», который выстраивает «подтекст к впереди идущим текстам», также становится автором измышленным, сугубо литературным. И читатель, про которого предполагается, что он должен непременно быть прихожанином, да еще там, где ему могут объяснить библейский текст, становится фиктивной фигурой, подставленной для оживления адресации.
Снова автор как конструктор текста обманывает даже опытного читателя, создавая у него иллюзию своего фактического присутствия в романе, но поминутно ускользая оттуда в фикциональное пространство, организованное сложным образом, но отнюдь не заставляющее нас отвергнуть те бахтинские положения, которые цитировались выше.
Русская проза конца XX и начала XXI века, пробуя различные варианты соотнесенности автора и персонажей, все-таки в лучших своих образцах продолжает традиции, заложенные классической прозой, начиная с Карамзина и Пушкина. И в этом, как кажется, один из залогов возможности ее существования.
Примечания
Данная брошюра явилась плодом работы над совместным проектом кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики МГУ и кафедры славянских языков и литератур Стокгольмского университета «Русская проза рубежа XX и XXI веков».
Тиняков Александр. Стихотворения. Томск; М., 2002. С. 4.
Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 2000. Т. II. Статьи о русской литературе. С. 547.
Рекомендуем прочитать книгу: Поликовская Людмила. Мы предчувствие… предтеча… Площадь Маяковского 1958–1965. М.: Звенья, 1997.
См. пионерскую книгу: Митрохин Николай. Русская партия: Движение русских националистов в СССР 1953–1985. М., 2003.
Афористический вид выражение приобрело после появления пьесы Ю. Кима, названной этими двумя словами.
Литературная газета. 1990. 4 июля, № 27.
См.: Литература в эпоху СМИ // Вопросы литературы. 2004. № 4. С. 9–10.
«Современная поэзия – вызов гуманитарной мысли» // Новое литературное обозрение, № 62 (2003, № 4).
Вопросы литературы. 2004. № 4. С. 18.
http://pelevin.nov.ru (http://pelevin.nov.ru/)
Тынянов Ю. Н. Литературный факт. М., 1993. С. 230.
Бахтин М. М. Собрание сочинений. М., 2003. Т. 1. С. 104. Отметим также, что в нашей работе, начатой еще в 1999 г., имеются отчетливые параллели со статьей И. Роднянской «Гамбургский ежик в тумане» (Новый мир. 2001. № 3), писавшейся вне всякой связи с нашей, и некоторая общность в подходах потому представляются довольно существенными. Казалось бы, чисто теоретическая проблема, оказывается на деле касающейся всей русской, а может быть – и всей мировой литературы настоящего времени.
С одной стороны, об этом писал автор данной работы (см.: Богомолов Н. А. От Пушкина до Кибирова: Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М., 2004. С. 443–476), с другой – А. А. Кобринский (О Хармсе и не только: Статьи о русской литературе ХХ века. СПб., 2007. С. 257–270), который прямо говорит о «квазистиховом характере» поэмы.
Говоря «сперва» и «потом» мы, конечно, имеем в виду не хронологическую упорядоченность, а упорядоченность типологическую. Русский рок был современником соц-арта, наиболее знаменитые произведения Сорокина – «нового кино».
Существует довольно значительный ряд исследований, комментирующих подобные произведения и осмысляющих разнообразные возникающие эффекты. Среди первых назовем комментарий М. А. Котовой и О. А. Лекманова (при участии Л. М. Видгофа) к «роману-загадке» В. П. Катаева «Алмазный мой венец», а среди вторых – замечательно тонкую работу М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса «Прототипы одного романа», посвященную «Скандалисту…» В. Каверина (Альманах библиофила. М., 1981. Вып. 10). Обширный материал собран также в разных работах, посвященных прозе К. Вагинова, «Сумасшедшему кораблю» О. Форш, «Запискам покойника» М. Булгакова и т. п.
См.: Мейлах Михаил. Отметина, которая не забывается // EL-НГ. 22 января 2004.
Впрочем, автор в интервью подлил немало масла в огонь, заявив, что отождествимые герои вовсе не отождествимы. См., напр.: «прототипов у этих персонажей нет или почти нет. Иногда я заимствовал оболочку, но начинял ее совершенно иным содержимым. Гриша Гузкин – не Гриша Брускин, совсем нет. От Брускина – созвучная фамилия, бородка и картины с пионерками. Все остальное – выдумка от начала до конца <…> Но уж что касается Сыча и Кулика, это вовсе не связанные фигуры. Я никогда не интересовался Куликом» и т. д. (Влюбленный хорек и демон истории / Беседовал Ян Шенкман // Ex Libris НГ. 2006. 13 апреля).
См. в первую очередь: Немзер Андрей. Когда? Где? Кто? О романе Владимира Маканина: опыт краткого путеводителя // Новый мир. 1998. № 10.
Там же. С. 195.
Тыняновский сборник. М., 2006. Вып. 12. С. 513.
Марченко Алла. В начале жизни школу помню я // Новый мир. 2001. № 5. С. 196. Ср. также мнение Г. С. Кнабе, зафиксированное Чудаковым в дневнике (Тыняновский сборник. С. 532).
Напомним забывчивому читателю, что «Детство», «В людях» и подразумевающееся «Мои университеты» – заглавия отдельных произведений из мемуарной трилогии М. Горького.
Тыняновский сборник. С. 549.
Печатаются с 1992, сперва в «Петербургском театральном журнале», мало известном в литературном кругу; с 1997 – в «Знамени». Первый сборник рассказов «Ангелова кукла» вышел в 2003 (второе издание – 2006).
См.: Лассан Элеонора. «Плюрализм возможен, консенсус исключен»: роман Ю. Давыдова «Бестселлер» в свете «лингвистического поворота» в гуманитарных науках // Новое литературное обозрение. 2006. № 81. С. 293–312.
Там же. С. 309.
Там же.