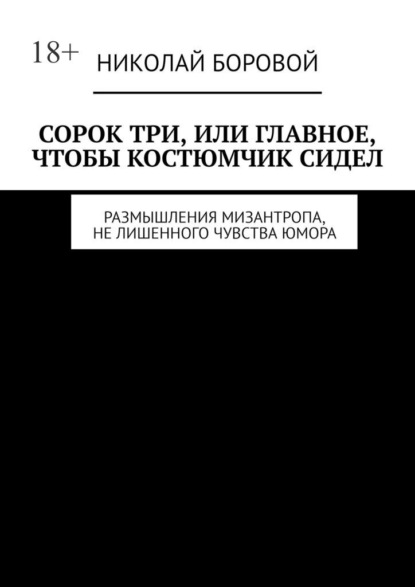По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сорок три, или Главное, чтобы костюмчик сидел. Размышления мизантропа, не лишенного чувства юмора
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Николай Андреевич Боровой
Автор предлагает читателю сборник из пяти эссе и статей, где можно найти саркастический, и полный горечи, как говорится – с «долей шутки», философский шарж о хорошо знакомых всем вещах, которые обычно стараются не видеть, а также публицистику на некоторые актуальные события, общественные и политические…
Сорок три, или Главное, чтобы костюмчик сидел
Размышления мизантропа, не лишенного чувства юмора
Николай Андреевич Боровой
© Николай Андреевич Боровой, 2021
ISBN 978-5-0055-5045-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
СОРОК ТРИ, ИЛИ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
Размышления мизантропа, не лишенного чувства юмора
Знаете, я напишу… Соленый ветер, свободные минуты, поток впечатлений… Я даже не знаю, что это в конце будет… Эссе о жизни, ее дилеммах и коллизиях, обильно приправленное впечатлениями и каждодневным опытом? Поток рассуждений о том, как эти дилеммы в жизни сам решал? Просто стремление освободиться от впечатлений, порожденных разговорами, хождением по Одессе и жизнью изо дня в день – томящих душу и знаковых? А может – рефлексия над жизнью вокруг, которая всегда и неотвратимо, касаясь вроде бы очень повседневных вещей, на самом деле невольно обращается чуть не к последнему, да к тому же, что главное, воплощает в себе нравственное переживание жизни: и вообще, уходящего к смерти, трагического и непостижимого дара, и водоворота социальных и повседневных обстоятельств, обычно и называемого «жизнь», в котором сознание, ощущение ни с чем не соизмеримой ценности этого дара обычно полностью утрачивается, выжигается и стирается, ибо не до того… А может – просто возраст, ведь сорок три, тянет вместе с жизнью и миром судить в первую очередь самого себя, вникать в пройденное и то, что ещё осталось, терзать себя вопросом, как оно совершится… На порядок сильнее, чем в двадцать два, когда пройденного, пусть и случилось в нем важнейшее, что-то огромное, очень мало, а впереди не «осталось», но словно бескрайняя даль, поле битвы и дел, на котором обязательно нужно раскрыть себя и попытаться быть человеком, побороться за что-то главное, не сломаться, самого себя не разменять и не предать, выстоять в соблазнах и ярости бурь, обрести и проложить дорогу, суметь и сделать на ней что-нибудь… Я не знаю, но всё равно напишу, ибо чувствую потребность… Опыт и жизнь, каждодневная, самая вроде бы обычная и даже вульгарная – разве может что-нибудь более научить истине, нравственной мудрости, чему-то последнему и главному, на чем зиждется раз и навсегда совершающаяся дорога? В каждодневном всегда проступает то сущностное, о чем пишут высокоумные трактаты и тома, часто – лживо, строят трудно понятные, в первую очередь самим их авторам обобщения и теории. Я не знаю, что получится…. но давайте посмотрим?
А все начинается с простого.
Захожу вчера на Новый Привоз, в известный на всю Одессу магазин больших размеров и так сказать – «стильной моды». Л…, хозяин и сосед по Люстдорфской дороге, как выяснилось, через две улицы, закомплексованный человек шестидесяти лет, восхитительная смесь еврейской бабушки, узбекского папы-мусульманина и прожитой в Одессе жизни, с первых секунд начинает подпрыгивать, лебезить и всемеренейше угождать, как делает это наверное с кучей «солидных» клиентов, «цвета» южного города – о чем речь, поясню далее… Вплоть до неприязни, честное слово. Дело делают, предполагаю, проклятый солидный вид, вечный со мною, двадцать лет жизни в стране, в которой, при всех недостатках, дано выживать, не растаптывая собственное человеческое достоинство, а само оно не всегда зависит от объема имущества, уровня кредитной карты и машины на паркинге, моя невольная радость от соседства по Люстдорфке и надо полагать, невинный вопрос – вы возьмёте евро по курсу или идти менять? В самом деле – за окном проливной ливень, а в кошельке только триста евро для трат и мелочь. Всё это, включая упоминание о Иерусалиме (треть одесского бизнеса, от магазинов до застроек – израильская), плюс готовность метнуть за раз триста евро, указывает на «серьезного клиента» и становится чередой хрестоматийных, вызывающих восторг комплексов, забавных и подходящих для театрального этюда подпрыгиваний, поз, присказок, стереотипных историй, предназначенных подчеркнуть собственную солидность и прочего, что говорит о желании угодить и крайне неуверенном ощущении себя, причем длится это, учитывая необходимость «подогнать по размеру» и «распарить швы», около часа. С теми клиентами, которых считает «солидными», он видимо всегда так себя и ведет… А мне с какого-то момента становится по настоящему интересно, но ещё более – жалко. Хочется обнять по дружески, спросить – слушай, ты же прожил жизнь, имеешь дом, собственный магазин с товаром на пару десятков тысяч, «двух детей и трёх внуков» (как с особым акцентом подчёркнуто), сын «ездит на пятом мерсе за четвертак», а самого тебя кинули на «полтора лимона зелени» (на этом акцент сделан тройной), то есть со всех статистических социальных мерок, на которые принято разменивать жизнь, достоен и «в топе», так что ж тебя так трясет, от чего корячишься, словно чувство неполноценности скукожило тебя и сделало подобным смятой жестяной банке от пива? Однако, интересно…
Очень многое проступает.
А что?
Серый пиджак очень хорошего покроя надевается мне на плечи с присказкой «все судьи и прокуроры у меня этот немецкий костюм берут».
Разбирает смех и я впервые пристально приглядываюсь к нему, с вниманием и вникая, что неизменно означает – польется ворох мыслей и напишется текст.
Судьи и прокуроры…
Несчастная страна. Изуродованные социальным опытом холуи, из которых главная составляющая их натуры и сути не уйдет никогда. Ведь она засела в них именно глубоко, будучи властью страха и рабством у химеричных значимостей, в котором надёжнее, удобнее, преодолеть которое нет ни сил и нравственной способности, ни достоинства и памяти о том, что человек, ни готовности заплатить нужную цену.
Судьи и прокуроры…
Да кто же не знает, что такое статистический постсоветский судья, адвокат и прокурор, не важно – российский или украинский. Липкие и продажные ничтожества, не стесняясь подпирающие закон, нормы морали, еще способные дойти если не из опыта социальной жизни в стране, где их давно нет, то хотя бы из курса школьной литературы, голос совести, порой заявляющий о себе посреди обыкновенных, ставших каждодневной составляющей жизни и судьбы бесчинств. Статистический украинский судья или прокурор – это собственно тяжкий уголовный преступник, рэкетир и вымогатель, организатор убийств, вор и взяточник, противозаконный владелец многомиллионной собственности, включая предприятия, консалтинг и т.д., либо же, на крайний случай, ко всему этому яростно рвущийся через связи, умение угодить уже набравшим вес и тем, «кто все в околотке решает». Особенно хороши так же таможенные и экологические инспектора, проверяющие стройнадзора, ответственные за выдачу подрядов и разрешений на бизнес и возведение зданий в горуправах, налоговые и пожарные служащие, но судьи и прокуроры – это топ. Преступлений. Быстрого и фантастического обогащения. Социального уважения. Собственно, речь идёт о подонках, которые должны сидеть три пожизненных срока, очень часто – семь, ибо трудно вместить в одну, запертую в одиночной камере жизнь объем преступлений, совершение которых подразумевает эта должность в ее социальных постсоветских реалиях, ценой которых в ней выживают. Я знал одесского владельца сети пекарен, который после четырех лет успешного бизнеса, принеся прокурору района обычную месячную мзду, вместо «хорошо» услышал – «у тебя есть два месяца, чтобы продать мне дело». Сумма равнялась четверти рыночной стоимости, но и это было благородно, по человечески, и через месяц владелицей сети стала жена районного прокурора. Я знал молодого парня, художника из …, которого сделали «содержателем и организатором наркопритона», застав с обычной порцией марихуаны – судья помогла прокурору закрыть статистику по борьбе с распространением наркотиков. Ему дали семь, отсидел он из-за амнистии в честь великого свершения «еврореволюции» половину, став в тюрьме пассивным гомосексуалистом и инвалидом на всю жизнь. В двадцать два ему погубили бумажным и протокольным интересом жизнь. А в двадцать семь он пришел к судье, спросил – ты же знала, что нас до смерти избивали, заставляя подписать протоколы. Знала, что даёшь срок ни за что, без вины, по крайней мере мне. А она, говорит, посмотрела на меня, как на ненормального, и произнесла с сарказмом – так ты что, хочешь теперь, чтобы я посадила следователей, которые вами занимались? Злодеи вешались в муках совести во времена Достоевского. Во времена Ахматовой они уже не считали их дела преступлением и ходили после трудовых будней на всеобщее благо в театр, ибо проект выведения статистической социальной единицы, нацеленной на выживание и преуспевание в аду жизни и реалий общества, уж каково оно есть, вступил в самую пору. Сегодня – это давно устоявшиеся правила игры, норма и условие выживания, маломальского социального и жизненного успеха. И потому никто не почувствует ответственности и мук совести (способность к этому не позволит не то что выжить и продвинуться в системе, а вообще прийти в нее), ничтожеством и «фраером» сочтут любого, в котором что-то такое начнет происходить, но если всё же случится, то дорогой коньяк или вип-бордель, уважение подобных же скотов рядом и почитание жаждущих урвать кусочек холуев внизу решат вопрос. А если станет уж совсем невмоготу, замаячат смерть и суд над собой, то психолог с докторской степенью и тарифом двести евро в час разъяснит, что отчаяние, томление души и желание разрядить табельное оружие в висок – это не слабый голосок человечности, но болезнь, называемая «депрессия», обусловленная усталостью и напряжением от высокой социальной ответственности, и потому надо съездить куда-нибудь хорошо отдохнуть и попить новых таблеточек с серотонином, ибо ненормально не чувствовать счастья вообще, имея же дом, должность, уважение и миллионный доход, семью с несколькими любовницами, и ради подобного, на это растрачивая жизнь, всего лишь кого-то приканчивая заживо и обрекая зазря пропасть, обворовывая и гноя – в особенности. Даже просто как-то странно и почти глупо. Психолог и сам борется за эту гору успеха и счастья, не щадя души и ума, да вот беда – лишь на скромном своем поприще, ибо в избранную еще с давних советских времен касту судей, налоговиков и прокуроров, дельцов и функционеров так просто не попасть, для успеха и атрибутов оного даны только торговля счастьем и кратчайшим, надежным путем к оному. Кому – избавлять от чувства совести и ночных кошмаров солдат, которых общество умело использовало в качестве палачей и карателей, убийц гражданского населения, то есть «патриотов», «верных сынов родины» и «гордости нации», «защитников исторического дома или великих завоеваний национальной революции» (выбрать нужное). Дипломированный американский социолог и религиовед напишет, что совесть и мораль – это сумма императивов, обусловленных обществом и продиктованными оным, конкретными обстоятельствами и ролями, и если ты делал требуемое должностью и социальными обязанностями, то причин для мук и чувства вины нет. Отцы и столпы социологии скажут: нет у социального индивида никакой совести и движимой муками оной личности, подающей подобными муками голос свободы, а есть лишь сумма общих для всех, императивных в конкретном обществе установок, лояльность и следование которым – главный долг и критерий моральности и нормативности. Глашатай психоанализа скажет «совесть – социо-культурный комплекс, а ее муки просто травма», те и другие сойдутся, что должно «откорректировать» или на корню вытравить химеры и травмы, заставляющие мучиться целесообразно, пусть даже кроваво использованного обществом и государством индивида, то есть там, где общество и закон благословили и сказали «можно и должно, делай». Фурия еврореволюции с дипломом кандидата философских наук, процитирует в напутствие идущим рисковать жизнью и убивать солдатам обоих, мол, пусть никакие химеры не останавливают вас в предстоящем святом деле, сама же примется за выстроенную по нормам ВАКА и серьезного, объективно-научного познания докторскую, о чем с загадочной и томной миной сообщит в социальной сети. И выйдет по всем меркам и в уверениях серьезных, солидных и с интеллектом, наверняка не зря получивших степени и сидящих на зарплате людей так, что нет никакой совести и личности, нечему мучить и причин для мук нет, ибо объективно есть лишь социально детерминируемый в поступках, морали и сознании, способе существования индивид, который предназначен для социальной полезности и продуктивности, а на уровне здоровых и нормативных потребностей, сообразных его сути, должен стремиться к успеху, выживанию, процветанию и счастью, приспособлению и эт цетера, причем любой ценой. И потому – мук от совершенного во имя общественных целей и обязанностей ощущать не должен. Однако, если все же, словно в издевку или попытку посмеяться над «объективными истинами» и солидными идиотами, делающими на них себе карьеру, трупы детей и женщин, раскуроченные от выпущенных собственными руками пуль и снарядов станут мучить, обернутся кошмарами и мыслями о петле, то не в средневековье ведь живем и не зря есть на свете белом наука – найдутся сети реабилитационных центров, где дипломированные специалисты, в борьбе за ворох статистического по параметрам жизненного счастья или просто за хлебушек насущный, примутся доказывать себя, демонстрировать работу и «корректировать» по плохо, либо же более-менее выученным теориям дисбалансированную исполнением патриотического и профессионального долга систему, которой, между прочим, еще трудиться, платить налоги, исполнять семейные обязанности и воплощать уйму иных, социально позитивных ценностей и установок. Другими словами – учить, как делать то, что велят и нужно обществу, по шею залазить в дерьмо и кровь, поставленным целям служить наиболее эффективно, но при этом не ощущать вины и ответственности, ни в коем случае не страдать и не испытывать дискомфорт. И вообще – как приносить дар жизни в жертву выживанию и успеху (собственности, зарплате, статистическим меркам благополучия и полноценности, вызывающей страх и уважение должности), выживать в аду и грязи социальной жизни, в водовороте лжи, узаконенных или просто при закрытых глазах принятых как норма преступлений, предательства кажется самого последнего, при этом не страдая и не испытывая колебаний, отчаяния и чувства пустоты. Жизнь и мир – каковы они, а выживать в них и приспосабливаться к этому любой ценой непременно надо, надо-надо, в этом вся цель, суть и сермяжная истина, если вы не в курсе. Это называется «социальная адаптация. А может – просто не посылать солдат совершать преступления, не вызываться на это добровольно, ибо так хлебушек заработать можно надежнее и чуть побольше, не обрекать человека жить безо всякого смысла, не принуждать поэтому человечное в нем доходить до грани отчаяния и «бунта», катастрофы? Э, да вы докатились! Эдак мир и прогресс рухнут. А котировки, на которых мир стоит?! А индекс Доу-Джонса, у любого по настоящему серьезного человека, обросшего собственностью, инвестициями и ответственностью за рабочие места, не может не вызывать всегда – уважение и интерес, но нередко еще и тревогу?! А как же быть с неизбывной необходимостью во имя престижа родины и стимуляции экономической активности, посылать мотивированное и не знающее колебаний пушечное мясо в Ирак, Сирию или на худой конец – на Донбасс? Это что же будет с миром гуманизма и прогресса, если вдруг станет нужен смысл, жизнь из разменной монеты для химер превратится в ценность, а предназначенная для социальной полезности и продуктивности козявка примется думать, терзаться и задавать вопросы, вздумает решать, не подчиняться и бунтовать, возомнит про какую-то «совесть» и придаст значения смутным мукам оной, поддастся недовольству вещами и жизнью? Да рынок ипотеки итак с трудом выстоял! А как же быть с постоянной и весьма насущной необходимостью превратить человека в вещь и по назначению, подчас весьма брутально использовать его во имя целей общества и государства, власть имущих и их идеологии? Э, нетушки, не дождетесь, «нихт»! Никаких мук совести, исканий смысла, терзаний смертью и чувством ценности жизни. Никакого отчаяния и трагического, подобного надлому недовольства судьбой и наличным положением дел, неприятия царствующего в самых обычных вещах ада лжи, абсурда и нравственной извращенности! Никаких замшелых спекуляций о личности и свободе, драме связанных с ними борений, исканий, конфликтов и эт цетера! Миру социального прогресса и процветания нужны бестрепетные, безразличные к дилеммам совести, трагедии смерти и ценности жизни солдаты успеха, борцы за собственность, свободный кредит, влияние и набор прочих позитивных ценностей, власть которых обещает сохранять котировки и индексы всеобщего благополучия нерушимыми! Не мучимые смутными порывами и терзаниями художники и философы, а эффективные функции в механизме цивилизационной повседневности, статистические единицы труда и потребления, профессионалы на конвейере счастья, производства автомобилей, «объективных истин» или социальных услуг, олицетворенных множеством институтов. Э, нетушки! Слишком много есть необыкновенно важных и полезных целей, ради которых нужно использовать человека, чтобы подобное можно было позволить! Сказано «умри!» – значит пошел, тля, и во имя провозглашенных целей и великого дела сдох. Сказано «убей!», ибо так надо и безо всяких сомнений хорошо – значит пшел убивать и выполнять приказ, чтобы самому пулю в лоб не схлопотать, да не смей ни себя, ни других, для важного дела нужных, смущать терзаниями, вопросами и прочей чепухой! А повезет и выживешь – найдутся натасканные и подготовленные «профи», которые от страданий при воспоминаниях о совершенном зле тебя избавят, докажут, что не зря государство платило стипендию. Сказано «успех все» – так и живи, хороняка, как велят, о ценности раз и навсегда проходящей, размениваемой на пустоту жизни вякать не смей и говори спасибо, что тянешь лямку, умудряешься выжить и выволочь бремя труда и выплат, изощренных хитросплетений лжи, цинизма, предательства и подчас откровенных преступлений, без которого конечно же успеха не достичь и полноценной, достойной социального уважения особью не стать, шиш. Современный мир – мир профессионалов высокого уровня и нет в нем пожалуй высшей чести, чем услышать о себе «профессионал», даже не важно, о чем речь. Кто и что умеет! Одному – учиться и уметь профессионально убивать, другому – профессионально учить не испытывать мук совести и дискомфорта, если все делалось по закону, приказу и необходимости общества, а так же в оправданности моралью оного. Третьему – изобретать в планетарном масштабе схемы маркетинговых мошенничеств, четвертому – умело клепать на конвейере металлические коробки с колесами, которые покупают все остальные, ибо это вопрос комфорта и престижа, пятому – продлевать как можно больше эти ничтожные, лишенные всякого смысла, но социально весьма полезные жизни, бестрепетно уходящие каждым мгновением в небытие, шестому – играть голосом, вещая с хорошо оплаченной кафедры объективные истины, отчего всё должно быть непременно именно так и не иначе, седьмому же – вместе с эротической и детективной, злободневно-политической и другой, коммерчески выгодной продукцией, научившись держать нюх по ветру и разбираться в глобальных тенденциях, схемах, франчайзинге и законах конкуренции, искусно пропихивать на рынке его книги с золотистым заголовком серии «философская классика современности». На том и стоит всё это, процветающее и сверкающее комфортом, олицетворяющее «прогресс», но низложившее ценность человека и жизни до той степени, которую не способно охватить даже слово «ничто».
А всего главнее – счастье. Всеобщее и повальное, тотальное. Всепоглощающее и до корней волос. Должное сохраняться и торжествовать в особенности, когда при отрезвевшем от него взгляде ума, из под масок, стереотипов и ярлыков восприятия, тщательно насажденных, начинает проступать ад. Страшный же опыт мук, которым посреди всего этого кошмара подчас подает голос человеческое – это «депрессия», абнормальность, сбой в жизнедеятельности социально полезной и продуктивной функции. Социальный индивид должен быть деятелен, продуктивен и счастлив, в особенности – счастлив. Даже если его жизнь – ворох статистических подлостей и подонств или пепел исчезающих во имя химер мгновений, вот то самое пресловутое временение над бездной смерти, которое заставляло сорокалетнего Льва Толстого сгорать в отчаянии и чувстве пустоты, требовать смысла и не видя оного, бояться застрелиться или «повеситься между шкапами». У полноценного социального индивида не должно быть колебаний, отчаяния или мук совести, если жизнь его соответствует руслу естественных потребностей, статистическим параметрам успеха и нормативности, а поступки, даже чудовищные по сути, укладываются в соответствующие контексту времени и обстоятельств общественные нормы. Остальное – требующий коррекции «специалиста по человеку» сбой системы, но это поправимо, ибо слава богу – не средневековье и жить учат не Толстые с Монтенями, а люди с правильным и лицензированным общественными институтами взглядом на вещи, серьезные люди. Социальный индивид не может тосковать по смыслу, ибо депрессия и абнормальность ощущать бессмыслицу в соответствующей статистическим параметрам жизни, даже если она похожа на пир во время чумы, на карнавал окутанного экстазом счастья и яркостью аффектов движения в бездну. Да и сама смерть не должна вызывать отчаяния, ужаса или боли, житейское и естественное дело, неотвратимый порядок вещей в мире, где торжествует разумная целесообразность, никаких трагедий и конвульсий! А остальное – «танатофобия», разновидность абнормальности, отклонения в здоровом развитии социального индивида, у которого ничего такого быть конечно же не должно. Чайковский страдал танатофобией – так говорят специалисты по истине и дипломированные профессионалы в торговле счастьем, нормативностью и душевным покоем. Оттого наверное и написал гениальный цикл поздних симфоний, поминальное трио и еще кое-что, с первого раза и не счесть. Всеобщее и тотальное счастье – фундамент мира, где человек превращен в «ничто», в функцию и нигилистичную, безразличную даже к трагедии смерти «вещь», в целесообразную и полезную «глину» для чего-то, социально и глобально, повседневно значимого. Всё, что способно опечалить, лишить покоя и счастья, заставить страдать, сомневаться и видеть вещи иначе, сбить с очевидного и социально успешного, измеряемого объемом приобретенной собственности, полезности и продуктивности пути – априори виновно и ошибочно. Особенно, если речь идет о самом человечном, способном породить конфликт с извращенностью мира и социально-повседневной данностью бытия, шабашем и тоталитарной гегемонией статистических и социально позитивных установок – о совести и разуме, чувстве ценности жизни. Лишь так возможно удержать человека в покорности перед адом абсурда, на который его обрекают. Лишь так, превратив требование всепоглощающего счастья чуть ли не в страшилку, жупел тоталитарной, сбитой кнутом нужды в монолит массы, можно сохранить человека покорным перед судьбой функции, безликой и полезной, подобной «ничто» вещи, над которой торжествуют смерть, социальная целесообразность, беспрекословность химер повседневного и всеобщих ценностей. Лишь так возможно уберечь его от горнила мук, с которыми вступает в права бунт его свободы и духа. Социологический взгляд на человека, его предназначение и суть, бытие и судьбу, извратил и уничтожил человека – это давно не новость, за его рамки выведено собственно человечное, экзистентное и личностное, объемлемое ныне почти смешным и давно забытым понятием «духовное»: совесть и ее муки, сознание собственной ответственности за поступки и жизнь, противопоставляющее социальной среде и данности жизни и подобными муками, поверх социальной нормативности и статистичности становящееся, ужас перед смертью, ощущение трагизма и ценности жизни, сила проистекающих из этого стремлений, приводящих к конфликту с торжеством химер обыденного, в жертву которым жизнь приносится. В гегемонии этого взгляда выведена глубоко нигилистичная, безразличная к главному, сплоченная в покорности и огражденная от опыта личной ответственности, отдаленная от истоков нравственности и человечности масса, ориентированная на «счастье», процветание и успех, погоню за химерами социальных и повседневных значений, которая в стабильных обстоятельствах просто обничтоживает и преступно использует дар бытия, а в условиях критических вполне способна превратиться в орудие и дышащего пафосом высшей и несомненной правоты подельника преступлений, по истине содрогающих. А повальный гипноз счастья, огражденность от дилемм и мук, от сбивающих с социально полезного и продуктивного пути сомнений – основа всего, залог нерушимости того шабаша безликости и социальной статистики, химер социальной повседневности, который является сутью окружающего мира. И торговцам счастьем и наукой «жизни без страданий», всегда поэтому найдется работа. Одним – «на поле», так сказать, зарабатывая опыт и имя, избавляя от мук совести социально лицензированных и благословленных патриотическими и политическими целями убийц, в качестве которых обществу и государству нужно было в определенный момент использовать массу обывателей, доказывая истину, что современный мир есть мир социально полезных и успешных профессионалов. Совсем чмошным – сидеть в центрах социальной поддержки и помогать оставшимся без работы перестроиться, собраться душонками и найти иной, быть может даже более успешный способ прожигать жизнь во имя бремени статистических обязанностей, выплаты ипотеки и борьбы за то, чтобы быть не менее состоятельным и имеющим право на социальное уважение, нежели «судьи и прокуроры». А иному, схватившему истины окружающего мира и науки получше, выпадет в награду за годы пота, добытого профессионального имени и прочего особый и хорошо оплачиваемый почет – ублажать и разрешать муки совести или пустоты в душах судей и прокуроров (бывает, всё же бывает, что и там просыпаются отголоски человеческого!), либо на край – мажорных сынков, которые допились и накололись от отчаяния до очевидного порога и необходимости что-то предпринять. И тут есть шанс прийти к вороху долгожданного счастья чуть более пристойно и главное – быстро. Опять же – еще большее имя, авторитет и репутация, отбоя от клиентов нет. Воин-интернационалист, браво исполнявший долг патриота и сына родины, подобно его визави во Вьетнаме или подобных местах и казусах, мучим кошмарами и посттравматическим синдромом… Отработавший и брутально использованный в общественных целях и нуждах человеческий материал, подает слабый голос бунта и показывает, что речь идет все-таки о человеке, а не о вещи и статистической социальной единице с набором хорошо изученных потребностей и рефлексов. И тут на помощь (за вычетом водки) – техника созидания душевной гармонии и избавления от мук совести, от настигающего сознания ответственности за то, что вершил, пускай даже подчиняясь и от трусости сказать «нет», а не по собственной воле. Ставрогин у Достоевского, хоть был виновен по сравнению со статистическим профессиональным воякой в детских шалостях, искал возможности страдать, растерзать себя искуплением и страданием, чтобы выжить и суметь вернуть разорванную попранием совести связь с жизнью, но современный подход – ведь не средневековье же, в самом деле! – учит просто не испытывать от памяти выжженных деревень, искромсанного человеческого фарша (что же, для общественно и политически полезного дела бывает надо) никаких страданий. А может, лживый и трусливый сукин сын, просто не нужно было соглашаться творить зло, идти против совести, стрелять обученно в безвинных и профессионально, «ковром» и постигнутой в академии по защите родины и исполнению важнейшего долга наукой, выжигать аулы и деревни? А может – отсидеть за неисполнение было бы лучше, не надо было бы потом мучиться кошмарами? А может – вообще другой путь надо было выбрать, памятуя о смерти и ценности жизни, долге совести перед одним, другим и еще очень многим, но не о том, как надежнее и успешнее в жизни и реалиях, уж каковы они, пристроиться? А может быть – вообще нужно иметь силу и решимость жить по совести, как собственная совесть велит, каковы бы ни были соблазны, испытания и цена, довлеющие над душой и комплексами химеры повседневных значимостей, вечная социальная ложь и извращенность жизни и прочее, ведь жизнь одна и придется однажды умирать, держать самый страшный и неотвратимый ответ? «Мы живем, умирать не готовясь, забывая поэтому стыд». Это у Евтушенко никогда не было популярным. А если поразмыслить – так даже и вредно. Что это еще за бредни? Так глядишь – важнейшие химеры социального прогресса и процветания, призванные над человеком целиком властвовать, лягут в стыде и мыслях о смерти во прах и безвинно убивать во имя общественного блага и государственного долга, выживать и преуспевать, оббирая и отжимая, подводя под статью, обо всем этом в тайне мечтать, желая быть не хуже, тратить жизнь на приобретение собственности и столь трепетных в горизонтах прогресса благ, станет чем-то преступным, невозможным. А потому – нет никакой личности и совести, нету борений, сомнений и колебаний, мук совести и самого права на них, все же это, плюс отчаяние и ужас перед смертью, чувство бессмыслицы при взгляде на обычные, зашедшиеся в экстазе успеха и праздника жизни вещи, трагическое ощущение жизни, повседневных реалий и ломящегося от прогресса и процветания мира – «абнормальность» и «депрессия», сбой в развитии и продуктивном функционировании индивида. Социальный индивид должен быть полезен, продуктивен, счастлив и удовлетворен. Здесь давно никому не нужны муки совести и борения свободы и духа, человечность и нравственная сила порывов, созидание и прочие, пока еще не изжитые прогрессом и объективным взглядом на человека и вещи химеры. Здесь давно нужна лишь бестрепетная, покорная и нигилистичная масса мучных червей, статистических индивидов и функций в механизме всеобщего счастья и процветания, безразличная к смерти и ценности жизни, не способная терзаться муками разума, совести и любви, бунтовать и искать, смутно ощущая, что посреди царства прогресса и благополучия, беспрекословных истин и установок, не позволяющих роптать «правил игры», что-то очень и очень, в самой сути и основе «не так», зато готовая, при надлежащих усилиях, не слишком хитрых, но упорных, одобрить и совершить что угодно. Точно – стремящаяся и готовая бездумно, нигилистично, предавая последнее и вообще всё, что будет нужно, разменивать жизнь на химеры, социально выживать и приспосабливаться, бороться за успех и место под его жестоким и кокетливым солнцем. Здесь не нужна созидающая, свободная и нравственная личность, способная отвергать и томиться, страдать и бунтовать, искать и обретать в поисках способность рождать и оставлять на веки вечные чудесное, потрясающее восприятие и ум. Здесь нужны статистические «единицы труда и потребления», умело приспособившиеся выживать в водовороте социально нормативной и императивной лжи, подлости и грязи, бороться за успех, данное на гора доказательство оного и вообще так сказать «место под солнцем». Здоровые социальные единицы, приспособленные к борьбе за выживание и успех в аду извращенного, тем или иным боком тоталитарного общества. Я не думаю, что общество когда-нибудь было иным, философские и нравственные откровения Евангелия убеждают в этом, а сам факт их лишь сказал о том, что исторически заявила о себе личность, социальную данность человеческого бытия способная ощущать именно так. А самым невообразимым адом лжи, узаконенных и нормативных преступлений, превращения подлости в мораль и привычки к подобной подлости – в залог выживания, приспособления и процветания, становились именно те общества, которые провозглашали себя апологетами борьбы за справедливость, объективную истину и исторический прогресс. И потому – в абсолютизации «социального» в человеке и его бытии, социального взгляда на человека как такового, в выведении лояльной данности и реалиям продуктивного социального бытия единицы, вымертвление личности, свободы и совести, трагического опыта разума, чувства ценности жизни и всего остального, что способно не «расстворить» и подчинить диктуемым обществом и повседневностью химерам, а породить конфликт и «бунт», заставить ощутить социальную сторону существования, ее извращенность и ложь злом, стало горизонтом, целью и важнейшей из задач, в реализации которой преуспели немало. О чем уже более сотни лет говорит ад разнообразных социальных и исторических катастроф. Адским царством ориентированного на социальное выживание, приспособление и преуспевание любой ценой «индивида», были уже времена Ахматовой, о чем она с содроганием, удивлением и гениальной интуицией поэтессы и сивиллы и говорила. С тех пор стало не лучше, а хуже, просто как-то основательнее и благополучнее, с умелой культивацией тотальной бездумности, безликости и «счастливости», с доступной возможностью, при определенных усилиях, здоровом взгляде на жизнь и изворотливом уме, способности забветь все человечное и подлинно ценное, дорваться до праздника жизни и обладания ее несомненными, позитивными ценностями, как то собственность, роскошь, карьера не важно в чем, влияние и социальный почет по наличию всего предыдущего. Здесь нужно именно вот это. Это норма и «соль земли», востребованное миром в его победоносных шагах к прогрессу. От созидателей конечно пока избавиться не удалось, ибо трудно так прямо уж быстро искоренить способность человека думать о смерти, любить и ценить жизнь, становиться человеком и быть собой, обладая талантом, выбирать во всем этом и неотделимых от этого муках именно талант и творчество, право на вечность, память и смысл, а не почет «отжимающего» прокурора-мультимиллионера, подельничающего с прокурором в здоровых стремлениях судьи или просящего на нормальную, достойную жизнь министра, норовящего урвать кусочек у их рта в не менее достойных побуждениях подрядчика, журналиста или ушлого имущественного адвоката, «убийцы без ножа». Однако – всё же не средневековье, а век «прогресса и объективного знания». И потому эта порода исключительно опасных, непременно обреченных на вымирание господствующими реалиями и идеалами существ, всемерно ограничена (вопрос «а заработать этим можно?» отрезвит многих), загнана в угол и убеждена в необходимости быть социально лояльной, приучена щекотать и удовлетворять вкусы обывателя и помалкивать о том, что способно сознание, чувствительно-счастливую и довольную душу, мораль и самоуважение оного смутить. Вообще – приучена излишне не вякать, не умничать и не оригинальничать, работать для «народа и производителей благ», ибо они соль, кость и основа всего, не позволять себе чего-то, заключающего вызов социально узаконенному, благословленному всеобщей моралью или статистическими, требующими обязательной дани мифами. А иначе – не яхты, виллы и рейтинг, или просто карьера, успех, всеобщая любовь и имя, но в лагерь, грузить уголь на баржах или писать в стол, правила игры вечны и едины для всех, в них не было места для человечного еще во времена Евангелия и смущающего всеобщий покой бездомного афинского философа, так чего же вы хотите сегодня? Об этом с ужасом кричал Михаил Булгаков, обреченный писать в стол и могший лишь констатировать инфернальный карнавал здоровых, объективных социальных процессов, торжество не имеющего лица, свободы и совести, избавленного от тяжести сомнений и человечных порывов обывательства не просто вообще, а в той исконной сфере личности и духа, где даже запаха, тени его не должно быть, словно бы подтвердивший эту истину собственной судьбой. С его времен все лишь окончательно устоялось и социальная узаконенность и лицензированость, обусловленность и лояльность творчества или поиска истины, отстаивают себя не пулей в лоб, лагерями, публичными обструкциями на собраниях и в печати (в подобных грубостях уже давно нет смысла и потребности), а удавкой выплат, необходимости в социальном процветании и успехе, рабством у химер, трусости и вполне способной погубить повседневной нужды, тождественной праву на жизнь. И избранный московский газпромовский адвокат, пишущий стихи, в равной мере мучимый совестью, возмущением перед реалиями, жаждой свободной жизни и страхом потерять статус, имя и всеобщее уважение, словно повторяя предшественников из советских времен признается, что опасность – не в опричниках с автоматами наперевес на улицах, а во вполне вероятной возможности потерять всё и вместо квартиры в центре, почета и авто, заискивающего рукопожатия серьезных людей, ежегодных поездок заграницу и признанности в кругу «бонз», оказаться обреченным на прозябание и унижение статистического, то есть весьма ограниченного дохода. Да к тому же – при конфузливом посмеивании в глаза остальных, мол, почему и ради чего, главное. Вечное в его сути и и зле обывательство? Царство позитивных и здоровых ценностей социально-повседневного толка, которое стало расчеловечиванием, превращением в норму, закон и соль земли, эталон успеха и целей не человека, если сказать уж по всей совести? Обыкновенность зла, набившая оскомину, но проявляющая себя не в ужасах репрессий и экзальтированных политических митингов, а именно в социально достойном и нормативном обывательстве, в самых привычных социальных реалиях жизни, преуспевания и приспособления, именуемых ее «законом» и заставляющих подчас спросить, а может ли быть иначе, стоит ли лелеять мечту, понапрасну рисковать и бороться ради иллюзий?
И конечно же – вера в боженьку, в дополнение к остальному или даже как стержень и основа всего. О-ч-ч-ень эффективно. Как разновидность релаксации – даже поэффективней «классической техники» будет. А что? Смерти нет, по настоящему отвечать за совершенное зло и мириады погубленных в принятии «правил игры», выживании и погоней за успехом мгновений жизни не перед чем, молитвы же по воскресеньям, пятницам или субботам, умиленный и полный благочестивого трепета взгляд на блестящие купола и иные святыни внушит могучую надежду, что с тем, кто «там» (он безусловно есть, ведь все «хорошие» нерушимо верят, а сомневаются и не верят лишь сволочи и враги родины и собственного народа), в отличие от смерти, разума и совести, договориться получится. И нет ничего, что судило и обличало бы грех преступно и бездумно, нигилистично растраченной во имя социально статистических химер, в водовороте социально нормативных подонств жизни. Так чего же боле? И потому – среди этих, прожигающих жизнь ради успеха, четырех этажных дворцов, «мерседесов-пятерок за четвертак», судорожной жажды социального уважения по праву означенного и иного, выживания и процветания во всем этом адском карнавале ничтожеств и лжи, а так же прочих, несомненных и жизненно здоровых, социально позитивных ценностей, побуждений и установок, то есть у отжимающих прокуроров, подводящих под статью ради отчета судей, служащих «сбу» и «ФСБ», профессиональных патриотичных убийц, страдающих от комплексов владельцев магазинов и пекарен, судорожно завидующих им и пытающихся выжить и урвать кусочек для «достойной», сиречь не слишком хуже и благополучно, удовлетворенно используемой жизни, вера в боженьку о-ч-ч-ень популярна-с. О-ч-ч-ч-ень и о-ч-ч-ч-ень, знаете ли, ибо в отличие от совести и разума, скотскую и безбожную эту жизнь по «понятиям» и словно сам мир вечным социальным «правилам игры» не осуждает, заставляя бунтовать и терзаться, а всемернейше оправдывает. И нигилистичная, со всех мерок узаконенная и благообразная, в самом обычном порядке жизни и вещей попирающая последнее обывательская сволочь, для которой все лишь «ничто» – совесть, достоинство, суд смерти и ценность жизни, которую, «если что-то есть», ждет ад со сковородками без масла, верует в «боженьку» и на разный манер благословляется, вместе с верой одобряя подчас чуть ли не адскую жуть, ощущает себя солью земли и на стороне света, добра и несомненной праведности. Ведь таковы жизнь, мир и общие для всех правила игры. Это – возвращаясь к отжимающим прокурорам, подводящим под статью судьям и выживающим с завистью и почитанием их холуям пониже рангом – социальная норма: жизни, выживания и процветания, морали, не терпящая ропота данность милосердного права сносно и не нищенствуя, быть может даже «полизав сливок», провлачить и использовать отпущенный век. Это – правила игры. Таковы жизнь и мир, надо выживать и всегда так было – что ты еще хочешь? И правда, подумаешь и нехотя признаешь – не только в этой стране, но в той или иной мере везде и всегда было так. Это – жизнь, какова она есть, то есть социальная данность и извращенность жизни, приспособить к которой есть, как известно, русло и цель в формировании полноценного социального индивида. Это, говоря простым языком – закон жизни, который бесчисленные толпы карликов, не имеющих ни желания и сил бороться за что-то другое, ни того, что к подобному побуждало бы, усваивают и передают как основу основ и науку жизни далее, обретая так право приспособиться, выжить и более-менее обустроиться. Социальная данность, ложь и извращенность жизни и судьбы человека, словно мир и сама жизнь вечная (о трагической, страшной враждебности ее совести, свободе и духу, сказано еще в образах Евангелия), приспосабливаться к выживанию в которой особенно настоятельно учат с моральным пафосом именно с тех пор, когда социологический взгляд на человека стал объективной и последней истиной, а выведение социально нормативного и продуктивного индивида, расстворенного в толпе и умеющего с выгодой разделять как важнейший жизненный рефлекс привычку ко всеобще обязательной подлости, превратилось в горизонт и чуть ли не цивилизационное дело. Да, это везде и всегда так. Однако – тут это так в особенности и кажется испокон веков, во всем, чего только не коснись. В двадцать два, имеющие капли совести и достоинства говорили мне «ну так обмани их», а оным мучительным недостатком не обладающие не произносили ничего, просто смотрели с сарказмом и недоуменно, мол «ты что, не понимаешь?» и «как ты собираешься жить?» Ведь правила игры именно таковы и можно либо принять их, прогнуться и сломаться, растоптать себя, все возможности и надежды, примириться с обреченностью на это, но зато получить право выжить, статус и несомненные блага, либо напрасно мучиться и в конце пропасть. «Общество справедливости и свободы», даже на его постсоветском излете, ставило в истоках судьбы именно перед такими дилеммами, но надо быть честным – никогда не было иначе. Об этом говорили и кричали задолго до двадцатилетнего Евтушенко с его «Карьерой». Лев Толстой тем и выжил с его чистотой совести, свободой и взглядом в смерть, что был графом старинного рода, который мог начинать письмо Николаю Второму с «возлюбленный брат мой». Живи он сегодня – его сочли бы депрессивным, страдающим сонмом абнормалий и комплексов «асоциалом», посоветовали бы «в Сибирь, на лесоповал», учиться сермяжной правде жизни, а так же социальной нормативности и здоровой социальной адаптации, то есть бестрепетной привычке к статистическому подонству, холуйству, лизоблюдству и предательству того, что обычно дает право и основания называться «человек». А живи он век назад – непременно на лесоповал или подобно Лосеву, ставшему после яростным диалектиком, учетчиком на Беломор отправили бы. Да, так было всегда. Ставшие журналистами на «Репаблик» недоучки с философским дипломом, в публикации о тоталитаризме затеют от беспомощности разговор о «попрании социальных норм», противореча очевидности, ибо нормой эпохи пика тоталитаризма, беспрекословным моральным императивом в ней были всепоглощающая общественная и политическая лояльность и потому – доносительство, своевременное предательство и отступничество, одобрение и совершение массовых убийц врагов, идеологических оппонентов, классово и национально иных и т.д., собрания с подписями и письмами «не знать жалости и расстрелять». Эта норма, оперируя категориями «императивности», «морали, «объективной истины», «высшего и всеобщего блага» и эт цетера, не оставляла человеку, как говорил В. Гроссман устами инженера Штрума, права на совесть, но не в том дело. Социальная норма и данность существования, на уровне официальных святынь, законов и императивов, либо же как принятая при закрывании глаз практика, в плане нормы морали, поступков и оценок, никогда не была ничем, кроме откровенного подонства и тщательно передаваемой привычки к оному. Лишь такой ценой человеческое существо получало милосердное право выжить, провлачить отпущенный век и может быть даже преуспеть и вкусить вожделенных благ – усвоив лояльность социально узаконенному и востребованному подонству, предательству главного и прочему как закону и науке жизни. Собственно человечное, его императивы, горизонты или хотя бы тень, во все времена привносили в поле сознания, морали и жизни общества личность, способность на путь совести и опыт свободы – страдая и бунтуя, отвергая и в выражении себя, преодолевая страх и решаясь идти против. Впрочем – лишь до определенных пределов и ненавязчиво. Это было известно Шекспиру, у которого Гамлет мечтает о смерти, возможности избавиться от ненавистной, мучительной ноши бытия, именно из-за социальной и нравственной извращенности оного, лжи и преступности мира, в котором оно изо дня в день происходит. Однако, это знали задолго до Шекспира и его откровений и признаний, впрочем – тщательно завуалированных, ибо для достойных обывателей и придворных Гамлет, в котором бодрствуют и кричат свобода, личность и совесть, достоинство и гуманистический разум, просто «сумасшедший». Так испокон веков ощущает социальную данность бытия человеческая личность с ее свободой, опытом совести и ответственности за себя, борений и ужаса перед смертью, обрушения в пустоту и отчаяние и яростной жажды смысла. И потому – во все времена личность, опыт совести и свободы, яростной и сущностной антисоциальности, трагического ощущения бытия и судьбы, либо вымертвлялись, либо же получали милосердное право существовать где-то на последнем краю между социально статистической и нормативной жизнью и бездной, до поры не слишком излишней их навязчивости и дерзости. Это было так именно всегда. Просто здесь, за столетие тоталитаризма, холуйства и подобного безумию «всешного» ханжества, когда хорошо и правда то, что в данный момент считается так, а завтра – посмотрим и разберемся, яростной борьбы за социальное выживание, лояльную и легитимную политически и социально карьеру, капли житейских благ, от лучшего места на нарах и права «чморить» доходяг и политический элемент до московской прописки и еще лучше – ведомственной квартиры в доме на набережной, это вечное, социально императивное, выдвигаемое условием права на жизнь и успех подонство, а так же привычка к оному, даны как-то в особенности, совсем уж налицо, в нравах быдла и интеллигентов поровну (у последних наверное и поболе будет). Жизнь, мир, общество и правила игры таковы, а позитивная социальная адаптация – цель и венец, это вам скажет всякий грамотный психолог и социолог. Это объективная истина, фактическая правда и данность жизни. В человеке нет ничего, что по праву могло бы противопоставить его обществу и данности жизни в оном, диктуемым обществом установкам и морально-ценностным императивам и химерам, барьеры между одним и другим – требующая коррекции «абнормальность» в развитии индивида, а суть коррекции – оное, собственно человеческое, до остатка искоренить и стереть. И значит – вперед выживать, преуспевать и процветать, доносить и предавать, лгать не моргнув глазом и пытливо навострив ухо, не стало ли с утра правдой и ложью что-то иное, да не смей ни роптать, ни страдать от смутных и непонятных причин, мнить и чувствовать, что в этом мире что-то «не так». А как откорректировать, искоренить и стереть? О, на это, как говорил герой «Театрального романа», есть свои средства. Всякий раз разные. Жена Ягоды, к примеру, Ида Авербах, защитила диссертацию по социалистическому воспитанию и перековке классовых врагов и регрессивных элементов в буднях социалистических строек. Во время зрелого Хрущева было принято уже иное, если верить тому же В. Гроссману – дать премию, орден и лабораторию, право работать и не зря проживать жизнь, а потом – просто пойди на собрание и подпиши. И вот кто выдержит искушение и дилемму, сохранит и отстоит право на совесть? В период раннего Брежнева – это отослать Ростроповича спиваться в сибирскую провинцию, а потом через подруг передавать Вишневской – если Славочка завтра письмо против Сахарова подпишет, его восстановят и вернут в Москву. Рыльце в пушку и руки по локоть в дерьме должны быть у всех, по круговой поруке, чтобы не было дерзости вякать и поднимать голову. Закон и данность жизни. Таковы общество и мир. Учись, склони шею и принимай, либо пропади. До сих пор марксистско-ленинские недобитки, памятуя об истинах и мудрости всё же прожитых солидно, социально добротно жизней, неприменут изречь вам – «человек не может быть свободен от общества». Вишневская была крепкой бабой с тяжелой судьбой и знала, что один раз преступи и прогнись – и возврата нет. Но много ли таких? В 80-е не надо было и этого – просто заруби публикацию, диссертацию и карьеру, обреки свободолюбивого и с совестью строптивца, смеющего называть социально узаконенную подлость и ложь своим именем, грузить подобно Довлатову уголь на баржах, вполне хватит. Сил страдать мало, страх велик и хочется «нормальной» жизни. А сегодня не нужно даже и этого – работу сделают нищенство, отсутствие успеха и бремя обычной повседневной нужды, под которым можно просто погибнуть, подобное учит лояльности и лабиринтам социально узаконенной подлости гуманно и необыкновенно доходчиво. Захочешь жить – раскорячишься, «адаптируешься» и приспособишься, научишься и важнейшие задачи в становлении полноценного индивида освоишь. Жизнь и мир улыбаются и раскрывают объятия, общеобязательная ложь и подлость, холуйство и кандалы позитивных ценностей ждут статистических жертв на их алтарь, а барьеры означают лишь комплексы и абнормальность в развитии полноценного и продуктивного индивида. Социологический взгляд на человека, столетняя практика тоталитаризма и селекция продуктивной, нацеленной на выживание и приспособление социальной особи, в этой стране дали какие-то особые всходы, нормативная подлость здесь в особенности ярка и преступна, а статистическая жизнь и успех, элементарное выживание как-то по особенному ее требуют, рождают экстраординарную мораль обывательства и холуйства. Сливки и социальные блага особенно ценны, а преступность обретения оных – вызывает особенное и боязливое почитание. Совок освоится где угодно. Из радетелей светлого будущего в Израиле получаются наиболее пламенные сионисты или вообще ревностные почитатели религиозной традиции. Я знал украинку, которая в коридоре харьковского сохнута кричала «я не поеду к жидам!» и проклинала еврейского мужа-дельца, вместе с которым бежала от следствия, а через полтора года прошла гиюр, зажигала свечки и носила ортодоксальный хабадский парик. Я знал майора НКВД, во время ВОВ занимавшего, как он сам смеялся, генеральскую должность – начальника тыла дальневосточного фронта. Поселившись в 80-т в Иерусалиме, это прошедшее через ад и медные трубы чмо одело кипу и пошло хотя бы стоять вместе со всеми субботнюю молитву в синагогу, пусть даже ни словца не понимая, а на недоуменный вопрос «зачем?!», оно окинуло суровым взглядом и сакраментально произнесло – «здесь так принято, надо, чтобы люди тебя уважали и видели, что ты с ними». Выжить, приспособиться и преуспеть где угодно и любой ценой, схватив и приняв правила игры. И если вымертвить личность, совесть и свободу, достоинство и остатки сознания – жизнь единожды и навечно проходит, я за нее отвечаю, то цель вполне и вполне достижима, особь выплывет в любом дерьме и болоте. Из «гэбэшника» выйдет сионист, из мотивированного и служивого коммуняки – молящийся богу еврей, а из антисемитки-хохлушки – правоверная и кошерная хозяйка благочестивого еврейского дома, далее по логике и аналогии. Захочешь жить – раскорячишься. Деды за пирожок с горохом к баланде, три нормы на Беломоре выдавали. Ведь человек – что? Да известно, что.
С каких пор стало так? С каких пор нечто, якобы безоговорочно и по праву, посягает на область последних ценностей жизни, понимания ее дилемм и конфликтов, императивов совести, то есть неприкосновенную вотчину свободы человека, его ответственности за себя, решений и самостоятельной мысли, познания в ней вещей и самого себя? С каких пор нечто претендует на тотальный диктат и авторитет «объективной истины» в области решений, ответственности за себя, познания и понимания себя, определяющих и призванных подчинять существование установок, то есть в пространстве свободы, самостоятельной мысли и проясняемых в ней суждений? Да с тех же, надо полагать, когда человек, действительность и существование в целом стали мыслиться «объективно», то есть тем или иным образом социально узаконено и лицензировано, а вместе со свободой мысли и суждений стала душиться и искореняться свобода решений, свобода нравственной и экзистенциальной ответственности человека за себя. Свобода ответственности перед совестью, разумом и смертью. Свобода личности в самой ее сути, в ее трагизме и глубинной антисоциальности, враждебности структурам социальной обыденности и бытия оной, социально статистического существования в целом. Всегда означающая свободу мышления и собственного разума, которому принадлежит высший вердикт об истине, как одной лишь совести судить о добре и зле.
Селекция в русле «объективных истин», объявшая столетие и судьбы десятков поколений, ставшая воздухом и светом солнца, нравами и законом жизни, ее впитываемой с материнским молоком мудростью, дает свои плоды. И вот, судьи и прокуроры, которые в славной Одессе – всем остальным наука и пример, то есть калиброванные преступники и подонки, с которыми, говоря по чести, оскорбительно воздух делить, в приступе холуйства и желания угодить приводятся за образец социальной респектабельности и солидности. Способность вызывать страх, влияние и преступно добытое богатство, станут в холуйской, того же страждущей душонке образцом социального уважения даже поверх простой житейской трезвости и морали, о высоких материях и речи нет, пересилят что угодно. Богатство и влияние заставят уважать, холуйски подпрыгивать от почтения, даже если куплены страшной ценой и таят за собой подчас невообразимые вещи. Атрибуты бесспорного социального успеха, необходимость выжить и урвать возможное, не то что пересилят, а просто подомнут и растолкут в пыль отголоски совести, достоинства и откуда-то еще странным образом почерпнутых моральных представлений. И так это во всем. Страшная страна, из души которой холуйство неискоренимо, в которой навыворот мораль, ценности и представления о ключевых вещах. Страх и богатство заставят уважать, даже если преступны, а в глубине – не боль, отвращение и сакраментальное булгаковское «яду мне, яду», но почтительная и «бодрящая» зависть, что не у тебя хватило сил, ума и напора. Значит – хотя бы урвать от пирога. Если не денег, подрядов и благ с барского плеча и прочих осязаемых вещей, так хотя бы тень почтения и всеобщего уважения. И факт, что сами Федор Никанорыч-с (судья, прокурор, шавка в виде «заммэра», директор городообразующего завода и т.д.) у меня детей-с языкам учат-с и довольны весьма, одеваются или привычны-с обедать, лечиться и т.д., станет повсеместно повествуемой и подобной ордену гордостью. Страшная страна, в которой морален тот, кто предает и обливает клеветой не всегда, берет по божески и крадет не больше других. Она была такой в страшные времена великих строек, в гуманные времена психушек и партразносов, остается такой и ныне.
И это холуйство, раболепное почитание «сильненьких», влиятельных, пробившихся наверх и богатых, от которых зависит все или многое, подминающее требования совести, справедливые моральные оценки и то последнее человеческое достоинство, которое состоит в верности им, дано далеко не только в рефлексах и ментальности нуворишей, жаждущего праздника жизни и капель счастья и успеха быдла, совсем нет! Жрецы истины, свободы и прекрасного, во власти вековых привычек, больны этим подчас гораздо более. Ах, как же изголялся прозой и стихами не так давно Дмитрий Быков, изъявляя восхищение Суркову, кремлевскому подельнику, идеологу и автору кровавой драмы на Востоке Украины – они-с в пятьдесят лет, выйдя в отставку с капитальцем, информацией и связями, рассказец написали, очевидный талант-с! С миром отпущенный и отставленный от дел «бонза», преступник и подонок, может пригодиться и стать в перспективе соратником, ведь поди знай, как долго продержится его лояльность недавним хозяевам! И тут, как говорится, в тайных надеждах и намекая, надо не терять шанс, вход идут славословие и поэтический панегирик – они-с рассказом разродились, художник и талант-с, а что подонок – не столь уже важно. А как хвастался благородный душой диссидент-либерал на балансе Венедиктов, обличающий кровавый режим, что Путин любит его держать близко и словно перед ним отчитывается в приумножении величия и земель Родины, считает это необходимым! Десятилетиями воспитываемое холуйство, умение принимать ультиматум и социально заданную ложь, подлость и извращенность жизни, здесь не просто «правила игры,» привычка и наука жизни, ее постигаемый и впитываемый закон. Это уже давно вошло гораздо глубже, стало моралью и ментальностью, системой высших и беспрекословных императивов, чем-то подспудно и необоримо властным. И как не клейми тирана и подонка, убийцу собственных друзей, но на прием к нему полетишь с энтузиазмом, подспудно гордый сиятельной близости и реестровому, отрепетированному «бунтарству», а от высшего доверия и желания делиться эмоциями державного сердца вообще – холодок по выгнутой спинке пробежит. И невольно закрадется мысль – отступи завтра от боссов и поменяй цвет, напиши повесть Киселев (этот напишет и сочинит и роман-эпопею, опыта и таланта к созданию фикций хватит), то заигрывать сразу конечно не станут, потребуют убедительного доказательства «либерального покаяния», тем более, что речь идет не о «бонзе», а о шавке, но не так уж нескоро объятья раскроют – открывали и не таким. Глеб Павловский-то ныне – диссидент такой, что держи за рукава костюма.
Страшная страна, в которой вековой принцип «хочешь выжить, что-то суметь, преуспеть и полакать благ, выцыганить ведомственную квартиру на набережной и отдых в Сочи – значит виляй задом, будь лоялен и принимай правила, лги и предавай, подписывай и преступай против остатков достоинства и совести», стал неискоренимым рабством у химер социального влияния и успеха, размытостью в таковом кажется последних моральных императивов и оценок, готовностью подпрыгивать в уважении перед подонком от власти и закона или невольно испытать гордость, что верховный преступник и убийца почтил сиятельным вниманием и доверием. Социальный успех в его осязаемых и бесспорных эквивалентах стоит и торжествует тут над всем – совестью, достоинством, последними барьерами и т.д., список длинен. Самое простое выживание и право жить, не говоря уже об успехе и карьере, всегда подразумевали здесь принятие социальной лжи, преступности и извращенности жизни, этих атрибутов социальной лояльности, как ультиматума, условия и закона, цены и беспрекословной данности. А когда удавка бедности и повседневной нужды, торжествующих химер успеха и процветания стала убедительнее вызовов в кгб, публичных обструкций и прочего, последние колебания, барьеры и ценности, моральные императивы ушли сами собой. Все это подменили успех, влияние и богатство. Это стало моралью, императивом, горизонтами и целью. В аморальное, в отброшенное и нивелированное на уровне статистических установок и тщательно постигаемого закона жизни, превратилось то, что кратчайшему и наилучшему пути к этому способно помешать.
Если верить Евангелию, судьбам философов в бочке или выпивших яд, так это по самой сути и потому – было всегда. Социальная данность и сторона существования всегда и по сути заключают в себе его обезличенность и самоотчужденность, нравственную извращенность и лживость, часто поэтому наиболее трагическую, до предела обессмысленность, будучи враждебными свободе и личности, совести и достоинству, подлинной ценности человека, нередко и парадоксально превращают как таковое существование в нечто, до предела враждебное ему, разрушительное и губительное, лишенное поэтому смысла. Сознание этой истины и пожалуй одной из главных драм человеческого бытия, в христианском опыте настолько сильно и фундаментально, что пусть разными по языку, но едиными сутью и символизмом образами, о подобном чуть ли не кричали итальянский художник Караваджо, Лев Толстой и Михаил Булгаков. Сдается мне, однако, что столетние упражнения по выведению социально нормативного, продуктивного, полезного и здорового члена общества, превращению человека в статистическую единицу труда, потребления и социального функционирования, обкатке социологических идей и представлений об абсолютном примате «социального» – благ и целей, данности жизни, морально-ценностных императивов и установок, лояльной и довлеющей, сплоченной в таких установках среды, сделали это еще более страшным, как бы маски всепоглощающего комфорта и процветания не пытались факты и правду завуалировать. Рабство у химер социального успеха и повседневных благ, которое означает их превращенность в высшую цель и ценность, беспрекословный императив, предназначенность судьбы и жизни человека совершаться ради обладания ими, делает еще более откровенным страшный, трагический закон социальной данности жизни – во имя выживания, приспособления и процветания принять ложь, извращенность и практику нормативных преступлений и подонств, обязанность быть им лояльным, Просто в неискоренимо тоталитарной и нищей стране, где социальное зло жизни, зависимость от «пузатеньких» и при власти, удавка повседневного выживания в особенности довлеют, дорвавшейся до праздника жизни и погони за благами поздно, все это дано ощутить остро и наиболее очевидно, зачастую в самых обычных вещах ото дня ко дню.
И последняя опасность всегда состоит в том, что в человеке могут проснуться проснуться личность и совесть, способность к ответственности за дар жизни, судьбу и самого себя, подлинный разум, от начала любви и совести, трагического ощущения жизни неотделимый. И тогда общепринятое и социально узаконенное, обольщающее и рабски подчиняющее статистические умы и души станет преступным, а социальная данность, извращенность и ложь жизни, означающая право на жизнь и успех, принятые по умолчанию правила игры, предстанет адом и начнет вызывать вопли ужаса, отчаяния и гнева, породит бунт.
Однако, гуманный и безошибочный рецепт давно найден. Захочешь жить – раскорячишься. Удавка нужды, угроза краха и унижения сделают сговорчивым, растопчут и заставят принять правила игры. И лишь тот несчастный, проклятый личностью и свободой, для кого обреченность растоптать себя во имя права на жизнь и социальное обустройство означает гибель, забьется в конвульсиях, взбунтует и будет отчаянно искать выход, возможность иного удела. И может быть найдет.
А заграницей, в обители свободы и цивилизованности то же самое, быть может еще хуже – верьте мытарю и скитальцу. Рабство у химер социальной повседневности и успеха, их безраздельное и освященное идеалами и «объективными истинами» торжество, приносимые на их алтарь, уничтожаемые и сжигаемые в пепел в погоне за ними человеческие жизни, от которых зачастую не остается ничего, кроме кипы фото с путешествиями, выплаченной недвижимости и исчезнувших, канувших в небытие и растворившихся десятилетий статистических забот и «что-то делания». Так статистически, социологически помыслены человек, его предназначение и суть, неповторимая судьба и жизнь. Этим – рынком собственности и труда, карнавалом приобретения и борьбы за успех, приумножения социальных благ и бестрепетного, упоенно счастливого временения над бездной смерти, адом пустоты и рабством у абсурда и химер, жизнь и судьба человека в господствующих представлениях должны быть и давно являются де факто. А опыт трагического ощущения жизни и реалий, голос отчаяния и бунта, которым говорят остатки чувства и сознания ценности жизни и человека, нравственных обязательств, не до конца вымертвленные разум, совесть и любовь, называются специалистами в области человека и объективной истины «депрессией» – не дай бог предназначенная для социальной пользы и целесообразности козявка, средство труда и единица котировок потребления и экономического роста, осмелится роптать и возомнит, что имеет на это право. О ценности человека, святости и ценности его неповторимой жизни, там давно уже не осталось даже тени или признаков памяти, посреди масок прогресса и процветания, гламура и комфорта цивилизованной повседневности, в торжестве социологических представлений и мифов, человек и жизнь с подчас шокирующей явностью, доступной простой честности ума и взгляда, превратились в «ничто». Из личности и творца, обладающего ценностью и достоинством, завораживающей тайной возможностей и надеждами перед лицом смерти существа, человек превращен в реалиях его судьбы в вещь, в статистическую единицу труда, потребления и сводок экономического роста или спада, в функцию механизма всеобщего процветания и благополучия, в «ничто». В существо, способом его бытия и реалиями судьбы отданное во власть смерти, обреченное в отношении к ней на бестрепетность и бессилие, холод нигилистического безразличия, способное находить спасение лишь в бездумности, бегстве и водовороте социально-повседневных и витальных аффектов, дарующих такую возможность. Обреченный на последнюю обессмысленность и обесцененность его существования, он может найти спасение и решение его судьбы и мук, губящих его противоречий и дилемм лишь в одном – не видеть, бежать, прятать глаза от страшной, трагической правды бытия, судьбы и торжествующих реалий. Это ему и предписано в качестве рецепта, счастья и пути. А вот та самая жизнь, которая у любого такова же, как у Рахманинова, Чехова и Льва Толстого, точно так же ценна и неповторима, заставляет дрожать от ужаса перед смертью, разрывает чувством ответственности и желанием бороться, найдя возможность прожить ее творчески, в которой человек не просто имеет право, но обязан быть свободным и ответственным перед лицом смерти, на уровне идеалов и императивов, судьбы и торжествующего положения вещей, превращена в рынок труда, в карнавал функционирования и борьбы за социальные блага, в ярмо рабства у них и повседневной нужды, осенена робкой надеждой сбросить оное хотя бы под самый конец. Сумма взятых кредитов и цена приобретенной на них собственности, даст человеку ощутить его значимость и достоинство, невольно и с удивлением почувствовать, сколько же он оказывается стоит. И единственное – выволакивать бремя химер и рабства у них, обретать эквиваленты успеха, сжигать жизнь во имя труда, обладания респектабельной собственностью и достатком, дарующим подобное статусом, человеку, если не подниматься слишком по лестнице, дано ценой меньшей социальной лжи, извращенности и преступности, имея возможность в значительной мере поберечь себя от этого. Он обладает возможностью выживать, достигнуть успеха, пристойно обустроить карнавал временения над бездной, дотянуться до сливок и благ повседневного и удовлетворенно, при умеренности амбиций использовать, прожигать во имя этого жизнь ценой обычного, полезного и квалифицированного труда. В этом залог относительной стабильности, в которой цивилизованному миру удается прожить уже скоро как век. В молодости, невзирая на все тяготы и испытания, я именно в этом увидел спасение от ада лжи и извращенности, уничтожения себя заживо, на который обрекала жизнь на родине, последнюю надежду и возможность сохранить себя, оставаться и быть собой.