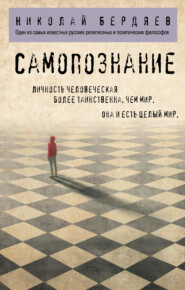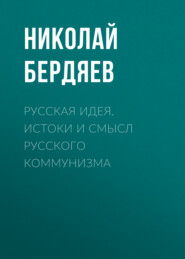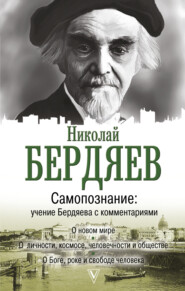По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дух и реальность
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теология со своей системой рациональных понятий может лишь ужасаться, когда мистик Экхарт говорит: «W?re aber ich nicht, so w?re auch Gott nicht».[7 - «Но если бы не было меня, то не было бы и Бога» (нем.).] Или когда другой великий мистик-поэт, Ангелус Силезиус, говорит: «Ich weiss, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben. W?r ich zu Nichts, er muss von Not den Geist aufgeben».[8 - «Я знаю, что без меня Бог не может прожить ни мгновения. Если я превращусь в ничто, он вынужден будет испустить дух» (нем.).] Перевести на свой язык теология этого не может. Язык мистики есть язык любви, а не язык понятий. Ангелус Силезиус хочет сказать, что любящий не может жить без любимого. Когда испускает дух любимый, то и любящий испускает дух, ибо существование держится их любовью. Бог же есть Любящий, он не может и не хочет существовать без любимого. Мистики часто говорили, что Бог и человек соотносительны, соотносительны Творец и творение. Если нет человека, то нет и Бога. Бог рождается, когда рождается человек. Это есть глубочайшая истина духовного опыта, истина, раскрывающаяся в свободе духа. Она не подлежит объективации и не может быть выражена в понятиях. На этом нельзя построить никакой объективной онтологии. Истина мистического опыта встречи человека и Бога в глубине души сталкивается с понятием о Боге как абсолютном и самодостаточном бытии. Но понятие о Боге как абсолютном и самодостаточном бытии не выражает божественной жизни. Это есть лишь объективация, преследующая цели социальной организации религиозной жизни. То, что говорят Ангелус Силезиус и другие мистики, есть парадокс, раскрывающийся в глубине существования, существования, не выброшенного в объективированный мир. Но таким же непонятным для рациональной теологии и онтологии языком говорил и величайший мистик христианского Востока св. Симеон Новый Богослов. «Благодарю Тебя, что Ты, сущий над всем Бог, сделался единым духом со мной неслитно, непреложно, неизменно». «Он весь внезапно пришел, невыразимо соединился, неизреченно сочетался со мной, как огонь в железо и как свет в стекло». И еще: «Я наслаждаюсь его любовью и красотою и исполняюсь божественного наслаждения и сладости. Я делаюсь причастным света и славы: лицо мое, как и Возлюбленного моего, сияет, и все члены мои делаются светящимися. Тогда я делаюсь красивее красивых, богаче богатых, бываю сильнее всех сильнейших, более великим царей и гораздо чистейшим чего бы то ни было видимого, не только земли – и того, что на земле, но и на небе и всего, что на небе». «Я двигаю рукой, и рука моя есть весь Христос, ибо Божество Божества слилось со мной нераздельно». Схожие места можно найти у Таулера, у св. Иоанна Креста и др. Когда теология и метафизика пытаются выразить эти истины мистического опыта, то получается пантеизм и монизм, что всегда оказывается искажением. Подлинная мистика находится по ту сторону противоположения между трансцендентным дуализмом и имманентным монизмом. Мистик совсем не хочет просто сказать, что человек и мир есть Бог, что тварь и Творец тождественны по природе. Мистики описывают бездну между человеком и Богом, падшесть мира, диалогическую борьбу, трагизм духовного пути. Но мистический опыт означает преодоление тварности. Этому преодолению не соответствуют никакие понятия теологии. Теологии это представляется пантеизмом, в то время как это есть что-то совсем иное, динамическое, а не статическое и невыразимое. Пантеизм совсем не есть преодоление тварности. Пантеизм, как рациональная система, есть или акосмизм, отрицание реальности мира и человека, признание их призрачными, или атеизм, отрицание реальности Бога и натуралистическое признание мира божественным и самодостаточным. Пантеизм не нуждается в теозисе, в нем все изначально божественно. Алоиз Демпф, католический философ, в недавно вышедшей книге об Экхарте характеризует его термином «теопантизм» вместо термина «пантеизм». Теопантизм не считает, что все есть Бог, как пантеизм, но считает, что Бог есть все. Теопантизм соответствует термину «панентеизм», изобретенному Краузе. Это искание нового термина показывает только, как трудно выразить мистический опыт на языке теологии и метафизики. Но история человеческой мысли, история мистики умозрительной знает попытку преодолеть границы мысли еще в пределах самой мысли. И ничто так не свидетельствует о могуществе мысли, как это ее самоограничение и этот ее выход за собственные пределы, то, что Николай Кузанский называет docta ignorantia. Я имею в виду апофатическое богопознание.
2
Так называемая апофатическая теология, отрицательное богопознание, защищалась величайшими мыслителями человечества, и она заключает в себе вечную истину. Эта вечная истина означает не что иное, как признание божественной тайны, лежащей в первооснове, в глубине бытия. Если в отношении к бытию возможно образовывать рациональные понятия и можно даже сказать, что категория бытия есть продукт мысли и заключает в себе рационализацию, то это невозможно в отношении к последней Тайне, которая раскрывается не в объективации, а в существовании. Это не означает агностицизма и не должно быть смешиваемо с агностицизмом. Спенсер думал, что в основе мира лежит Непознаваемое, и он готов был даже признать его Божеством. Позитивизм утверждает себя агностицизмом. Но это есть абсолютный и непреодолимый разрыв между человеком и Непознаваемым, которое и не переживается как Тайна. Апофатическая теология мистична, а не агностична, и утверждает совсем иное, она утверждает духовный путь к Божественной Тайне, Непознаваемому, невыразимому в положительных понятиях, утверждает возможность для человека пережить божественное и приобщиться к Нему, соединиться с Ним. Апофатическое богопознание свойственно было индусской религиозной философии, и может быть поэтому оно производит впечатление пантеистическое. Доля истины, заключенная в пантеизме, применима именно к апофатическому богопознанию и совсем не применима к катафатическому богопознанию. Вернее всего было бы сказать, что ошибка пантеизма заключается в смешении апофатического и катафатического, в желании апофатическое выразить катафатически.
Плотин был первым философом средиземноморского культурного мира, который с наибольшей силой выразил истину отрицательного богопознания. В нем была вершина греческой мудрости, получившей духовные прививки мудрости Востока, он выходит уже за замкнутые пределы греческой мысли. Плотин – величайший мистический философ человечества, но не величайший мистик. Духовность, раскрываемая у Плотина, все же ограничена, и безмерно выше и человечнее духовность христианская. Но философски христианская апофатическая теология зависит от Плотина, у отцов церкви она носит неоплатонический характер. Умозрительная мистика Псевдо-Дионисия Ареопагита есть в основных своих чертах повторение Плотина и неоплатонизма. Но Псевдо-Дионисий имел огромное, определяющее влияние на христианскую мистику Востока и Запада, он определил ее классический тип. От Псевдо-Дионисия зависит и св. Максим Исповедник, и св. Фома Аквинат, и Экхарт, несмотря на все их различия. Огромное философское значение в судьбах апофатического богословия имел Николай Кузанский, который стоит на грани двух миров, выходит за пределы античной и средневековой мысли и упреждает философскую мысль нового времени. Плотин уже учил, что к Богу неприменимо даже понятие бытия, что Бог есть сверхбытие. Бог есть Ничто, если бытие есть что-то. Так греческий интеллектуализм, которым проникнут и сам Плотин, выходит за свои пределы и поднимается до более высокой сферы. Нус есть посредствующая ступень между множественным миром и Единым. У Николая Кузанского положительное познание приходит к docta ignorantia. Он уже преодолевает греческий и схоластический рационализм раскрытием принципа противоречия, антиномии, который будет играть большую роль в последующей мысли. Бог есть coincidentia oppositorum, совмещение противоположностей, т. е. недоступен познанию, основанному на законе тождества. Мы стоим перед замечательным феноменом в истории духа. Откровение Бога в Библии и Евангелии есть откровение Бога, проявленного в отношении к миру и человеку, Творца и Промыслителя, Бога катафатического. Это есть сфера религиозная по преимуществу, не имеющая отношения к философскому познанию. В мистике же и в мистическом богопознании душа обращена к Богу не проявленному, не открывшемуся в истории мира, к Богу, к которому не применим и образ Творца, к Богу апофатическому. С этим связана самая трудная и мучительная проблема христианской духовности. Как соединить апофатическое и катафатическое понимание Бога в духовном пути? С этим связана проблема личности, проблема любви, проблема молитвы. Исключительно апофатическая мистика отвлеченна, отрешается от множественного мира, от конкретного человека и сталкивается с евангельскими заветами. Прежде чем перейти к христианской мистике, к вершинам христианской духовности по существу, посмотрим, каковы судьбы апофатической теологии в германской умозрительной мистике. Это имеет огромное значение и для мистики и для философии.
Германская мистика есть одно из величайших явлений в истории духа. Экхарт, Таулер, Вейгель, Я. Бёме, Ангелус Силезиус делают выводы из апофатической теологии, которых не было еще у Псевдо-Дионисия и в мистике средневековой. В начале этого духовного процесса лежит экхартовское различение между Gottheit и Gott.[9 - Божество и Бог (нем.).] Результат этого различения потом раскрывается как основная интуиция германской мистики и германской метафизики. В отличие от мысли греческой германская мысль признает, что в первооснове бытия лежит иррациональное, не выразимое в понятиях начало. Тайна, Ungrund. В метафизике это означает преодоление интеллектуализма волюнтаризмом. В теологии это значит, что то, что раскрывается для катафатического познания как Gott, для апофатического познания раскрывается как Gottheit. Cottheit есть сверхбытие, сверхличность, невыразимая глубина, из которой рождается Бог. Богопознание в сущности может быть лишь символическим, оно не может быть понятийным. Об этом всегда свидетельствовали мистики, опирающиеся на духовный опыт. Понятие Бога, выработанное катафатической теологией, всегда носит экзотерический характер. Христианская догматика есть лишь символика духовного опыта. Происходящая в ней объективация духа не может быть признана последней истиной. Мистики идут дальше, но они не оперируют с понятиями, они прибегают к символам и мифам для сообщения своего опыта другим людям. Об Gottheit Экхарта, об Ungrund Бёме не может быть рационального понятия, тут возможно лишь предельное понятие, обозначающее лежащую за ним тайну. Германская мистика делает тот вывод из апофатической теологии, что Божественное Ничто или Абсолютное не может быть Творцом мира. Gottheit не творит, к Нему не применимо никакое движение, ничто похожее на наш мир, невозможны никакие аналогии. Творец и творение коррелятивны, и это уже вторичные категории катафатической теологии. Бог-Творец появляется вместе с творением, и Он исчезает вместе с творением. Я бы это выразил в такой форме: Бог не есть Абсолютное, Бог-Творец, Бог-личность, Бог, вступающий в отношение с миром и человеком, не может мыслиться в той совершенной отрешенности, в которой вырабатывается предельное понятие Абсолютного. Бог конкретный, Бог проявленный соотносителен с человеком и миром. Это есть библейский Бог, Бог откровения. Абсолютное есть предельная Тайна. Это ведет к утверждению двух актов: 1) из Божественного Ничто, из Gottheit, из Ungrund’a в вечности реализуется Бог, Бог Троичный и 2) Бог, Бог Троичный, творит мир. Это значит, что в вечности существует теогонический процесс, богорождение. Это – внутренняя, эзотерическая жизнь Божества. Миротворение, отношение между Богом и человеком есть раскрытие Божественной драмы. Самое время и история есть внутреннее содержание божественной драмы в вечности. Это гениальнее всего раскрывает Я. Бёме. И менее всего это означает пантеизм.
Пантеизм в сущности посюсторонен и порожден мыслью и понятием. По сю сторону, в этом мире, нужно утверждать не монизм, а дуализм. Дуализм же не преодолим катафатически, он преодолим лишь апофатически. Он преодолим, лишь когда снимается объективация. Монизм же, пантеизм остается в объективации. Последняя тайна раскрывается в субъекте, а не в объектности. Это и есть тайна вбирания всего в дух. Германская мистика учит о Seelengrund [10 - Основа (основание, «дно») души (нем.).] как месте соприкосновения с божественным. Но эта основа души выходит уже из всех наших понятий о мире. Мистический опыт есть выход из категорий мира, выход из всякой объективации, выход из всего, к чему применимо понятие. Мистический опыт есть выход из нашего понятия о Творце, и совсем не потому, что происходит отождествление Творца с творением, ибо это оставило бы нас по сю сторону. Ошибочно было бы сказать, что мистический опыт онтологичен, ибо он находится по ту сторону бытия, на котором лежит печать понятия. Наше мышление о бытии имеет слишком сильный привкус натурализма. Дух же есть свобода, а не природа. Свободе принадлежит примат над бытием. Бытие есть остывшая свобода, уже обработанная понятием мысли, оно есть уже объективация. Свобода же есть апофатика. Духовность не допускает рационализации, она по ту сторону рационализированного сознания. Но самая трудная проблема, которую ставит перед нами мистика в самых глубоких ее проявлениях, это проблема личности, личной встречи, личной любви. Мистический опыт глубоко личный и вместе с тем производит впечатление снятия личного бытия, растворения в безличном и сверхличном. Мы увидим, что с этим связано отличие мистики христианской от мистики внехристианской. Христианская мистика есть не только отрешенность, но и воплощенность, конкретность, есть мистика любви.
Приведу некоторые отрывки из германских мистиков, которые свидетельствуют о том, как трудно рационализировать мистический опыт и выразить его в понятиях. Вот что говорит Таулер, которого католики признают наиболее ортодоксальным: «Gott ist ein Geist und die Seele ein Geist, und daher hat sie ein ewiges Zur?ckneigen und Zur?ckschauen in den Grund ihres Ursprungs. Und infolge dieser Gleichheit in der Geistigkeit neigt und beygt sifch der Geist wieder zur?ck in den Ursprung, in die Gleichheit».[11 - «Бог есть дух и душа, а потому ей свойственно вечно нисходить к основанию своего источника и вечно созерцать его. И вследствие этого тождества в духовности дух опять же нисходит и склоняется к источнику, к человеку» (нем.).] Другое место у Таулера еще характернее: «Der Mensch in seiner Ungeschaffenheit ewig in Gott war. Als er in ihm war, da war der Mensch Gott in Gott».[12 - «Человек в своей несотворенности вечно пребывал в Боге. И в то время как он пребывал в Нем, был человек тогда Богом в Боге» (нем.).] У Вейгеля есть очень интересное место для понимания различия между апофатическим и катафатическим богопознанием: «Gott… wird aber entweder f?r sich selbst, absolute betrachtet, ohne alle Kreaturen, wie er in Seiner verborgenen Einigkeit ist, oder respectu creaturarum, wie er sich halt und erreigt in der Offenbarung mit seiner Kreatur. Absolute, allein f?r sich selbst, ohne alle Kreatur, ist und bleibt Gott personlos, zeitlos, st?ttelos, wirkungslos, willenlos, affektlos, und also ist er weder Vater noch Sohn noch heiliger Geist, er ist die Ewigkeit selber ohne Zeit, er schwebt und wohnt in sich selber an jedem Ort, er wirkt nichts, will auch nichts, begehrt auch nichts. Aber respektive d. i. in, mit und durch die Kreatur wird er pers?nlich, wirkend, wollend, begehrend, nimmt Affekte an sich… Da wird er zum Vater und wird zum Sohne und ist der Sohn selber, er wird zum heiligen Geiste und est selber der hl. Geist, er will, wirkt und schafft alle Dinge».[13 - «Ведь Бог… рассматривается или как существующий сам по себе, абсолютный, без всякого творения, каким он пребывает в своем сокровенном Единстве, или как творящий, каким он предстает и обнаруживается в Откровении перед своим творением. Абсолютный, существующий лишь сам по себе, без всякого творения, Бог является и остается безличным, вне времени и места, бездействующим, безвольным, бесчувственным, и, следовательно, он ни Отец, ни Сын, ни Дух Святой, он сама вечность без времени, он парит и живет в самом себе в каждом месте, он ничего не делает, а также ничего не хочет и ничего не жаждет. Но в отношении к творению, т. е. в нем, с ним и через него, он становится личностным, действующим, волящим, он наделен аффектами… Тогда он становится Отцом и становится Сыном и есть сам Сын, он становится Духом Святым и есть сам Дух Святой, он хочет, действует и создает все вещи» (нем.).] Наибольший интерес, может быть, представляет Ангелус Силезиус, великий мистик-поэт, который никогда не был осужден католической церковью. Для Ангелуса Силезиуса, как, впрочем, и вообще для германской мистики, характерно, что он не может остановиться ни на чем конечном, всегда идет дальше: «Ich muss noch ?ber Gott in eine W?ste ziehen». «Wenn ich mit Gott in Gott verwandelt bin». «Ich selbst muss Sonne sein, ich muss mit meinen Strahlen das farbenlose Meer der ganzen Gottheit malen». «Das gr?sste Wunderding ist doch der Mensch allein: er kann, noch dem ersmacht, Gott oder Teufel sein». «Wer zu Gott will, muss Gott werden».[14 - «Я должен еще поверх Бога отправиться в пустыню». «Я столь же велик, как и Бог, он столь же мал, как и я». «Если я вместе с Богом претворен в Бога». «Я сам должен стать солнцем, я должен окрасить своими лучами бесцветное море всего Божества». «Самое большое чудо – это все же лишь человек: он может, применив усилия, стать Богом или дьяволом». «Кто стремится к Богу, должен стать Богом» (нем.).] Рациональное мышление теологии и метафизики всегда будет иметь тенденцию истолковывать эти места из мистиков как монизм, пантеизм, тождество Бога и человека. Но это только свидетельствует о беспомощности мысли перед тайной отношения между человеком и Богом, раскрывающейся в мистическом опыте. Именно мистика лучше всего раскрывает, что отношение между Богом и миром есть парадокс. Но вырабатываемые теологией формулы не хотят парадокса. Мистика относится к духу, к плану духовности, рациональная же теология и метафизика относятся к объективированному бытию, в котором существование рационализировано и социализировано.
Наибольшую трудность для рационального метафизического и теологического истолковывания представляет мистический гнозис Якова Бёме, величайшего из мистиков гностического типа всех времен. Бёме отличается от Экхарта тем, что у него есть сильные прививки Каббалы, он не неоплатоник. Гнозис Я. Бёме выражается не в понятиях, а в мифах и символах. Бёме визионер. Он живет в духовном мире, и то, что он там видит, не переводимо на язык мира объективированного. Ему открывается то, что лежит глубже того мира объектов, с которым имеет дело интеллект со своими понятиями. Вместе с тем Бёме насыщен Библией. Центральное значение имеет интуиция Ungrund’a. Бёме говорит: «Und der Grund derselben Tinktur ist die g?ttliche Weisheit; und der Grund der Weisheit ist die Dreiheit der ungrundlichen Gottheit, und der Grund der Dreiheit ist der einige unerforschliche Wille, und des Willens Grund ist das Nichts». «Der Ungrund ist ein ewig Nichts, und machet aber einen ewigen Anfang, als eine Sucht; denn das Nichts ist eine Sucht nach Etwas».[15 - «А основа той самой тинктуры есть божественная премудрость, а основа премудрости есть троичная безосновность Божества, а основа этой троичности есть некая неисследимая воля, а основа воли есть ничто». «Бездна есть вечное ничто, но она делается вечным началом в качестве жажды; ведь ничто есть жажда нечто» (нем.).]
Можно ли истолковывать на языке теологии и метафизики, что такое Ungrund? Об Ungrund возможно лишь апофатическое мышление. Ungrund не есть бытие, первичнее и глубже бытия. Ungrund есть «ничто» по сравнению со всяким «что-то» в бытии, но не ???? ????, а ??? ????. Но это не ??? ???? в греческом смысле. Бёме преодолевает границы греческой мысли, греческий интеллектуализм и интеллектуалистическую онтологию. Ungrund глубже Бога, как и Gottheit Экхарта. Вернее всего истолковывать Ungrund как первичную, добытийственную свободу. Свобода первичнее бытия. Свобода не сотворена. Такова предлагаемая мною формулировка. Бёме первый волюнтарист в европейской мысли, хотя у него этот волюнтаризм не был так рационализирован, как в последующей немецкой волюнтаристической метафизике. Ничто хочет быть чем-то. Алкание бытия предшествует бытию. Свобода возгорается во тьме. В видении Бёме раскрывается огненность и динамичность глубины бытия, вернее, глубины большей, чем само бытие. Бёме близок к Гераклиту в греческой мысли, но он есть разрыв с античной философией. Им вносится динамический принцип. Бёме пытается раскрыть тайну генезиса, процесса теогонического, космогонического и антропогонического. И генезис этот совсем не лежит в линии объективированного современного мира. Ungrund есть индетерминированное, безосновное и бездонное, т. е. находится вне каузального мышления. На философском языке это должно быть описано как невозможность найти свободу в объективированном мире, т. е. в порядке природы. Свобода раскрывается лишь в духе, в духовном порядке. В духе, а не в объективированной природе, происходит генезис из свободы. Видение Бёме оплодотворило мысль Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра. Но в германской метафизике видение Бёме было настолько рационализировано и изменено, что приобрело уже совсем не христианский характер, чего у самого Бёме не было. Мистика самого Бёме очень христоцентрична. Я. Бёме и св. Фома Аквинат – два противоположных типа гнозиса. Грандиозное построение Бёме музыкально, это симфония. Грандиозное построение св. Фомы Аквината архитектурно, это готический собор. Поэтому видение мира Я. Бёме динамично, видение же мира св. Фомы Аквината статично. Немецкая метафизика рационализировала музыкальную тему, в этом ее величие и слабость. Но мистика по существу более музыкальна, чем архитектурна. Как определить границу, различающую мистику христианскую от мистики нехристианской? Эта тема очень остро ставится германской мистикой.
3
Язык, которым выражали свой опыт многие мистики, оставляет впечатление монизма, пантеизма, отрицания личности, отрицания человека, человеческой свободы и любви. Мы говорили уже, что этот мистический язык нельзя переводить на язык теологический и метафизический. Но проблема, поставленная мистикой, все же существует, и она беспокойна. Мистика может иметь две противоположные тенденции – или к обоготворению космоса или к отрицанию космоса, или к обоготворению человека или к отрицанию человека. И эти противоположные тенденции могут сходиться. Когда человек и космос смешиваются и отождествляются в божественном монизме, то можно одинаково сказать, что человек и космос обоготворяются и что они отрицаются. Монизм есть всегда отрицание тайны богочеловечности, двуединства, которая вполне раскрывается лишь в христианстве. Христианство персоналистично и потому соединяет монизм с плюрализмом. Этому может соответствовать лишь мистика любви. Любви нет без личности, любовь идет от личности к личности. Ориентация на личность есть по преимуществу этическая, ориентация же на космос по преимуществу эстетическая. Экстатическое слияние с космосом есть особый тип мистики, подобно тому как существует тип мистики социальной, например в немецком национал-социализме или в русском коммунизме. Но для христианской духовности, для христианской мистики можно установить три условия, три признака: личность, свобода, любовь. Где одно из этих условий отсутствует, христианская мистика ущерблена, есть уклон. И такая ущербленность, такой уклон нередко бывали в самой христианской мистике. Мы это уже видели относительно аскетики. В христианскую духовность проникли нехристианские элементы. Уклон к пантеистическому монизму совсем не есть ересь относительно Бога, это есть ересь прежде всего относительно человека, относительно личности, свободы и любви. И интересно, что этот уклон к пантеистическому монизму можно открыть у тех, которые более всего враждуют против пантеизма и утверждают крайние формы трансцендентного дуализма. Когда говорят, что Бог есть все, человек же и мир есть ничто, жалкая и ничтожная тварь, тождественная с грехом, то это есть форма монофизитства и своеобразного пантеизма. Активен лишь Бог, свободен лишь Бог, повсюду обнаруживается лишь Божье всемогущество. Активность человека есть лишь грех, т. е. ничто, свободы у человека нет, творческой силы нет. Этот порядок мысли начинается с крайнего дуализма, но кончается крайним монизмом. Поразительна диалектика духа, в которой все легко переходит в свою противоположность. В крайних формах восточной аскезы, для которой человек и мир есть сплошной грех, в кальвинизме с его пафосом могущества и славы Божьей и унижения человека как существа безнадежно греховного, даже в бартианстве (Бог – все, человек – ничто) мы видим незаметный переход дуализма (трансцендентная бездна между человеком и Богом) в монизм, в пантеизм, основанный не на обоготворении человека и мира, а на унижении человека и мира. Только поэтому Лютер, признававший человеческую природу совершенно уничтоженной грехом, разум порождением дьявола и возлагавший все исключительно на благодать, мог породить германскую идеалистическую метафизику, Фихте, Гегеля, Шеллинга, у которых разум стал божественным, человек органом божественного процесса. Разум имеет непреодолимую склонность к монизму или к дуализму, причем монизм переходит в дуализм, а дуализм переходит в монизм. С этой естественной склонностью человеческого мышления, не вмещающего тайну двуединства, связаны и уклоны духовности. Духовность принимает или характер крайнего монизма, или характер крайнего дуализма. Это одинаково может принимать характер обоготворения человека и мира (открытый пантеизм) или признания человека и мира раздавленным грехом, лишенным всякой свободы и творческой силы (скрытый пантеизм). Противоположна же этому духовность, основанная на встрече человека и Бога, на богочеловечности, в которой соединение сохраняет различение, через которую возможно обожение (теозис) человека без исчезновения человеческой природы в природе божественной. Обожение предполагает различие Бога и человека, диалогическое и драматическое отношение между человеком и Богом. Обожение невозможно, если человек изначально божественен и часть Божества, и оно невозможно, если человек лишь грех и ничто, если абсолютная бездна отделяет человека и Бога. Теозис, который лежит в основании мистики христианского Востока, не есть монистическое тождество с Богом и не есть унижение человека и тварного мира. Теозис делает человека божественным, вводит его в божественную жизнь, сохраняя человеческое. Происходит не уничтожение человеческой личности, а ее совершенно уподобление Богу и Божественной Троичности. И это сохранение личности возможно лишь во Христе и через Христа. Тайна личности связана с тайной свободы и любви. Любовь и милосердие возможны, лишь если есть личность и личность. Монизм, тождество исключает любовь, как исключает и свободу. С этим связано своеобразие христианской мистики. Человек не тождествен с космосом и не тождествен с Богом, но человек есть микрокосм и микротеос. Человеческая личность может вмещать в себе универсальное содержание.
Мистика всех времен, всех стран и всех религий имеет родовые черты. По чертам этим узнается порода мистиков. Они между собой перекликаются из разных миров. Между мистиками разных религий больше сходства, чем между самими религиями. Глубина духовности может обнаружить большую общность, чем объективация религиозных типов. Но все-таки есть различия типов мистики, и прежде всего мистики христианской и внехристианской. Внехристианская и дохристианская мистика имеет два противоположных прототипа, которые повторяются и в христианский мировой период до наших дней. Один из этих типов есть индусская мистика тождества, совершенной отрешенности от множественности мира, погружение в Браман. Этот тип мистики хочет быть мистикой чистой духовности. Это мистика акосмическая. Браман и атман, Божество и душа тождественны. Нахождение Atman’a есть также нахождение Brahman’a. Санкара, которого Р. Отто сравнивает с Экхартом, характерный представитель этого типа мистики. Бог в этом типе мистики есть сверхбытийственное небытие. Было бы большим упрощением характеризовать этот тип мистики как пантеизм. Это есть последовательная апофатическая мистика, мистика отрешения и отвлечения от всякого конкретного бытия, от космической и человеческой множественности. Одинаково можно сказать, что мир становления, мир, состоящий из частей и преходящий, не есть подлинное бытие и уход от него к Единому есть уход к подлинному бытию, и что этот мир есть бытие, а уход от него есть уход к сверхбытию. Тут избавление от зла и страдания, порожденных множественным чувственным миром, достигается через отрешенность, через погружение в абстрактное, неконкретное единое. Это мистика холодная, она не знает любви. И это отсутствие любви связано с тем, что этот тип мистики не знает личности, она не спасает личности, а спасается от личности. Как было уже сказано, любовь есть отношение личности к личности. Tat twam asi означает не любовь, не выход из себя в другое, а обнаружение в другом основы, тождественной с моей основой, т. е. преодоление личного бытия. Любовь же предполагает не тождество, а различение, предполагает другое. Мистика Плотина, несмотря на все различие греческого мира от индусского, принадлежит к тому же типу. Это тоже мистика Единого, которая достигается через отрешение, отвлечение от множественного мира. Нет тайны личности, и, значит, нет тайны любви. В платонизме и неоплатонизме Эрос направлен на добро, на высшее благо, на красоту, а не на конкретное существо, не на личность. Как в индусской мистике, Единое есть сверхбытие, путь к нему апофатический. Наша душа божественна по своей основе через дух, через нус. Акт мистического созерцания тождествен созерцаемому объекту, интеллекция тождественна интеллигибельному. Это есть мистический монизм, нет двух, а лишь одно. Духовный путь есть переход от сложного, множественного к простому, единому. Бытие тождественно уму, нусу. В мистике типа индусского, типа платонического все противоположно тому диалогическому, драматическому отношению между человеком и Богом, которое раскрывается в Библии, т. е. отношению личности к личности. Духовное понимается как противоположное личному, а следовательно, исключающее любовь, исключающее свободу, человека в отношении к Богу, множественного в отношении к единому. Мистический путь есть путь гнозиса, а не путь Эроса. Эрос же понимается как порождение недостатка, нужды в восполнении, а не как дарящая избыточность. Элементы этого типа мистики можно найти внутри христианского мира, в христианском неоплатонизме, у Экхарта, в квиетизме. Но есть внехристианская мистика противоположного типа, хотя столь же враждебная личности и личному отношению между человеком и Богом.
Противоположный тип внехристианской мистики носит космический характер. Это некоторый вечный тип. Человек приобщается к космической первостихии и в этой мистической первостихии находит освобождение от сдавливающих границ индивидуального бытия, от боли, которую причиняет существование личности в этом мире. Это есть мистика оргиастическая. Аскеза и оргиазм одинаково могут преодолевать границы телесного существования человека. Оргиазм есть тоже умерщвление плоти. Космическая первостихия, которая переживается как божественная и в которой хочет раствориться человек, есть «мир иной» по сравнению с «миром сим», в котором всюду границы, всюду мучительная необходимость. Оргиастическая космическая мистика соединяет раздельное, ограниченное, зависимое человеческое существо с душой космоса, душой народа, душой земли, с половой стихией, вышедшей за индивидуальные границы и разлитой по всему полю жизни. Это мистика виталистическая, более душевно-телесная, чем духовная. Но и этот тип мистики также ставит себе целью преодолеть границы сознания, вырваться из тисков рациональности, как и мистика чистой, отвлеченной духовности. Вопрос лишь в том, идет ли человек на этом пути к сверхсознанию или к подсознанию. Сознание болезненно и мучительно, оно в сущности всегда есть «несчастное сознание». Искание избавления от несчастного, болезненного сознания, искание освобождения осуществляется на противоположных путях. Но в мистике внехристианской одинаково и на одном и на другом пути исчезает человек, в космической первостихии или в отвлеченном духе, снимаются границы личности. Избавление от страданий и боли достигается отказом от личного бытия, ибо личность есть боль, и борьба за личность болезненна. Греческий дионисизм, который, впрочем, не греческого происхождения, есть прототип такой космической оргийной мистики. В ней было притяжение хтонических, подземных богов. В дионисических оргиях исчезает человек, растворяется личность. Дионисическая мистика носит не богочеловеческий, а богозвериный характер, человек исходит в божественную звериность. Греция переработала дионисическую стихию своим гением формы, соединила Диониса с Аполлоном. Но дионисическая стихия – вечная, это стихийная основа мира и человека, с ней связана трагедия человеческих страстей. В дионисизме всегда чувствуется тоска по слиянию и единству, жажда выхода из раздельного существования. В дионисизме человек приобщается к единству и достигает слиянности в глубине самой космической множественности. В неоплатонизме человек приобщается к единству и достигает слиянности в отрешенности от космической множественности, в отвлеченном духе. В первом случае человек выходит из себя через аскезу. Но выход из себя, преодоление собственной ограниченности и разделенности оказывается и потерей себя как личного бытия. Дионисическая стихия действует и в мире христианском. И она дает себя знать на вершинах цивилизации, когда человеческое существование казалось совершенно оформленным и всякая иррациональная стихия казалась задавленной. Ницше открывает Диониса. В мире всегда действуют поляризованные силы. Когда культура слишком оформлена, когда цивилизация слишком рационализирована, то обнаруживается реакция противоположной иррациональной силы, дионисической стихии. Человек ищет приобщения к «природному», «иррациональному». Это может принять форму реакции «души» против «духа», как, например, у Клагеса. Для космической мистики последней эпохи характерны такие люди, как Розанов или Лавренс. Но всегда, во всех этих течениях приобщение к космической стихии пола означает отказ от борьбы за личное бытие, за личное отношение человека к Богу и человека к человеку. И ничто не ставит так глубоко вопроса о христианской духовности.
Неотъемлемо ли присущ мистике элемент квиетизма? Это есть основной вопрос новой духовности. Квиетизм есть явление гораздо более широкое, чем французские мистические течения XVII века, чем madame Гюйон или Фенелон. Квиетизм можно открыть в большей части мистических течений. Католики видят квиетизм у Лютера, поскольку он отрицал свободу человека в отношении к благодати Божьей. Сущность квиетизма в мистике заключается в признании совершенной человеческой пассивности в отношении к Богу и благодати. Когда человеческая природа приведена в состояние совершенной пассивности, то в нее проникает божественная природа и действует лишь она. Нужно, чтобы перестало действовать человеческое и начало действовать лишь божественное. Это тоже одна из форм монофизитства, монизма. Это было и в восточной аскезе. Нет взаимодействия Божества и человечества. При мистической пассивности человека действие Божества необходимо будет происходить. Madame Гюйон, Молина и др. доходили до утверждения, что мистики не могут грешить и не нуждаются в покаянии. Французы, враждебные квиетизму и Руссо, пытаются вывести учение Руссо об естественной доброте и благостности человека из квиетизма и особенно из Фенелона. Добрая природа человека есть не что иное, как божественная природа, действующая в человеке при пассивности его собственной природы. Человеческая природа плоха при ее внутренней активности, при ее сопротивлении, при внутренней же ее пассивности она превращается в добрую природу, потому что она заменяется действием божественной природы. Можно было бы в ту же линию поставить учение Л. Толстого о непротивлении злу насилием. Все зло происходит от активного противления и насилия человека, при непротивлении и пассивности зло исчезает, ибо будет действовать сам Бог, божественная природа. Во всяком случае это есть отрицание действия двух природ, т. е. монофизитство. В таком типе духовности отрицается элемент свободы человека, его свободной творческой активности. Свобода и творческая активность принадлежат лишь Божеству. Неверно было бы только отождествлять бескорыстную любовь к Богу Фенелона с квиетизмом. Бескорыстную любовь к Богу можно защищать и при точке зрения совсем не квиетической. Но квиетизм можно найти и в буддийской нирване, и в стоической апатии, и в неоплатонической мистике Единого и эманации, и в сирийской аскезе, отрицавшей человека как грех, и у Экхарта с его монистической мистикой тождества, для которой самое существование человека есть падение, и даже у К. Барта с его перенесением реализации христианства исключительно в эсхатологическую перспективу. И этой квиетической духовности должна быть противопоставлена духовность богочеловеческая, т. е. признание творческой активности человека. Отношение между человеческой свободой и божественной благодатью между человеческой душой и духом Божьим или Святым Духом есть самое таинственное и непостижимое в жизни. Это отношение не может быть понято ни монистически, ни дуалистически, оно лежит по ту сторону наших категорий мысли. Но мистический монизм и квиетизм неверно понимают это отношение. Человеческое вдохновение от Бога и от свободы, от Божьей благодати, Божьего дара и от изначальной, неизъяснимой, ничем не определяемой человеческой свободы. Это есть великая тайна духовной жизни, которая насилуется всякой монистической мыслью и не может быть в ней изречена. Духовная жизнь двуедина, она есть встреча, диалог, взаимодействие, активность одного и другого, т. е. она богочеловечна. В глубине духа не только рождается Бог в человеке, но и рождается человек в Боге, не только говорит Бог, но и отвечает человек. Есть тоска человека по Богу, но есть и тоска Бога по человеку, нужда Бога в человеке.
4
Может быть, наиболее реальное различие между христианским Востоком и христианским Западом лежит в типе духовности. Христианская мистика представляет один родовой тип, но есть видовые различия восточной и западной христианской мистики. Ошибочно было бы признать решительное преимущество одного типа над другим. Важно понять это различие, которое видно уже при сопоставлении греческих отцов церкви с Бл. Августином. Католический Запад может увидеть на Востоке уклон пантеистический и гностический. Православный Восток называет это свойство онтологизмом и видит на Западе слишком большой психологизм и антропологизм. Христианская мистика Востока гораздо более, конечно, пропитана неоплатонизмом, чем христианская мистика Запада. Все идет сверху вниз. Нет той пропасти между Творцом и творением, как на католическом и протестантском Западе. Теозис есть преодоление пропасти. Чувственный мир есть символ духовного (св. Максим Исповедник). Тварь причастна к свойствам Божества через образ Божий. Идеальная природа человека раскрывается во Христе. Природа человека консубстанциальна человеческой природе Христа. На Востоке человеческий элемент пропитывается божественным, в то время как на Западе человеческий элемент поднимается до божественного. Действие Бога на нас есть единство с Богом. Восток физически, т. е. онтологически, понимает соединение с Богом. Смысл искупления истолковывается физико-онтологически, а не морально-юридически. В Христе Божество соединяется со всем родом человеческим. Обожение происходит через ум, ум же понимается целостно, онтологически. «Ум должен сделаться целомудренным» (св. Иоанн Лествичник). Целостность ума достигается тем, что сознание держится в сердце. Это есть собранность, трезвение. Ум опускается в сердце. Это уже существенное отличие христианской мистики Востока от неоплатонизма, от греческого интеллектуализма. Бл. Августин соединяет интеллектуалистическую мистику неоплатонизма с этическим элементом Евангелия. На Востоке изменение неоплатонического интеллектуализма происходит по-иному. Природа обожена реальным присутствием Бога. Есть связь первообраза с образом. Христианской мистике Востока чужда земная жизнь Иисуса Христа, чужда идея подражания страстям Христовым, для нее невозможны стигматы. Она гораздо менее антропогична, чем христианская мистика Запада, в ней менее разработан сложный путь человека, менее раскрывается человеческая борьба. Созерцается не человечество, а Божество Иисуса Христа. Поэтому Восток почти не знает исповедей, дневников, автобиографий, описаний духовного пути святых и мистиков, которые так любит Запад. Востоку чужда идея Бл. Августина, что Бог познается через познание души человеческой. Восточная мистика менее диалогически-драматична, чем западная. Несмотря на больший интеллектуализм Запада, мистика христианского Запада более эмоциональна, чем мистика христианского Востока, в которой остался очень силен неоплатонический интеллектуализм. Германская мистика занимает совсем особое место и ближе Востоку. Чистая эмоциональная мистика, чуждая Востоку, представлена св. Бернардом. Православное богословие часто несправедливо и с большим преувеличением обвиняет католическую мистику в эротизме. Это связано с тем, что католическая мистика более драматична, в ней человек вытягивается вверх к Богу, Бог есть предмет любви, объект. В восточной мистике Бог вовсе не есть объект, к которому человек страстно стремится, – Бог есть любовь, проникающая в человека. Недостаточный интерес к человеческому пути и к человеческой борьбе, определяемость всей духовной жизни сверху вниз ведет к тому, что в восточной мистике не может быть прохождения через «темную ночь» чувственности и разума, как у св. Иоанна Креста. Есть суровая аскеза, но она не входит в мистический путь, как переживание темной ночи. Мистика есть просветление. Исихия в византийской мистике XIV века есть совершенный покой души, безмолвие, преобладание гнозиса над эросом. Сердечная любовь беспокойна. Борьба со злом есть борьба с пристрастием к вещам и достижение бесстрастия. При этом восточному мистику трудно быть поэтом, как был св. Иоанн Креста, как был св. Франциск Ассизский. У св. Максима Исповедника любовь носит не этический и эмоциональный характер, а метафизический и интеллектуальный. Духовное состояние есть ??????.[16 - Созерцание (греч.).] У св. Исаака Сириянина любовь есть порождение гнозиса. Более сложное явление представляет св. Симеон Новый Богослов. Он наиболее близок к св. Иоанну Креста. У него на этот раз уже католики видят эротический элемент. Св. Симеон Новый Богослов был поэтом. У него есть диалог человеческой души с Христом. Несмотря на его особенности, он все же остается представителем восточной мистики, соединявшей в себе умозрительную мистику гнозиса с сердечной мистикой эроса. Но Востоку остаются чужды такие явления, как стигматы. На Востоке не играют такой роли болезни и физические страдания, как в католической мистике. Православный Восток, особенно русский, любит св. Франциска Ассизского, который имеет универсальное значение и наиболее близок евангельскому образу Христа. Но в св. Франциске были черты западной рыцарственной человечности, которой в такой форме нельзя найти у св. Серафима Саровского, типичного представителя восточной мистики с ее просветлением и обожением твари. Мистика Востока есть по преимуществу мистика Воскресения. Мистика Запада по преимуществу мистика Распятия.
Народная мистика была главным образом мистикой литургической и сакраментальной. С ней связывалась духовная жизнь народа. Литургическая бедность и ущербленность протестантизма очень ослабила влияние этого типа христианства на народные массы. В православии и католичестве создались свои типы духовности, сообразные литургическому кругу. В народном католичестве это связано с petites devotions, дробными культами, например культом сердца Иисусова, и т. п. В православии остается большая целостность. Именно литургическая мистика ставит вопрос об отношении между мистикой и магией. В народной литургической жизни немалую роль играли магические элементы, которыми злоупотребляли для влияния на массы. Это есть наследие древнего прошлого народов. Протестантизм прав в своей борьбе с магизмом, связывающим самого Бога, но ошибочно почти отождествляет таинство с магизмом. Принцип мистики и принцип магии не только различны, но и совершенно противоположны. Мистика относится к духу, магия же к природе, мистика есть свобода, магия же есть власть. Мистика есть общение с Богом, магия же есть общение с силами космическими, которые могут дать власть. Магия есть первоначальная техника человека в борьбе с враждебными силами, с духами и демонами, есть техническая власть и над самими богами. Оккультизм находится в линии магии. Магия не духовна, хотя в духовность могут проникать магические элементы. Мистика же духовна. Это определяется тем, что дух имеет качество свободы, магия же свободы не знает, магия остается во власти каузальной связи и детерминации. Закованность мира есть магическая закованность. И мир нужно духовно расколдовать. С этим расколдованием, освобождением от заковывающих цепей связана одна из главных задач духовной жизни. Современная психология и психопатология по-своему раскрывает роль магии в человеческой жизни, магии индивидуальной и коллективной. Но метод психоанализа, претендующий освободить от иллюзий сознания и от болезненных травм, не есть духовный метод. Духовность не может быть лишь психоанализом, она неизбежно есть и психосинтез. Возрастающая духовная жизнь синтезирует душевную и даже телесную жизнь человека, останавливает аналитическое расчленение и распадение целостной личности. За магией скрыта сковывающая воля, за мистикой – воля освобождающая.
Отличен, хотя и не противоположен мистике литургической и глубоко противоположен всякому магизму – профетизм. Существует особый тип профетической мистики. Гейлер в своей книге «Das Gebet» устанавливает различие между мистикой и профетизмом, между мистической и профетической религией. Профетическая религия есть религия откровения личного Бога. Мистическая религия есть религия освящения и спасения. Эти характеристики вызывают возражения, ибо мистика возвышается над идеей спасения и совсем не совпадает с сакраментализмом. Но различение, устанавливаемое Гейлером, при всей условности его терминологии, несомненно существует. Мистика для Гейлера пассивна, квиетична, созерцательна, профетизм же активен, требователен, этичен. Любовь характерна для мистики, вера же характерна для профетизма. Мистика внеисторична, профетизм же историчен. Для мистики Бог не Творец и не открывается, для профетизма же Бог – Творец и открывается. Профетическая религия социальна, чего нельзя сказать о религии мистической. Профетизм мужественен, мистика же более женственна. Гейлер не хочет допустить существования типа мистики профетической, отличной и от мистики гностической, и от мистики литургической. Я же склонен защищать существование особого типа профетической мистики. Пророк есть человек, одержимый Духом Божьим, говорящий с Богом, человек, свободный от власти мира, природы и общества, прозревающий пути не необходимости только, но и самой свободы. Пророк находится в своем собственном духовном мире и из него судит окружающий мир. Профетический духовный опыт противоположен апатии, бесстрастию, равнодушию к судьбам мира и истории. Платоник Мальбранш говорит типичные для отрешенной духовности слова: «N’aime aucune crеation; Dieu n’a fait ton coeur que pour lui».[17 - «Не люби ни одно творение. Бог создал твое сердце лишь для себя» (нем.).] Слова эти не подходят для пророка и не будут им услышаны, сердце его ранено судьбой человека, народа, мировой истории, в этом его активизм, его неспособность к квиетизму. Профетизм – революционен. Эта революционность есть в Библии, в Евангелии, – ее нет в неоплатонизме, в сирийской аскезе, в храмовом благочестии. Молитва есть диалог человека с Богом, и она стоит в центре христианской духовной жизни. Молитва духовна. Но когда литургическую и уединенную молитву признают единственной нужной помощью мира и единственным спасением людей от неправды и страдания, то происходит ритуалистическое извращение и сужение духовности.
Характеристика и классификация Гейлера носит слишком библейско-протестантский характер. Лютер и протестантизм для него профетичны. Это религия слова и веры. Человек слушает Бога, но не видит Бога, не созерцает божественного мира. Мы это находим в чистом виде у Карла Барта. Человек – H?rer.[18 - Слушатель (нем.).] Мистическое созерцание Бога есть соблазн и иллюзия. Но протестантизм не только профетичен. На его почве возникает и пиетизм (Спенсер, Петерсон, Франк). Профетический огонь первоначального протестантизма быстро начал угасать. Произошла бюрократизация и механизация духовной жизни в протестантских церквах, как она происходит и во всех церквах. Пиетизм был реакцией против этого обездушивания, возвратом к внутренней духовности, к Innerlichkeit. В пиетизме есть сильный квиетический элемент, есть уход от мук и тяжестей мира в уютный внутренний мир. Немецкий пиетизм был все-таки мелкобуржуазным движением (1670-1720). Он противоположен героическому духу профетизма, в нем была сдавленность горизонта. И это повторяется повсюду. Сначала возгорается профетический творческий огонь, потом начинается охлаждение огня, бюрократизация и механизация духовной жизни в церквах, как социальных институтах, потом является реакция против этого процесса, обращение к внутренней духовной жизни, потом эта внутренняя жизнь сдавливается, суживаются горизонты, происходит обуржуазивание духовности, как было обуржуазивание внешней церкви. И вновь делается неизбежным возгорание религиозного профетизма. Два начала возрождают охлажденную и окостеневшую духовную жизнь – профетизм и мистика. Но новая духовность должна заключать в себе и профетический и мистический элемент. И вечной правдой звучит голос пророка, осуждающий ритуалистическое вырождение и окостенение духовности: «Не носите больше даров тщетных; курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие и празднование… Научитесь делать добро, ищите правды, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит Господь». И так же звучит голос самого Христа.
Глава VII. Новая духовность. Реализация духа
1
Все, что было сказано в предшествующих главах, было подготовлением для раскрытия новой духовности. О духе и духовной жизни нужно мыслить исторически. Мыслить исторически совсем не значит мыслить, как мыслят историки. Историзм хочет знать лишь объективацию, т. е. для него дух исчезает и тогда, когда исследуется дух и пишется его история. Я же имею в виду историю как тайну существования, как судьбу. Историческое мышление о духе означает, что время находится внутри вечности и вечность прорывается во время, нет замкнутости времени. Время есть основная форма объективации человеческого существования. Но история во времени потому лишь имеет смысл, что за ней скрыты времена и сроки царства духа. Дух имеет историческое существование. Поэтому существуют кризисы духа, существует ?????? в истории (Тиллих), можно говорить о новой духовности. Существует лишь вечная духовность, духовность, побеждающая время и выходящая из времени, но дух имеет историю, как осуществление судьбы, и потому вечная духовность может быть новой духовностью. Проблема новой духовности поставлена кризисом духа в мире, который принимает формы отрицания духа и духоборчества. Это отрицание духа и духовности есть лишь обратная сторона омертвения старой духовности и дурного пользования духом для корыстных человеческих интересов. И совсем не значит, что те, которые отрицают дух и иногда со злобой отрицают, духа не имеют. Они находятся лишь в состоянии обманчивого сознания, не выдержали испытаний, связанных с извращениями духа. И все-таки можно сказать, что в мире происходит не только кризис духа и борьба против духа, за которой скрыт дух же, но в мире происходит и ослабление и умаление духовности. Это ослабление и умаление духовности есть результат усиливающейся объективации человеческого существования, т. е. выбрасывания его вовне. Но уже прежде кажущегося исчезновения духовности сама духовность была настолько объективирована, что превратилась в условную форму и лишилась внутреннего существования. Новая духовность должна быть возвращением внутрь подлинного существования.
Есть ли объективация погружение духа в мир для его духовного завоевания, а возвращение внутрь существования – уход из мира? Это есть основной вопрос, и вопрос чрезвычайно трудный. Мы тут сталкиваемся с парадоксом духа. Объективация есть приспособление духа к состоянию мира, конформизм, неудача творческого акта духа, подчинение личного общему, человеческого нечеловеческому, вдохновения закону. Но в этом царстве объективации духовность может как раз принимать формы отрешенности от мира и ухода от мира, мировраждебная и жизневраждебная аскеза может быть коррелятивна царству объективации. Возврат же духа внутрь подлинного существования может означать революционную активность в отношении к объективированному состоянию мира, может быть восстанием свободы против детерминации, т. е. может означать внедрение духа в мир для его одухотворения и преображения. Объективация духа совсем не была одухотворением мира, была не нисхождением, не проявлением христианского духа любви и милосердия, а покорностью состояниям мира, торжеством социальной обыденности. Аскеза, как уход из мира, бывала формой покорности миру, мировой данности, и сопровождалась сакрализацией господствующих в мире сил. Аскеза же в миру, нисхождение любви и милосердия может быть реальным изменением мира, его подлинным просветлением. Новая духовность понимает дух не как отрешенность и бегство из мира, покорно оставляющее мир таким, каков он есть, а как духовное завоевание мира, как реальное изменение его, не объективируя дух в мировой данности, а подчиняя мир внутреннему существованию, всегда глубоко личному, разрушая призраки «общего», т. е. совершая персоналистическую революцию. Это и значит, что духовность ищет прежде всего Царства Божьего, а не царства мира сего, который и есть объективация. Тут мы становимся перед парадоксом отношения между личным и социальным спасением.
Сведение духовной жизни к пути спасения, понимание христианства, как религии личного спасения, привело к сужению, умалению и ослаблению духовности. Отношение к жизни социальной и исторической было объективировано, и духовность была в ней реализована лишь символически. Объективированная форма социальной и исторической жизни со своей условной символикой и своей сакрализацией относительного и преходящего обратно действовали на духовную жизнь, подчиняя ее социальным влияниям и сдавливая ее. Дух попадал в рабство у собственной объективации. То, что выброшено духом вовне, представлялось ему силой, действующей извне, и силой священной. Поэтому понимание духовной жизни исключительно как дела личного спасения вело к сдавливанию и порабощению личной духовности и к зависимости духовности от форм социальной жизни. Искание прежде всего Царства Божьего и правды его есть искание не личного только, но и социального спасения. Символизация священного в социальной жизни (священность монархической власти, священность нации, священность собственности, священность исторической традиции) не спасает, спасает лишь реализация, т. е. осуществление правды в отношениях человека к человеку, «я» к «ты» и к «мы», осуществление общности, братства людей. И от этого личная духовность делается более свободной и расширяется в своем объеме. Более очищенная духовность означает не отвлеченность, а большую конкретность. Личное спасение дается тем, которые ищут всеобщего спасения, т. е. Царства Божьего. Идея личного спасения есть трансцендентный эгоизм, проецирование эгоизма на вечную жизнь. При этом отношение к Богу делается корыстным и чистая духовность делается невозможной. Отношение к Богу отрезывается от отношения к ближнему, т. е. нарушается завет Христа и Евангелия, разрывается целостная богочеловечность христианства. Спасаться нельзя в одиночку, невозможно изолированное спасение. Спасаться можно только с ближним, с другими людьми и миром. Каждый человек должен взять на себя боль и муку мира и людей, разделить их судьбу. Все за всех ответственны. Не могу я спасаться, если погибают другие люди и мир. Да и сама идея спасения есть лишь эгоцентрическое выражение искания полноты и совершенства бытия, жизни в Царстве Божьем. Утилитаризм спасения извращает духовную жизнь. Именно понимание духовной жизни как личного спасения вело к отрицанию творчества человека как проявления духовности. Вся творческая жизнь человека оказалась или осужденной или выброшенной во внедуховную сферу, секуляризированной. На этой почве возник дуализм, раздирающий человека. Человечество живет в двух разных планах, в двух разных ритмах. Происходит резкое разделение сакральной и профанной духовности, причем лишь сакральная духовность признана настоящей, профанная же духовность лишь терпимой. Сакральная духовность нужна для дела спасения, профанная же духовность для дела спасения может быть даже вредна. Признается за лучшее быть менее духовным, если духовность не имеет марки сакральности. Мир со своими вопрошаниями и муками оказывается предоставленным самому себе, т. е. обреченным на гибель. Изолированная от болезней мира сакральная духовность спасала.
С этим связана мучительная проблема о предопределении, об избранности, к спасению. Новая духовность есть отрицание элиты спасающихся. Она означает, что каждый берет на себя судьбу мира и человечества. Свобода от власти мира, которая есть одна из задач и достижений возрастающей духовности, совсем не значит, что человек выделяет себя из мира для спасения самого себя и отказывается разделить вопрошания и муки мира. Наоборот, для того, чтобы низойти в человеческий мир, тоскующий и погибающий, нужно чувствовать духовную независимость от власти мира, духовное сопротивление миру, который может растерзать человека. Раскрытие социального характера духовности как раз и освобождает ее для личного творчества. Духовность всегда глубоко личная, а интенция ее социальная и даже космическая. Социальный плен духовности внушает исключительную направленность духовности на личное спасение. Освобождение духовности от социального стеснения направляет ее на творческое действие в социальной и космической жизни. Освобожденная духовность интересуется всеобщим спасением. Христианство разом должно быть и свободно от мира, революционно по отношению к миру, и обращено с любовью на мир. Поэтому есть два понимания аскезы: есть аскеза, как уход от мира, и есть аскеза в миру. В новой духовности будет преобладать лишь второй тип аскезы. В христианской духовности эпохи Возрождения, у Николая Кузанского, Пико делла Мирандолы, Парацельса, Эразма, Т. Мора были уже заложены возможности новой духовности. Но дальнейшее развитие гуманизма не раскрыло их. Духовность, основанная исключительно на личном спасении, потому уже не может быть оправдана, что совершенно невозможно отделить, изолировать личный акт от акта социального. Всякий личный акт человека имеет социальные последствия, и все социальные акты имеют за собой акты личные. Личная монашеская аскеза часто имела очень дурные социальные последствия, подпирала социальную неправду и зло, соглашалась на сакрализацию существующего порядка вещей, требовала смирения и послушания неправде и несправедливости. Духовность же, изменяющая и завоевывающая мир, предполагает личную духовную активность, духовную независимость от детерминации миром. Все старые христианские руководства к духовной жизни учили, что человек должен нести крест. Но забывали, что крест имеет универсальное значение и переносится на всю жизнь. Распинается не только индивидуальный человек, распинаются общества, государства и цивилизации. С этим связана прерывность в историческом и социальном процессе, невозможность его исключительно органического понимания. Перенесение креста на социальную жизнь означает не послушание социальной данности, а принятие необходимости катастроф, революций и радикальных изменений общества. Ошибочно приписывать кресту консервативное значение.
Именно обращенность человека не к личному только спасению, но и к социальному преображению раскрывает личное, глубоко личное призвание в духовной жизни. Этого призвания совсем нет при сведении духовной жизни к путям личного спасения. Призвание всегда связано с творчеством, творчество же обращено к миру и другим людям, к обществу, к истории. Роковую роль в истории христианской духовности сыграла идея послушания. Послушание есть лжедуховность. Оно неизбежно вырождается в послушание злу и порождает рабство. Христиане во имя послушания терпели зло до тех пор, пока другие, не христиане, уже восставали против зла и уничтожали его, но восставали при этом и против самого христианства. Послушание было орудием господства, которое более всего использовало христианскую духовность. Традиционные формы послушания внушены были ужасом вечной гибели и адских мук. Именно через послушание христианство было сведено к личному спасению, к трансцендентному эгоизму. Послушанием хотели откупиться от исполнения заветов Христа. Их можно было не осуществлять в жизни, если человек был послушным. Метафизически это обосновывается необходимостью отсечения всякой человеческой воли, даже если она проявляется в любви к ближнему, в жалости и милосердии к твари. Борьба была объявлена не против злого, а против человеческого. Но угашение человеческого делало невозможным борьбу против зла. Человек оставлялся в подавленности и страхе, и духовность не побеждала этой подавленности и страха, а увеличивала их, оправдывала и придавала униженности человека трансцендентный характер. Это и было источником реакционности христианства. Христианство сумели превратить в силу, враждебную человеческой свободе и человеческому творчеству, в силу, сопротивляющуюся просветлению и преображению мира и человеческой жизни. Подавленность, страх и униженность человека преодолеваются творческой активностью духа, в ней человек освобождается от поглощенности собой и от тяжести собственной тьмы. Именно в переживании творческого подъема и освобожденности от подавленности и действует благодать. Вопрос об отношении спасения и творчества, о роли творчества в духовной жизни есть основной вопрос, от него зависит будущее духовности в мире и возможность новой духовности. Сама христианская любовь должна быть понята как величайшее обнаружение творчества в жизни, как творчество новой жизни. Атеизм Л. Фейербаха был диалектическим моментом в очищении и развитии христианского сознания. Именно Фейербах учил, что бытие познается через любовь, что познающий любящий, что любовь есть бытие. Не то, что мыслится, есть бытие, а то, что любится. Фейербах близок к экзистенциальной философии, он хочет открыть «ты», а не объект. Он учил единству человека с человеком, как «я» с «ты». Познает для него целостный человек, познает не только разум, но и сердце, и любовь. Атеизм Фейербаха есть укор для старого христианского сознания, для богословских доктрин, подменивших христианскую любовь послушанием. Между тем как именно христиане должны были бы утверждать то, что Фейербах. Любовь есть творчество, познание есть творчество, преображение природы есть творчество, свобода есть творчество. Послушание же сделалось пресечением творчества и вдохновения, орудием унижения человека.
2
Неточно было бы сказать про человека, что он есть дух. Но можно сказать, что он имеет дух. Только в Боге совершенно исчезает различие между «быть» и «иметь». Человек не есть еще то, что он имеет. Он имеет разум, но не есть разум, имеет любовь, но не есть любовь, имеет качество, но не есть сущее качество, имеет идею, но не есть сама идея. Задача реализации человеческой личности в том, чтобы быть тем, что имеешь, чтобы определялся человек не по тому, что он имеет, а по тому, что он есть. Быт есть реальность, реализация, иметь же, быть собственником чего-либо есть лишь знак и символ. Социализм можно было бы определить как переход в социальной жизни от знаков к реальностям, переход от того, чтобы иметь что-нибудь (собственность), к тому, чтобы быть чем-нибудь. Смысл социализма в освобождении человека от накопления и сбережений, т. е. от фикций и знаков мощи, которым не соответствует ничего реального в человеке и которые калечат жизнь. Но таково идеальное задание, на практике социализм легко приобретает условно-знаковый характер, например, в русском коммунизме. Человек имеет дух, но он должен стать духом, быть духом, воплощенным духом. И это происходит в человеке, когда он в духе, когда им овладевает дух. Что значит «иметь» дух и «быть» духом? Окончательно «быть» духом есть теозис, вхождение в Божественную жизнь. Дух от Бога. И когда человек «имеет» дух, когда он в духе, то это значит, что дух входит в него, вдохновляет его. И потому существует неразрывная связь между духом и вдохновением, т. е. творческим состоянием. Проблема творчества есть основная проблема новой духовности. Но, в сущности, духовность всегда есть творчество, ибо признаком духа является свобода и активность. В творчестве есть два элемента – элемент благодати, т. е. вдохновения свыше в человеке, обладание человеком гения, дара, и элемент свободы, ни из чего не выводимой и ничем не детерминированной, которым определяется новизна в творческом акте. Творчество есть не только взаимодействие человека с миром, но и взаимодействие человека с Богом. Человек как бы передает миру свой разговор с Богом. Но всегда действуют два, не один, всегда есть встреча. Монизм во всех областях есть ложная и бесплодная точка зрения. Творчество не может быть выведено из бытия, понятого как единое. Можно было бы сказать, что творящий имеет характер духа, а творимое характер бытия. Это понимал Экхарт, несмотря на свой монистический уклон. Творит всегда дух. Всякое творческое изменение в мире происходит от вторжения духа, т. е. свободы, т. е. благодати, в бытие. Если возврат души к единству с Богом не означает единства по природе и субстанции, то потому лишь, что дух не есть природа или субстанция. В более тонком смысле нужно сказать, что дух не только не есть природа или субстанция, но не есть и бытие, ибо свобода не есть бытие. Система мысли, для которой все детерминировано вечным бытием, все из него вытекает, есть неизбежно статическая система, для нее непонятны свобода, изменение, новизна, творчество, как непонятно и зло. Этому противоположна точка зрения, для которой кроме бытия, введенного в круг детерминации, есть еще свобода, находящаяся вне круга детерминации, т. е. вне бытия. С этим связано и иное понимание духа и духовной жизни. При этом становится невозможным понимать духовную жизнь иначе, как жизнь творческую. Отрицание в прошлом того, что творчество принадлежит духовности, означало лишь, что духовность была введена в детерминированную и замкнутую систему бытия. Дух был поставлен между двумя возможностями – соединиться с божественной силой или с силой тьмы. И сила божественная, и сила тьмы представлялись как бы завершенными, застывшими системами бытия. Но в действительности и самая божественная жизнь может быть понята динамически, как борьба, как драматическая судьба. Тогда бросается иной свет и на духовность. Это есть проблема отношения созерцания и активности.
Мистика в прошлом всегда понималась как созерцание. Блаженное созерцание описывалось как последний этап мистического духовного опыта. Созерцание и было мистической пассивностью, исключительной рецептивностью. Созерцатель есть зритель, а не активный участник драмы. Активность мистического созерцания связывалась лишь с аскетическим очищением. Но созерцание не мыслилось как возможное изменение в самом созерцаемом. В таком случае созерцание предполагает вечный, замкнутый, завершенный круг бытия, в который ничто не может ворваться и из которого ничто не может вырваться. И весь вопрос в том, в какой мере такое созерцаемое бытие есть продукт мысли, результат переработки сознанием. Тут мысль и сознание активны, но закрепление результатов этой активности делает человека пассивным созерцателем. Освободившись от объективации продуктов мысли, которая и ставила перед созерцателем статическое бытие, человек начинает понимать, что отношения между человеком и бытием, между человеком и Богом суть отношения активно-творческие, и в этом и заключается духовность, которая есть прорыв свободы. В духовной жизни, бесспорно, есть созерцание, но это созерцание есть момент творческого пути, самое созерцание есть одна из форм творчества. От созерцания меняется созерцаемое бытие. Творческий ответ человека на призыв и вопрошание Бога есть изменение не только в человеческой жизни, но и в самой божественной жизни. Так совершается богочеловеческая драма. Созерцание и активность не должны противополагаться друг другу как взаимоисключающие начала. В активном духе есть моменты созерцания, как выхода из нашего времени, но и самое созерцание должно быть понято в своей активности. Эта проблема приобретает особенную остроту вследствие актуализма нашей эпохи. Этот актуализм, порожденный технической цивилизацией, в сущности, означает не активность, а пассивность человеческого духа. Человек пассивно подчиняется ускорению времени, требующего от него максимальной активности, как функции технического процесса, а не как целостной личности. Эта активность разрушает личность, целостный образ человека. Это сопровождается совершенной духовной пассивностью, замиранием духа и духовности. Созерцание же является активностью духа, сопротивлением человека по отношению к истерзывающему его процессу технического актуализма. Это связано с отношением времени и вечности, с возможностью пережить мгновение, выходящее из потока времени. Мгновение должно быть не атомом времени, а атомом вечности, говорит Киркегард. Творческий активизм всегда означает прорыв объективации, детерминирующей всю жизнь человека. Но современный технический актуализм означает как раз окончательное подчинение человека объективации, он не знает свободы, не знает духа. Дух при этом понимается как эпифеномен, продукт материального технического процесса. Дух оказывается поставленным между пассивным созерцанием прошлого, отрицанием творчества и актуализмом современной технической цивилизации, отрицающей самый дух и духовность. Это и ставит проблему новой творческой духовности, которая преодолевает и пассивное созерцание прошлого, и пассивный актуализм современности. Творческая духовность должна быть так же обращена к вечности, как и великая духовность прошлого, но она должна и актуализировать себя во времени, т. е. изменять мир. Под творческой активностью духа я понимаю не создание лишь продуктов культуры всегда символических, а реальное изменение мира и человеческих отношений, т. е. создание новой жизни, нового бытия. Это означает преобладание профетизма над ритуализмом в духовой жизни. Это означает также, что искание истины и правды преобладает над исканием пассивных экстазов. Это ставит нас перед вопросом об отношении духовности к социальной правде.
3
Совершенно ошибочен дуализм, резко разделяющий духовную и социальную жизнь. Не только социальная жизнь в ее целом, которая ведь объемлет отношение человека к человеку, но и экономика, которую считают материальной по преимуществу, есть продукт духа. Только дух активен, материя же пассивна. Хозяйство есть результат борьбы человека с природой, т. е. активности человеческого духа. Социальная жизнь целиком зависит от духовного состояния людей. От разных форм духовности зависит характер человеческого труда и отношение человека к хозяйству. В этом отношении многое выясняют работы Макса Вебера, Трельча, Зомбарта, де Мана. Но тут есть и обратная сторона. Духовная жизнь людей претерпевает влияние социальной жизни, на формах духовности опечатлеваются формы социальные, и это вплоть до понятия о Боге, до догматических формул. Формы духовности очень связаны с формами человеческой кооперации, с отношением человека к человеку. Христианство может меняться не потому, что меняется откровение, т. е. то, что идет от Бога, а потому, что меняется человеческая среда, воспринимающая откровение. Христианство может восприниматься гуманизированной средой и может восприниматься бестиальной средой. А эта среда зависит от социальных отношений людей. Когда в социальной жизни отношения между людьми волчьи, когда человек угнетает и эксплуатирует человека, то от этого меняется и духовная жизнь людей, меняется даже богопознание. Человеческое познание зависит от ступеней общности людей, от форм их кооперации, от характера человеческого труда. В этом отношении у Маркса была большая правда, но искаженная основной его ложью по отношению к духу. Маркс в справедливой реакции против отвлеченного идеализма сначала как будто хотел применить дух к социальной области, но потом начал совсем отрицать дух. Маркс был прав, когда учил, что основой исторического процесса является борьба человека, соединенного с человеком, т. е. социального человека, со стихийными силами природы. Но он почему-то вообразил, что это есть материалистическое понимание исторического процесса, в то время как борьба эта, как и всякая человеческая активность, есть борьба духа, и результаты ее зависят от состояния духа. Когда Маркс говорит, что дух и духовность определяются экономикой, то это может иметь лишь один смысл – обличение зависимости духа от экономики, как рабства и лжи. И он прав в своих обвинениях. Но сказать, что экономика может породить дух и духовность, значит сказать нелепость, которая никогда не была продумана марксистами до конца. Дух не может быть эпифеноменом, он изначален, он есть свобода. Эпифеноменом экономики может быть лишь ограничение и искажение духа и духовности. Классовые интересы могут породить ложь, но никогда не могут породить истины. Отношения между духовностью и социальной жизнью могут быть определены в такой форме: зависимость духовности от социальной среды есть всегда ее извращение и искажение, есть всегда рабство духа и символическая ложь, истина же, правда, справедливость, свобода есть результат активного действия духа на социальную среду и социальные отношения людей. И если дух пассивен в отношении к социальной жизни, к социальным отношениям людей, если духовность совершенно отрешается от социальной жизни и покорна социальным формам, как данности, то этим искажается самая духовность, замутняется и порабощается. Формы аскезы в прошлом в очень сильной степени зависели от социального строя, от социальных отношений людей и форм труда. Формы аскезы иные при натуральном хозяйстве, при существовании рабства и крепостного права или при капиталистическом хозяйстве и индустриальном пролетариате, и они, вероятно, будут еще иные при социалистическом хозяйстве. Недопустимо, например, проповедовать пост голодному. Дух должен активно реагировать на социальную среду, но внутренне он от нее не зависит, ибо по самому своему определению он есть свобода и вне детерминации. Детерминация всегда означает лишь недостаточную духовность, недостаточную пробужденность духа, недостаточную очищенность и освобожденность. Материализм принял рабство духа за сущность духа, болезнь за нормальное состояние. Именно выделение духовности в отдельную, отвлеченную сферу и материализировало земную жизнь и самую жизнь церкви. Источник материализма духовный.
Отделение духовности от полноты жизни привело к тому, что материальность стала господствовать над человеческой жизнью. Это и привело к царству буржуазности в духовном смысле слова. От этой буржуазности не спасет и социализм, если он будет отделен от духовности, он даже может ее закрепить. Царство буржуазности, отделенное от духа, стоит под знаком власти денег. Деньги и есть сила и власть мира, отделенного от духа, т. е. от свободы, от смысла, от творчества, от любви. Есть два символа – символ хлеба и символ денег, и две мистерии – мистерия хлеба, мистерия евхаристическая, и мистерия денег, мистерия сатаническая. И стоит великая задача – опрокинуть правительство денег и создать правительство хлеба. Деньги разделяют дух и мир, дух и хлеб, дух и труд. Деньги направлены прежде всего против целостной духовности, охватывающей всю жизнь человека. Отрешенная от полноты жизни духовность оправдывает власть денег, изменяет символу хлеба. В символе хлеба дух соединяется с плотью мира. Мир, отрезанный от духа, стоит под символом денег. Царство денег и есть царство объективации. Символ же хлеба возвращает к подлинному существованию. Царство денег есть царство фикций, царство хлеба есть возврат к реальностям. Социализм борется против царства, стоящего под символом денег. Но если социализм будет отрезан от духа и духовности, то он неизбежно приведет к царству денег. Царство денег есть царство князя мира сего, царство буржуазности. Таким может быть и социалистическое царство, если социализм не соединится с духовностью. Только духовность, т. е. свобода, т. е. любовь, т. е. смысл, действительно противостоит буржуазному царству денег, царству князя мира сего.
В прошлом, христианства не раскрылась еще целостная духовность, как не раскрылась целостная человечность. Не было целостной духовности потому, что духовно не была решена проблема человеческого труда, связывающая человека с жизнью космической. Духовность была отвлечена в особую сферу, отделенную от проблемы труда, от проблемы тела и его нужд, которая решалась в совершенной отделенности от всякой духовности, в противоположении духовности. И этим путем менее всего, конечно, могла быть достигнута целостная человечность. Мир буржуазно-капиталистический создавался в совершенной отделенности, отрешенности от духа и духовности, в крайней объективации, т. е. выброшенности вовне человеческого существования. Но и мир социалистический продолжает существовать в отделенности, отрешенности от духа и духовности, часто даже во вражде к духу. То, что Маркс называл отчуждением человеческой природы в капиталистическом хозяйстве, я и называю объективацией, превращением в объект. Но это отчуждение, эта объективация могут продолжаться и в социалистическом обществе, если оно будет против духа, если оно будет организовывать мир вне духа. Новая духовность стоит перед задачей преодоления непереносимого дуализма, разделяющего и раздробляющего человеческую природу. Старая духовность хотела знать борьбу со злом и с властью стихийной природы над человеком лишь через аскезу. Новое сознание, оторвавшее себя от духовности, хочет бороться со злом и с властью стихийной природы над человеком лишь через технику и техническую организацию жизни. Противоположение аскезы и техники разрывает целостную человеческую природу, делает духовность отвлеченной и бессильной в борьбе, а технику и организацию превращает в бездушное царство. Отрицание духовности есть отрицание человека, как образа Божьего в человеке, но отрицание значения техники, социальной борьбы и организации ведет к отрицанию и унижению человека, к рабству и покорности злу. С этим связана проблема новой духовности, которая соединяет созерцание и активность, духовную сосредоточенность и борьбу. Совершенно ложно строить духовную жизнь на старом противоположении «духа» и «плоти». У Апостола Павла это означает противоположение нового и ветхого человека. Новый человек, человек «духа», совсем не отрицает «плоть», если под «плотью» не понимать просто грех, – он стремится к овладению «плотью», к ее просветлению и преображению, т. е. к духовной плоти. С этим связано и иное отношение к социальной и космической жизни, иное отношение к трудовому процессу, от которого не может быть отделена духовность. Труд не есть только аскеза, труд есть также техника и строительство, есть жертва и борьба, внедрение человека в космическую жизнь, труд есть также кооперация с другими людьми, общение людей. И этот трудовой процесс имеет глубочайшую связь с духовностью, он меняет характер духовности, делает ее более целостной. В этом связь духовности и социальности. В мире должна образоваться духовность, христианская духовность, которая может быть названа социалистической, коммюнотарной, но которая прежде всего персоналистическая, так как в основании ее лежит отношение человека к человеку, к ближнему, ко всякой конкретной человеческой личности. Эта духовность будет бороться против тирании общества над человеческой личностью, она признает священные права человека на интимную жизнь и даже на одиночество. Признание форм духовности первоосновой форм общности и общества переносит центр тяжести в выработку человеческого характера, в повышение человеческого качества.
4
Книга эта написана о Духе, а не о Святом Духе, это книга философская, а не богословская. И я не предлагаю говорить о догматических вопросах, связанных с учением о Духе Святом. Но все-таки проблема о Духе Святом и об Его отношении к Духу вообще существует для мысли христианской, и она центральна. Христианство пневмацентрично. Пневма, Дух – носитель и источник профетического вдохновения в христианстве. Христианству глубоко присущ скрытый параклетизм, и всегда была христианская надежда, что параклетизм раскроется, что будет новое излияние Духа Святого в мире. О. С. Булгаков верно говорит, что нет личного воплощения Духа Святого, что его воплощение всеобщее, разлитое по всему миру. Поэтому так трудно определить отношение Духа и Святого Духа. В Духе действует Святой Дух. Духовная жизнь есть приобщение к божественной жизни. Например, для К. Барта Дух есть дар благодати Творца творению. Благодать есть для него наша тварность. Святой Дух присутствует в человеке эсхатологически. Но бартианство ограничивает возможности действия Святого Духа на человека и мир, и это одно из основных противоречий этого учения. Католическая теология почти отождествляет Дух Святой с благодатью, но это действие благодати устанавливает закономерности. Что говорится о Святом Духе в Священном Писании? Прежде всего нас поражает, что в Евангелии все происходит от Духа Святого и через Дух Святой. Рождение всегда происходит от Духа. Иисус родился от Духа, был крещен Духом Святым и возведен Духом в пустыню. Вот какими словами определяется в Евангелии роль Духа Святого: «Не вы будете говорить, но Дух Отца будет говорить в вас» (Матф., гл. 10, 20). Духом Божьим изгоняются бесы. «Хула на Духа не простится человеком» (Матф., гл. 12, 31). «Не знаете, какого вы Духа» (Лук., гл. 9, 55). «Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить» (Лук., гл. 12, 12). «Нужно родиться от Духа, чтобы войти в Царство Божье» (Иоанн, гл. 3, 5). «Дух дышит, где хочет» (Иоанн, гл. 3, 8). Дух животворит. Отец пошлет Утешителя Духа Святого (Иоанн, гл. 15, 26). Он научит всему. Дух истины наставит на всякую истину (Иоанн, гл. 16, 13). Все происходит через Дух. Нужно испытывать духов. Дух есть истина (I Послание Иоанна). Духом все судится. Дух все пронизывает. Дары даются Духом. Прежде душевное, потом духовное. Буква убивает, а Дух животворит. «Господь есть Дух, где Дух Господен, там свобода» (II Послание к Коринфянам, гл. 3,17). «Духа не угашайте» (I Послание к Фессалон., гл. 5, 19). Самые поразительные слова: Дух дышит, где хочет, где Дух, там и свобода, только хула на Духа не простится, Духа не угашайте. Евангелие и апостольские послания оставляют впечатление панпневматизма. Учение о Духе Святом почти не было выработано, его не было у апостолов, не было у апологетов, оно слабо развито у учителей церкви и часто носит характер субордоционализма. Но как я говорил уже, именно Дух Святой наиболее близок человеку, наиболее имманентен, наиболее всеобъемлющ по своему действию и Он наименее понятен, наиболее таинственен. Может быть, и не должно быть никакой доктрины о Духе Святом. Доктрина связывает и ограничивает. Именно доктрина производит резкое разделение между Святым Духом и Духом, всеобъемлющей жизнью Духа. Все харизмы, все дары происходят от Духа, не только дары пророка, апостола, святого, но и дары поэта, философа, изобретателя, реформатора. Религия Духа говорит не об оправдании и не о спасении, а о просветлении человеческой природы, о реальном изменении. Невидимое царство Духа творится неисповедимыми путями, и нет никаких законнических ограничений в этих путях. Действие Духа всегда означает преодоление подавленности и униженности человека, жизненный подъем и экстаз. Таковы признаки Духа Святого в Священном Писании, таковы и признаки Духа в культурной и социальной жизни. Св. Симеон Новый Богослов говорит, что озаренность, т. е. духовность, не нуждается более в письменном законе. Есть глубокая противоположность между Духом и законом. Есть глубокое различие между вдохновением, харизматизмом, новым рождением в первохристианстве и последующими аскетическими школами, с методами и законами, с длительным путем совершенствования. Святой Дух и Дух по действию своему схожи, одинаково связаны с вдохновением, с харизматизмом, с подъемом жизненных сил. Существует глубокая пропасть между Духом и авторитетом. Действие Духа Святого и Духа не непрерывно, не эволюционно, а прерывно и прерывно.
Авторитет играет огромную роль в религиозной жизни. Авторитету придают религиозный характер. Но авторитет относится не к области пневматологии, он относится к области социологии. Авторитет существует лишь в объективации, его нет в самой духовности. Авторитет есть социализация духа, он приписывает духу и духовности социальные отношения властвования. Авторитет видит в духовной жизни те же отношения, которые существуют в жизни социальной, где «князья народов господствуют» и «вельможи властвуют». Его Христос сказал, что между вами, т. е. в духовной жизни, да не будет так. Авторитет есть явление церкви как социального института. Искание авторитета есть искание критерия, который стоял бы над относительным и изменчивым множественным человеческим миром, который был бы сверхчеловеческим. Это есть искание гарантии и безопасности. Но гарантия и безопасность и есть как раз человеческое, слишком человеческое. Гарантия и безопасность связаны с социальной жизнью людей, а не с духовной жизнью. Духовная жизнь опасна, она не знает гарантий, она есть свобода, свобода же есть риск. Авторитет есть детерминация, и он относится лишь к сфере, в которой есть определяемость извне. Такова сфера внешнего общества, а не сфера духа. Гегель был, конечно, плохой христианин, но он был прав, когда говорил, что Дух есть возвращение к себе, что Святой Дух есть субъективный Дух. Авторитет есть край объективности, крайний полюс объективности. Дух же край субъективности, глубина субъективности. В авторитете, в религиозном, духовном авторитете происходит отчуждение Духа от самого себя, он выбрасывается вовне. Духовный авторитет совсем не духовен, он социален, он-то и есть человеческое, не раскрывшее в себе божественное, а оторванное от божественного и погруженное в человеческие отношения властвования. Авторитет выражается не в неизреченных дыханиях Духа, не во вдохновении, а в человеческих словах, человеческих понятиях, человеческих законах, человеческих интересах. В авторитете говорят и действуют папы, соборы, епископы, социальные институты, а не Дух. Если же в папах, соборах, епископах, социальных институтах действует Дух, то авторитета больше нет. Нахождение духовного критерия и означает исчезновение критерия, исчезновение самого вопроса о критерии. Не может быть критерия для Духа, самый Дух есть критерий. Не может быть низшее критерием для высшего, не может авторитет, который всегда имеет социальную природу, быть критерием для Духа. Дух сам наставляет нас на истину. И нет критерия для отличия того, что от Духа и что не от Духа, нет критерия, кроме самого Духа. Ложно искать критерия, это всегда означает слабость веры и неверие, неверие в действие Духа. Действует или не действует Дух, а пусть на всякий случай действует власть, начальство, авторитет с гарантиями безопасности. Так строит свою жизнь Церковь, как социальный институт, действующий в истории. Эта жизнь подчинена социальной детерминации. Ложно искание суверенитета. Все суверенитеты проходят через человеческое, через человеческие слова, мысли, действия. И всякому человеческому суверенитету противостоит человеческий же суверенитет. Суверенитет принадлежит лишь Богу. И суверенитет Бога никогда и нигде не воплощается, воплощается лишь жертвенная любовь Бога, а не суверенитет. Да и Бог, в конце концов, не есть суверенитет, ибо суверенитет – человеческое, а не Божье. Бог никогда не являлся в мире богатым, он являлся лишь бедным, он не воплощался как сила этого мира, он воплощался лишь как распятая правда. Бог не есть суверенитет, ибо не есть власть. Власть есть человеческое, а не Божье. Власть относится не к духовной жизни, а к социальным отношениям людей. Бог есть сила, а не власть. Сила Божья духовна и не походит на проявление силы в этом мире. Духовная сила есть свобода. Духовная сила не нуждается в силах этого мира, она есть чудо по сравнению с детерминированностью этого мира.
Все искания критерия для духовной жизни, все учения об авторитете вращаются в порочном кругу и ничего не разрешают и не достигают. Самое совершенное учение об авторитете – учение католическое, – в сущности, не достигает гарантий, ибо гарантий не может быть. Католическому учению удалось лишь создать сильную дисциплинарную власть, т. е. как раз показать, что авторитет относится к социальной сфере религиозной жизни. В конце концов, неизвестно, когда папа говорит ex cathedra,[19 - С кафедры (авторитетно, непререкаемо) (лат.).] т. е. как непогрешимый, и когда не ex cathedra, т. е. погрешимый подобно всем людям. Когда папа погрешал, а он не раз погрешал в истории, оказывалось, что он говорил не как непогрешимый папа. Но это значит, что папа был непогрешимым лишь тогда, когда высказывал непогрешимые истины, т. е. совершенно так же, как и другие люди. Папа непогрешим, когда вдохновлен Святым Духом. Но нет критерия для решения вопроса, когда именно он вдохновлен Святым Духом. Еще большие затруднения получаются, когда непогрешимый авторитет приписывается, например, собору епископов. Собор непогрешим лишь тогда, когда вдохновлен Святым Духом и высказывает истину. Но нет никакого критерия для решения вопроса, когда именно собор вдохновлен Святым Духом. Критерий не в соборе, а в Духе Святом. И нет критерия для Духа Святого. Да и Дух Святой не критерий, всегда ведь имеющий рациональный и юридический характер, а благодать, свобода, любовь. К Духу Святому неприменима никакая детерминация. Это понимал Хомяков в своем учении о соборности, отрицающем всякий внешний авторитет. Дух Святой действует в соборности, в Церкви, как целом, в церковном народе. Для этого нет никаких критериев. Не то есть истина, что говорит собор, а то есть собор, где говорится истина. Не там действует Дух Святой, где собор, а там собор, где действует Дух Святой. Еще глубже понимал Достоевский, что искание авторитета в религиозной жизни есть соблазн. В «Легенде о Великом Инквизиторе» он видел в авторитете соблазн антихриста. И то, что открывалось Достоевскому, относится не только к католичеству, но и к православию, и ко всякой религии, ко всякому принципу авторитета в духовной жизни. Защитники авторитета обыкновенно обвиняют противников в отрицании воплощения Духа, в признании лишь Духа невоплощенного или развоплощенного. Это неверно. И это обвинение часто бывает лживым. Дух, Святой Дух воплощается в человеческой жизни, но он воплощается не в авторитете, а в целостной человечности. Это основная мысль моей книги. Тогда только антропоморфизм оправдывается как путь богопознания, ибо Бог подобен не внешней природе, не обществу, не понятию, выработанному мыслью, а целостной человечности. Дух Святой действует не в иерархических чинах, не во власти, не в законах природы или законах государства, не в детерминации объективированного мира, а в человеческом существовании, в человеке и через человека, в человеческом творчестве, в человеческом вдохновении, в человеческой любви и жертве. Ошибочно отождествлять воплощение с объективацией. В социальных институтах происходит объективация Духа, а не воплощение Духа. В процессе объективации церковь как социальный институт была превращена в идола, как и государство, как и нация, как все, что организует социальную обыденность. Церковь как синагога переживает страшный кризис, от нее отлетает Дух, в ней нет Духа пророческого. И мы должны уповать на новую эпоху Святого Духа. Откровение всегда в Духе и всегда духовно, оно не в объективированном порядке и обществе совершается, оно там лишь символизируется. Религиозное откровение духовно, и возврат к истокам откровения есть возврат к Духу и духовности. Только такой возврат не будет реакцией. Ошибочно было бы видеть в предании авторитет. Подлинное предание экзистенциально, и оно есть духовная жизнь. Предание же, традиция, ставшая законнической и окостеневшей, есть угашение духа.
5
Новая духовность на философском языке означает освобождение от объективации и от подчинения духа дурной, падшей социальности. Вместе с тем это означает переход от символизации духа к реализации духа. Духовная жизнь есть освобождение от рабства, от магической заколдованности человека, от иллюзий сознания и от подавленности бессознательной родовой традицией, от всякого рода табу, мешающих свободному движению. Если на это скажут защитники старой духовности, что самое важное и самое первое есть борьба с грехом и освобождение от греха, то это совсем не будет возражением против сказанного. Грех и есть рабство человека, утеря свободы духа, подчинение одетерминации извне. Дух и духовность совсем не есть подчинение в этом мире объективированному порядку природы и общества и сакрализация установившихся в этом мире форм (внешней церковности, государства, собственности, национального быта, родовой семьи и пр.). Дух революционен в отношении к миру, и на земле он выразим не в объективных структурах, а в свободе, справедливости, любви, творчестве, в интуитивном познании, не в объективности, а в экзистенциальной субъективности. Победа духа над миром есть победа субъективности над объективностью, личного и индивидуального над общим. Объективация духа, которая ведет к признанию священными структуры Церкви, как социального института, иерархической власти, государства, национального родового быта и пр., роковым образом переходит в идолопоклонство. Дух все более и более уходит от самого себя, отчуждается, и потому-то и происходит не реальная спиритуализация тех сфер, в которые дух вступает, а лишь условная символизация. Реальная спиритуализация есть не объективация духа, а субъективация духа, т. е. создание порядка, основанного на субъективности, на экзистенциальных субъектах, т. е. порядка персоналистического. Реально священным может быть лишь экзистенциальное – свобода, творчество, любовь, а не исторические образования и структуры. В объекте не может быть ничего священного, оно может быть лишь в субъекте. В объекте дух иссякает. В объекте все условно, все имеет лишь характер знака, а не самой реальности. Поэтому так ничтожно и суетно всякое величие в истории. В истории мира происходит противоборство двух начал: субъективности, духовности, первореальности, свободы, истины, правды, любви, человечности и объективности, мирности, детерминизма извне, пользы, устроения, силы, власти. Это и есть борьба Царства Божьего и царства кесаря. Сын Божий и Сын Человеческий был распят в этом мире. И дух распинается в мире объективации, объективация духа есть его распятие.
Поэтому отношение между духом и силой очень парадоксально в этом мире. Дух есть сила, и только дух есть активность. Материя есть слабость и пассивность, не вполне еще реальность. Но материя представляется нам большей силой в мире, чем дух. Н. Гартман не без основания говорит, что наиболее ценное слабее всего, наименее же ценное сильнее всего. Сила самого материального и самого низменного в этом мире связана с тем, что она может совершать насилие, насилие же не может совершать самое ценное, не может совершать дух и Бог. Это главным образом связано с объективацией, объективация обрекает на то, чтобы силой, способной совершать насилие, было не высшее, а низшее, и это низшее сакрализуется. Государство несравненно сильнее Церкви, экономика несравненно сильнее духовной культуры. Армия, вооруженная сильной техникой, может уничтожить все. И когда Церковь хотела быть силой в объективированном мире, она прибегала к орудиям насилия, заимствованным у государства. Духу и духовности были присвоены черты, заимствованные из объективированного мира, в котором все принимает формы материального принуждения. Объективированный мир организуется для среднего человека, для социальной обыденности. В этом мире дух был распинаем, распинаема была аристократия духа, аристократия творчества и аристократия любви, сердца, т. е. лучшие. Объективация есть торжество середины, она не терпит духовного возвышения. Для объективированного мира был создан и особый Бог. Бог был понят как власть, как сила насилующая, совсем подобно государственному порядку, или как сила детерминирующая извне, совсем подобно каузальным связям природного порядка. Но возрастание духовности означает освобождение от этой идеи Бога, очищение богопознания от низших категорий каузальности и властвования. Высшая же духовность есть окончательное угасание объективности. Царство духа есть внутреннее царство субъективности, царство свободы и любви, не знающее внеположности и отчужденности, т. е. каузальных отношений и отношений властвования. Но христианская духовность несет тяготу падшего мира, как вольную жертву, как нисхождение любви и милосердия. Духовность определяет свое отношение к миру не как подчинение и послушание, не как конформизм, не как приспособление к силе и власти, а как жертву любви, как нисхождение, как несение тяготы мира. Новая духовность должна производить впечатление развоплощения, она восстает против воплощения, как объективации, как освящения исторически относительного, но в сущности это есть перевоплощение, не эволюционное, а катастрофическое перевоплощение.
В духовной жизни происходит борьба символизма и реализма. Дурной, порабощающий символизм есть не что иное, как принятие символов за последние реальности, т. е. непонимание символики. Дурной символизм есть наивный реализм. Настоящий же реализм связан с пониманием символики, с сознанием отличия символики от реальности. Именно символическая теория познания должна расчистить почву для реализма. Нужно различать символизацию духа и духовности от реализации духа и духовности. Не только в культуре играет огромную роль символика, но и в мистике. Мистика знает символику сексуальных и родовых отношений – супруг, возлюбленный, невеста и др. Особенностью символизма является то, что он вносит условность и повторяемость, что в нем нет постоянного творчества, что он в конце концов есть одно из орудий объективации. Реализм же в духовной жизни сметает условность и предполагает постоянный творческий процесс. Духовный реализм раскрывается в творчестве, в свободе, в любви. Новая духовность и будет реализмом, реализмом свободы, реализмом активности и творчества, реализмом любви и милосердия, реализмом изменения и преображения мира в отличие от освящения и ознаменования. Мы не можем преодолеть символики в языке и мышлении, но можем преодолеть ее в самой первожизни. В описании духовного и мистического опыта всегда будут прибегать к пространственной символике, к символам высоты и глубины, к символам сего и иного мира и т. д. В реальном духовном опыте эти символы исчезают, нет глубины и высоты, нет сего и иного мира. Первичный творческий акт реалистичен и не заключает в себе символики, он не тронут еще переработкой мысли. Но когда результаты творческого акта входят в мир, то начинается символизация. И эта символизация действует обратно на духовную жизнь, сообщает ей символический характер. Духовная жизнь получает печать символизма «культуры». Духовная жизнь начинает определяться отношением к «бытию», которое есть уже продукт мысли и несет на себе печать символики понятий. Когда духовная жизнь определяется в отношении бытию, то она определяется в отношении к объекту. Переход от символизма к реализму в духовной жизни есть переход от объективации к тайне существования. Это не значит, конечно, что возможен скачок к единству и тождеству божественной жизни (к Божеству, понятому апофатически). Духовная жизнь есть путь, и на пути этом происходит борьба, требующая героизма и жертв, нужно прохождение через противоположение, разделение, разрывы. Духовная жизнь диалогична, и потому ее нельзя выражать в монизме. Для духовной жизни необходима встреча человека и Бога, человеческой воли и Божественной воли. Для реализации духовной жизни недостаточно Единого, нужно и другое в отношении к этому Единому. Реализм в духовной жизни неизбежно будет также очищением идеи Бога от искажающих человеческих привнесений, связанных с инстинктами властвования и тиранства, мазохизма и садизма. Это есть процесс спиритуализации богопознания.
Спиритуализация христианства не только не закончилась в мире, но она более нужна, чем когда-либо. В мире происходит суд над идеей Бога, оскорбительной для чистой совести и для чистой человечности. Происходит освобождение от дурной символики, отражающей замутненность человеческого сознания. И, может быть, самый атеизм есть лишь диалогический момент в процессе очищения богопознания, процессе спиритуализации и гуманизации. Человек символически сообщал своей идее о Боге свою бесчеловечность. Но в очищенной духовной жизни раскрывается человечность Бога. Такая очищенная спиритуализация должна изгнать из мистики физические истязания, должна освободить человека от кошмарной патологической идеи, что Бог умилостивляется страданиями людей. Эта меняет весь характер духовной жизни. Бог нуждается не в истязаниях людей, не в страхе и приниженности людей, а в их возвышении, в их экстатическом выходе из своей ограниченности. Новая духовность и будет прежде всего опытом творческой активности и творческого вдохновения. Поэтому прекращается символизация, связанная с приниженностью и подавленностью человека. Задача духовной жизни есть прежде всего выход из собственной ограниченности и самопоглощенности, преодоление эгоцентризма. Только выход из себя реализует личность. Но старая духовность и старая аскеза часто оставляли человека заключенным в себе, самопоглощенным, сосредоточенным на собственных грехах, собственных страданиях. Это и порождает ложные символизации, иллюзии сознания. Духовность не может быть исключительным направлением энергии человека на самого себя, она направляет энергию человека на других людей, на общество и мир. Этому учит Евангелие. Дух освобождает человека от ложной символизации своей жизни, препятствующей реализации. Освобождает человека от тяжести самого себя именно дух, объекты не освобождают человека от самого себя. Объективизм есть обратная сторона поглощенности самим собой, невозможность реально выйти из себя. Примером безнадежной поглощенности собой являются истерические женщины. Это есть классическая форма эгоцентризма, отнесения всего к себе, невозможность выйти к реальностям, вовсе не к объектам, а к «ты», к «мы», к Богу. Мы говорили уже, что истерические женщины создают ложный мир символики, они объективируют собственный эгоцентризм, собственные мании. Но что-то от этого есть и в каждом человеке, пораженном грехом эгоцентризма. Поэтому был создан уплотненный, затверделый мир символики, который изучает психопатология. Духовная победа над эгоцентризмом и есть реализм. Переход от символических ценностей к ценностям реальным есть вместе с тем победа достоинства и качества человека над достоинством и качеством чина, положения в обществе, победа личного достоинства над достоинством родовым, победа человеческой иерархии над иерархией родовой, иерархией социальных положений, победа того, что человек есть, над тем, что у человека есть. Это есть победа свободы духа над детерминацией природы и общества.
Духовная жизнь всегда подвергалась опасности законнического искажения. Это порождалось процессом социальной объективации, приспособления к обыденности. Но духовная жизнь не есть исполнение правил, законов, норм, не есть послушание «общему», общеобязательному, признанному нормальным. Духовная жизнь есть внутренняя борьба, испытание свободы, столкновение противоположных начал, она предполагает противоречие, сопротивление, отрицание, в ней есть трагическое начало. Новая духовность есть очищение духовности от инородных ей начал, от приспособления к социальной обыденности, к средне-нормальному сознанию. Поэтому новая духовность должна обнаружить творческое существо духа и оправдать смысл творчества. Новая духовность должна обнаружить, что только то, что от духа, свободно от лжи. То, что от «мира», всегда пользуется ложью как средством. Аскетическая метафизика, подменившая идею Царства Божьего идеей личного спасения, оказалась вместе с тем социальным приспособлением к условиям этого «мира», она разом и отрицала «мир» как греховный, и принимала «мир» как неизменный. Но чистое христианство отрицает не мир, т. е. не мир как космос, а мир неправды, лжи, ненависти, рабства, греха, и требует его изменения, искания Царства Божьего. Повторяем, христианство в своих евангельских и пророческих истоках не аскетично, а мессианично, революционно. Совершенство достигается не через погружение в «я» и его спасение, а через забвение о «я», через отрешенность, через направленность на других и на служение Царству Божьему в мире. В «мире» существует разрыв между средствами и целями, средства не походят на цели, хорошие цели хотят осуществлять дурными средствами. В духовной жизни нет различия средств и целей, ибо существует иное отношение ко времени, нет настоящего как средства и будущего как цели, есть выход в мгновение и вечность. В духовной жизни нет также различия между теорией и практикой, в ней созерцание есть также активность, активность есть также созерцание. Это и есть достижение внутренней целостности, целостности ума, т. е. целомудрия. Дух всегда активен в отношении к душе, и он действует на душу не как детерминирующая причина, а как свобода и благодать. Для понимания духовной жизни очень важно понять, что действие Бога, действие Святого Духа, действие благодати на человека не есть каузальное, причинное, как не есть и действие властвования. В этом скрыта тайна духовной жизни, не похожей на жизнь мира. Но ее постоянно хотели уподобить жизни мира, жизни природы, жизни общества и этим обнаруживали слабость духа. И так делали потому, что боялись, искали безопасности, гарантированности и находили ее не в высшей сфере, а в низшей, где царствуют причинность, закон и власть. И высшую сферу подменили низшей, этим утверждая большую безопасность и гарантированность. Но в духовной жизни все опасно. Человеческий эгоцентризм и самолюбие все переворачивают в противоположное и делают опасным то, что казалось наиболее безопасным, например смирение и послушание.
Дух часто противополагают первостихии, с которой дух призван бороться. Но в действительности дух наиболее противоположен не первостихии, не изначальному, не иррациональной глубине, а объективации и закону, т. е. сфере вторичной. Есть два разных смысла слова «природа», есть «природа» до сознания и «природа» после сознания, есть «природа» в экзистенциальном смысле и есть «природа» в смысле объективации. С «природой» в первом смысле возможно духовное общение, к «природе» во втором смысле возможно лишь научно-техническое отношение, романтики хотели вернуться к природе в первом смысле слова. Есть природа до греха, божественная, райская природа, и природа после греха, природа жестокой борьбы за существование, необходимости и рабства. Это различие плохо понимают такие враги духа, как, например, Клагес. Новая духовность должна быть обращена к природе в экзистенциальном смысле. Старая духовность очень была сращена с устаревшими и неприемлемыми для нас формами философии и науки, как и с устаревшими и неприемлемыми социальными формами. Но дух не может быть прикрепляем к преходящим формам познания, как и к преходящим формам общества. Это освобождение духа от преходящих познавательных и социальных форм должно быть совершено самим творческим духом. Новая духовность будет означать наступление духовного совершеннолетия, выход из детских пеленок, когда дух еще был погружен в душевную и природную стихийность, скованную законом.
Можно установить три ступени духовности: духовность, ограниченная природой, духовность, ограниченная обществом, и чистая, освобожденная духовность. Чистая, освобожденная духовность означает вместе с тем, что дух овладевает природой и обществом. В прошлом духовность была затемнена или влияниями натуралистическими, или влияниями социальными, зависимостью человека от природной или социальной среды. Поэтому духовность приобретала или космократическую, или социократическую окраску. В язычестве сильнее были ограничения духовности природой, в христианстве сильнее были ограничения духовности обществом. Чистая духовность не сакрализует ничего исторического, для нее священны лишь Бог и божественное в человеке, истина, любовь, милосердие, справедливость, красота, творческое вдохновение. Природное и социальное ограничение духовности ставит вопрос о столкновении конечного и бесконечного в духовной жизни. Ограничение духовности вносит конечность в духовную жизнь, закрывает бесконечность. Конечность в духовной жизни есть вместе с тем объективация. В религиозной жизни это есть ее рационализация и юридизация, применение к ней логических и правовых отношений. Принцип конечности в религиозной жизни наиболее противоположен духу пророчества. Но нужно отличать бесконечность духовную от бесконечности космической, в которой проваливается и исчезает личность. Духовную бесконечность нужно отличать также от абстрактной бесконечности, подчиненной математическому числу. Это есть бесконечность конкретная, и только чистая, освобожденная от природных и социальных ограничений духовность раскрывает перед человеком эту конкретную бесконечность, этот творческий полет. В мире же духовном раскрывается бесконечная свобода. Именно перспектива конкретной духовной бесконечности требует конца этого мира, в котором существует лишь дурная бесконечность. Духовность, обращенная к концу этого мира, есть духовность пророческая. Но ложно понимание ее как пассивности человека, как пассивного ожидания. Наоборот, это-то и будет самая активная духовность, духовность в подлинном смысле революционная. Новая духовность обращена не только к прошлому, к Христу, Распятому злом мира, но и к будущему, к Христу, Грядущему во славе, к Царству Божьему. Но явление Христа Грядущего, но Царство Божье подготовляется и человеческой активностью, человеческим творчеством. От человека зависит конец мира, а не только от Бога. И Христос, Христос Распятый, был не только Богом, но и человеком, в нем действовала и человеческая активность. Необходимо освободить человеческий образ Христа от условной иконописности. Да и Бог действует в мире через человека, через человеческий дух, через человека-Иисуса был слышен голос Божий и голос богочеловеческий.
Опыт пророческой духовности, всегда активной и творческой, есть пламенный призыв к служению миру и человечеству, но при свободе от мира, при свободе от велений общества. Это есть духовность, вырвавшаяся из тисков природной и социальной ограниченности. Все религии верили, что в человеке есть божественный элемент, хотя и несовершенно это выражали. В это верили и философы, возвышавшиеся до познания духа. В это, в сущности, верил и атеист Фейербах. Этот божественный элемент в человеке есть дух, есть духовное начало в человеке. Новая жизнь, которой жаждет человек, есть жизнь в духе, она имеет своим принципом пневму и без нее невозможна. Всякая высота в человеке есть дух. Новую жизнь нельзя мыслить лишь натуралистически или социально, ее нужно мыслить духовно. Но дух принимает внутрь себя и природную и социальную жизнь, сообщая ей смысл, целостность, свободу, вечность, побеждая смерть и тление, на которые обречено все не пронизанное духовностью. Вера в бессмертие есть лишь непосредственное сознание нашей духовности. И самое тело человека, принадлежащее его личности, пронизывается духовностью и завоевывается для вечности. На большей, на последней глубине открывается, что происходящее со мной происходит в глубине самой божественной жизни. Но тут наступает царство молчания, неприменим никакой человеческий язык, никакое человеческое понятие. Это сфера апофатики, охраняемая непримиримыми противоречиями, на которые наталкивается человеческая мысль. Это последний предел освобожденной и очищенной духовности, и он совершенно невыразим ни в какой монистической системе. По сю сторону остается дуализм, трагизм, борьба, диалог человека с Богом, остается множественность, поставленная лицом к лицу с Единым. Достижение абсолютно божественного единства происходит не через снятие принципа личности, а через погружение в духовную глубину личности, которая антиномически сопрягается с единством. Очищенная, освобожденная духовность означает отрешенность не от личного, связанного с множественностью бытия, а от природных и социальных ограничений, связанных с объективацией. Чистая, освобожденная духовность есть субъективация, т. е. переход в сферу чистого существования. Мир объективации может быть разрушен творческим усилием человека, но потому только, что в этом творческом усилии будет действовать и Бог. Это прежде всего предполагает изменение сознания, ибо ложная направленность сознания создала мир призрачный. Но это не будет идеализмом, который не чувствует сопротивления массивной реальности, т. е. массы числа, не только массы человеческой, но и массы мировой материи с ее инерцией, это будет духовный реализм, не только восходящий, но и нисходящий, дух активный, а не пассивный.
Библиография
Указываю здесь книги, посвященные выяснению того, что такое дух, истории самого термина «дух» и типам духовности и мистики. Все эти книги мной использованы и с пользой могут быть прочитаны теми, кто специально интересуется темой моей книги. Но библиография эта менее всего претендует на полноту, она могла бы быть увеличена во много раз. Отмечаю лишь то, на что было обращено мое внимание в работе над книгой.
Прежде всего нужно отметить классические источники по мистике и духовной жизни:
Plotin. Enneades; Die Nachsokratiker. Deutsch in Auswahl. Verlag Diederichs; Добротолюбие 5 т.; Подражание Христу; Bhagavad-Gita; Творения Псевдо-Дионисия Ареопагита, св. Исаака Сирианина, св. Иоанна Лествичника, св. Симеона Нов. Богослова (главным образом «Гимны»); св. Иоанна Креста (St. Jean de la Croix), св. Игнатия Лойолы; Николая Кузанского (Nicolaus von Cusa, wichtigste Schriften in deutscher Uebersetzung); Jakob B?hme. S?mtliche Werke. 6 B?nde; Экхарта; Таулера; Ангелуса Силезиуса; Seb. Franck. Paradoxa; Deutsche Fr?mmigkeit. Stimmen deutscher Gottesfreunde. Ver. Diederichs; еп. Феофан Затворник. Путь Спасения.