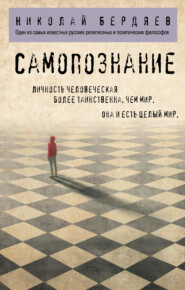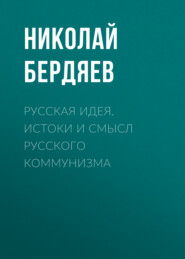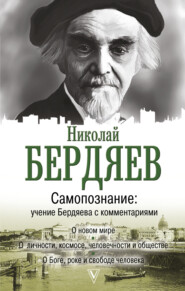По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Философия свободного духа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рационально нельзя понять тайны искупления, как нельзя понять никакой тайны божественной жизни. Юридическое, судебное учение об искуплении, которое, начиная с Св. Ансельма Кентерберийского, играет такую роль в католическом богословии и от которого не вполне свободно и богословие православное, есть рационализация тайны искупления, уподобление ее тем отношениям, которые существуют в природном мире. Это судебное понимание было лишь приспособлением небесной истины к уровню природного человека. Это – не духовное понимание. Не достойно понимать мировую трагедию как судебный процесс между Богом и человеком, возбужденный Богом за формальное нарушение Его воли человеком. Это есть перенесение на божественную жизнь, всегда бездонно-таинственную, языческих представлений о родовой жизни и родовой мести. Бог в языческо-ветхозаветном сознании представляется страшным властителем, карающим и мстящим за непослушание, требующим выкупа, заместительной жертвы и пролития крови. Бог представляется по образу и подобию ветхой, языческой человеческой природы. Для этой природы особенно понятна ярость, месть, выкуп, жестокое наказание. На юридическую теорию искупления положили неизгладимую печать римские и феодальные понятия о восстановлении чести.[31 - На этом особенно настаивает митрополит Антоний, самый непримиримый враг юридической теории. См. его «Догмат искупления». Он отрицательно прав, но не прав в своем рационалистическом отрицании мистического смысла жертвы.] За формальное нарушение Божьей воли начинается судебный процесс, и Богу нужна уплата; нужно дать ему удовлетворение такого размера, которое в силах умилостивить гнев Божий. Никакая человеческая жертва недостаточна для удовлетворения и умилостивления гнева Божьего. Только жертва Сына Божьего соответствует размерам содеянного преступления и вызванного им оскорбления Божьего. Все это совершенно языческие представления, перенесенные в христианство. Такое понимание тайны искупления носит внешнеэкзотерический характер. Языческий мир шел к искуплению, явленному в христианстве, в нем было великое ожидание. Но в языческих религиях было не духовное, а природное, натуралистическое понимание искупления. Предчувствие замутнено было ограниченностью природного мира. Язычество уже признавало искупительный характер кровавой жертвы. Бог требовал кровавых жертвоприношений. Кровавые жертвоприношения умилостивляли и питали богов. Божество как бы хотело человеческой крови и человеческих страданий. В таком понимании кровавых жертвоприношений сказывалась вся ограниченность натуралистических религий. Божество воспринималось через природу и на него ложилась печать отношений и свойств природного мира. Через Сына Отец Небесный открывается не как судья и властелин, как бесконечная любовь. «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». «Ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир». Искупление, совершенное Сыном Божьим, не есть суд, но есть спасение. Спасение не есть суд, а есть преображение и просветление природы, облагодатствование и обожение ее. Спасение не есть оправдание, а есть достижение совершенства. Идея Бога, как судьи, не духовна, а душевна. Судебное понимание искупления имеет смысл лишь для природного человека. Для духовного человека открывается иной аспект Бога. Нельзя приписывать Богу свойства, которые считаются предосудительными и для людей, – гордость, эгоизм, самодурство, злопамятство, мстительность, жестокость. Природный человек сделал образ Бога чудовищным. Для судебного понимания искупления религия Христа есть все еще религия закона, и в ней самая благодать понимается законнически, а не онтологически.
В христианстве искупление есть дело любви, а не судебной справедливости, жертва бесконечной любви Божьей, а не умилостивление, не уплата. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бухарев исходит из того,[32 - См. А. Бухарев «О современных духовных потребностях мысли и жизни».] что агнец заклан от начала мира, и высказывает замечательную мысль, что вольная жертва Сына Божьего изначально входит в замысел миротворения. Сам Бог изначально хочет страдать с миром. Судебное понимание мирового процесса превращает искупление в дело судебной справедливости. Бог требует, чтобы Ему была воздана справедливость, требует уплаты за понесенный урон, требует жертвы, соответствующей размерам содеянного преступления. В таком понимании не преодолевается языческое представление о жертве. Жертва Христа, тайна искупления с трудом вмещается в человеческое сознание. Крест – для иудеев соблазн и для эллинов безумие – и в христианском мире продолжает смущать, и понимание его преломляется в сознании ветхозаветно-языческом. Особенно на католической теологии лежит печать римского язычества с его юридическим формализмом.[33 - Но тем же духом проникнуто и православное «Догматическое богословие» митрополита Макария.] Законническое сознание с трудом преодолевается внутри христианства. Человек нуждается в законе и естественно склонен все понимать законнически. Христос совсем не отвергает и не отрицает закон, но Он открывает духовный мир, в котором действительно, реально преодолевается закон, преодолевается благодатной любовью и благодатной свободой. Свобода же неблагодатная, низшая свобода не может отрицать закона, она подчинена его действию. Христианство не есть религия закона, но эта истина не значит, что мы должны исповедовать аномизм. Сфера действия ветхозаветного закона и сфера действия новозаветной благодати – разные сферы. Но именно потому нельзя ветхозаветно-законнически понимать новозаветную благодать. Закон и судебная справедливость не понимают внутренней тайны отношений между Богом и человеком. В Новом Завете открывается, что Бог ждет не формального исполнения закона, а ответной свободной любви человека. Закон есть изобличение греха, он есть преломление воли Божьей в греховной природе, а не выражение первичной тайны отношений Бога к человеку. В искуплении открывается эта тайна. Судебное понимание искупления полагает, что грех может быть прощен человеку, гнев Божий может утихнуть от жертвы, принесенной Сыном Божьим. В таком понимании искупления отношения между Богом и человеческой природой остаются внешними, в человеческой природе ничто существенно не меняется. Но грех не может и не должен быть прощен. Не Бог не может простить человеку греха, а человек не может сам себе простить греха и отступничества от Бога и Его великого замысла.[34 - Это прекрасно развито во II т. книги Несмелова «Наука о человеке».] Бог не знает гнева, и всепрощению Его нет предела. Но у человека остается его высшая духовная природа, богоподобная природа, и она не мирится с низостью и падением, она оскорблена изменой Богу, предательством древнего человека, предпочтением темного ничто божественному свету. Человек жаждет искупить свой грех, чувствует свое бессилие, ждет искупителя и Спасителя, который вернет его к Богу. Духовная природа человека требует не прощения греха, а реального преодоления и уничтожения греха, т. е. преображения человеческой природы, внутреннего ее просветления. Смысл искупления – в явлении Нового Адама, нового Духовного человека, явлении любви, неведомой старому Адаму до грехопадения, в преображении низшей природы в высшую, а не в урегулировании внешнесудебных отношений между старым Адамом, его ветхой греховной природой и Богом, не в прощении и не в удовлетворении, даваемом одной стороной для другой. Смысл явления Христа в мире – в реальном преображении человеческой природы, в основании нового рода духовного человека, а совсем не в установлении закона, за исполнение которого даруется духовная жизнь. Через явление Христа в мир реально достигается духовная жизнь. Тут нет места для внешних отношений, это может быть понятно лишь имманентно-духовно. Человек жаждет новой, высшей, вечной по своему достоинству жизни, жаждет жизни в Боге, а не урегулирования внешних отношений и счетов с Богом. Это и есть стадия новозаветного откровения. Центральна в христианстве не идея оправдания, а идея преображения. Идея оправдания слишком много места занимала в западном христианстве, в католичестве и протестантизме. В христианстве восточном, в греческой патристике была в центре идея преображения теозиса.
Явление Христа и искупление духовно может быть понято лишь как продолжение миротворения, как восьмой день творения, как явление Нового Адама, т. е. как процесс космогонический и антропогонический, как обнаружение божественной любви в творении, как новая стадия в свободе человека. Явление нового духовного человека не может быть лишь результатом естественной, натуральной эволюции человеческой природы, хотя оно ею и подготовляется. Это явление предполагает прорыв из иного, духовного мира, из вечности в наш природный мир, мир времени. Естественная эволюция природного мира и природного человечества оставляет в замкнутых пределах природной действительности. Первородный грех, зло, лежащее в основании этого мира, оставляет в этой замкнутости, приковывает к дольному миру. Освобождение может прийти только сверху, из иного мира. Энергия мира духовного, мира божественного должна войти в нашу природную, греховную действительность и преобразить нашу природу, разорвать грани, разделяющие два мира. Небесная история входит в земную историю. Земная история размыкается. В истории человеческого рода, рода старого Адама, должно было подготовляться принятие нисходящего из иного мира Нового Духовного Человека, должно было совершаться духовное подготовительное развитие. В мире природном, в природном человечестве должна была явиться чистая восприимчивость к божественному началу, просветленная женственность. Дева Мария, Божья Матерь и была таким явлением просветленной, софийной женственности, в которой род человеческий принял в свои недра Сына Божия и сына человеческого. В Христе-Богочеловеке, Новом Адаме, бесконечная Божья любовь встретилась с ответной любовью человека. Тайна искупления есть мистерия любви и свободы. Если Христос не только Бог, но и человек, а этому учит нас христологический догмат о богочеловечестве Христа, то в искуплении действует не только Божья природа, но и человеческая природа, небесная, духовная человеческая природа. Через Христа-Богочеловека раскрывается нам, что человек принадлежит не только земному, но и небесному роду, что духовный человек через Сына пребывает в глубине божественной действительности. В Христе, как Абсолютном Человеке, в себе заключающем весь духовный род человеческий, все множество человеческое, духовный человек делает героическое усилие победить грех и его последствие, смерть через жертву и страдание, и ответить на Божью любовь. Человеческая природа во Христе соучаствует в деле искупления. Жертва есть закон духовного восхождения. И в роде Христовом, в новом духовном роде, открывается новый период в жизни творения. Адам пошел путем испытания свободы и не ответил на Божий зов свободной и творческой любовью. В Адаме не раскрылся еще духовный человек. Христос, Новый Адам, отвечает Богу на Его любовь и открывает путь этого ответа для всего своего духовного рода. Искупление есть двуединый, богочеловеческий процесс. Без человеческой природы, без свободы человека тайна искупления не может совершиться. И тут, как и повсюду в христианстве, тайна богочеловечества Христа есть ключ к истинному пониманию. И окончательно эта тайна разрешается в Божественной Троичности, в Духе разрешаются отношения между Отцом и Сыном. Зло нельзя победить без участия свободы человека, и зло подрывает и искажает свободу, с помощью которой нужно победить зло. Это есть основная антиномия, которая разрешается в тайне богочеловечества Христа. Сын Божий, Вторая Ипостась Божественной Троичности, своей крестной мукой преодолевает противоположность между человеческой свободой и божественной необходимостью. На Голгофе, в страстях Сына Божьего и Сына Человеческого свобода становится силой Божьей любви, и спасающая мир сила Божьей любви просветляет и преображает человеческую свободу. Истина, явленная как жертва и любовь, без насилия делает нас свободными, она создает новую, высшую свободу. Свобода, которую дает нам Истина Христова, не есть дитя необходимости. Искупление не может быть понято как возвращение человеческой природы в первобытное состояние, которое свойственно было Адаму до грехопадения. Такое понимание делает бессмысленным мировой процесс. Он оказывается чистой потерей. Но новый Адам, новый духовный человек, выше старого Адама, не только Адама падшего, но и Адама до грехопадения, он обозначает высшую стадию миротворения. Тайна бесконечной любви и новой свободы не могла быть еще ведома старому, первобытному Адаму. Эта тайна раскрылась лишь в Христе. Явление же Христа не может быть обусловлено исключительно отрицательными причинами – существованием зла и греха, оно есть положительное откровение высшей стадии миротворения. Искупление не есть возвращение к райскому состоянию до грехопадения, искупление есть переход к высшему состоянию, к обнаружению высшей духовной природы человека, не бывшей еще в мире творческой любви и творческой свободы, т. е. новый момент миротворения. Творение мира не было завершено в семь дней, это был лишь один из эонов в судьбе творения. Мир динамичен, а не статичен, в нем возможны достижения новой высоты. Ветхозаветная картина миротворения не раскрывает полноты Божьего творчества. И новозаветное сознание не должно быть подавлено ветхозаветными границами в понимании творения. Творение мира продолжается, мир вступает в новые эоны. И явление Христа есть новый эон в судьбе мира, новый момент не только в антропогонии, но и в космогонии. Не только человеческая природа, но и весь мир, вся космическая жизнь изменилась после явления Христа. Когда капля крови, пролитой Христом на Голгофе, упала на землю, земля стала иной, новой. И если мы не видим этого чувственными очами, то по греховной ограниченности нашей восприимчивости. Вся мировая жизнь и вся человеческая жизнь уже иная после явления Христа, представляет новое творение. Это понять может лишь богословие, освобожденное от подавленности ветхозаветным сознанием. Искупление и есть единственная возможная теодицея, оправдание Бога и Божьего творения. Без свободы как бездны ничто, как бесконечной потенции не могло бы быть мирового процесса, новизны в мире.
§
В духовном понимании искупления преодолевается вампирическое отношение к Богу. Весь языческий мир снизу шел к тайне искупления и предчувствовал явление Искупителя. Уже в тотемизме дана была природная, натуралистическая евхаристия, поедали своего бога. Но предчувствуемое и чаемое искупление, мутно отраженное в природных стихиях, было связано с кровавыми жертвами и было вампирично. Языческий бог жаждал крови. И человек растерзывал и поедал своего бога. Язычество знало страдающих богов-искупителей. Но Диониса растерзывали менады, служительницы его культа. В христианстве, где искупление подлинно совершилось, евхаристическая жертва носит существенно иной характер. Христос есть Агнец, принесенный в жертву за грехи мира. Но распяло Христа и пролило Его кровь зло мира, злые в мире. Христиане же приносят бескровную жертву, жертву любви. Приобщение к плоти и крови Христа не носит вампирически-натуралистического характера. В искуплении и в евхаристии дух возвышается над природным круговоротом. В Христовом искуплении действуют сверхприродные силы, силы иного мира, проникающие в наш природный мир и преображающие его. Но в христианском сознании, все еще подавленном природной необходимостью, остается непреодоленным языческое понимание кровавой жертвы. У Ж. де Местра, напр., очень ясно сближение и почти отождествление между христианской евхаристической жертвой и языческой кровавой жертвой. Пролитие крови невинного искупает грехи виновных. Человек должен за все платить Богу. Это очень свойственно католическому сознанию. В таком понимании остается элемент вампирический в отношении к крови невинного. Но кровь невинного есть великая жертва любви. И мы призваны соучаствовать в этой жертве. Жертва носит духовный характер. Мы внутренне, мистически приобщаемся к Христу, соучаствуем в совершенном им деле. Дух Христов, дух Нового Адама, действовал уже в языческом мире, на вершинах языческих религий, в победах духа над природой, в орфизме, в Платоне, в великих язычниках, но только в христианстве был окончательно явлен, конкретно-реально, во плоти. В христианстве есть два духовных типа, которые кладут свою печать на понимание тайн христианской веры. Один тип переживает прежде всего страх гибели, чувствует себя под карающим мечом и ищет личного спасения, избавления от гибели. Другой тип прежде всего ищет высшей божественной жизни, Божьей правды и Божьей красоты, преображения всего Божьего творения, явления новой твари, нового духовного человека. Первый тип, более ветхозаветный, склоняется к судебному пониманию искупления. Второй тип, более новозаветный, склоняется к онтологическому пониманию искупления, как нового момента в миротворении, как явления нового духовного человека.[35 - В замечательной книге «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу» говорится: «Боязнь муки есть путь наемника. А Бог хочет, чтобы мы шли к Нему путем сыновним».] Эти два духовных типа, два направления духа противоборствуют в христианстве. Так Климент Александрийский, эллин по духу, стремился не столько к прощению грехов, сколько к созерцанию Бога и слиянию с Богом. Бл. Августин прежде всего стремился к прощению грехов, к оправданию.[36 - См. прекрасную книгу Е. de Faye «Clement d’Alexandrie».]
§
Для победы над злом нужно видеть зло, обличить его. Неведение зла и отрицание зла ослабляет силу сопротивления. Человек должен научиться различать духов. Человек находится во власти бесов, которые нередко являются в образе ангелов света. Но есть другая опасность, опасность исключительной концентрации на зле, сгущения его в себе и вокруг себя, видения его повсюду, преувеличения его силы и соблазнительности. Происходит какая-то непрерывная медитация над злом. Человек погружается в атмосферу мнительности и подозрительности. Он начинает более верить в силу дьявола, чем в силу Божью, в антихриста более, чем в Христа. Образуется крайне нездоровая духовная направленность, разрушающая положительную и творческую жизнь. Зло действует на человека не только через его отрицание, но и через крайнее его преувеличение. Ошибочно и вредно создавать ореол зла. В борьбе со злом человек заражается злом, подражает своему врагу.
Мнительность, подозрительность и злоба в отношении к злу и злым является новой формой зла. Борьба со злом по греховности человеческой природы легко сама порождает новое зло. И очень трудно человеку, борющемуся со злом, самому остаться в добре, не заразиться злом. История народов полна злом, порожденным борьбой против зла, все равно, консервативной или революционной. И ко злу должно быть не злое, а просветленное отношение. И к самому дьяволу нужно относиться по-джентльменски, благородно. Дьявол радуется, когда ему удается внушить к себе злые, т. е. дьявольские, чувства. Дьявол торжествует победу, когда с ним борются злыми, дьявольскими способами. Он внушил людям обманчивую идею, что можно злом бороться против зла. И образуются злые окружения в борьбе человека против зла, и человек погрязает в этих окружениях, они целиком овладевают человеком. Средства борьбы незаметно подменяют те цели, во имя которых ведется борьба. То, что человеку представляется борьбой против зла, подменяет для него само добро. Государство призвано в мире бороться против зла и класть пределы проявлению зла в мире. Но государство легко приобретает самодовлеющий характер, превращается в самодовлеющую цель. Средства, которыми государство борется против зла, сами легко превращаются в зло, оказываются злыми средствами. И так бывает всегда и во всем. Самая мораль обладает способностью превращаться в зло, угашая творческую жизнь духа. Право, обычай, церковный закон могут калечить жизнь. Помешательство на зле и на необходимости бороться с ним насилием и принуждением порабощает человека злу, мешает достигнуть отрешенности. И истинная духовная гигиена заключается в том, чтобы не погружаться в мир зла, а сосредоточиться на добре, на божественном мире, на видении света. Когда человек прежде всего и целиком занят всемирным масонским или еврейским заговором и повсюду видит его агентов, он духовно разрушает себя, перестает видеть мир света, мир божественный, наполняется злобными, мнительными и мстительными чувствами. Это – бесплодное и разрушительное направление духа. Не должно отдавать весь мир во власть дьявола и повсюду видеть дьявола. Осуждение повсюду зла и злых умножает зло в мире. Это достаточно раскрыто в Евангелии, но мы не хотим слушать то, что в Евангелии нам раскрывается. Зло нужно прежде всего видеть в самом себе, а не в других. И истинная духовная направленность заключается в том, чтобы верить в силу добра более, чем в силу зла, в Бога более, чем в дьявола. От этого нарастает в мире сила добра. Сила добра в мире возрастает от добрых чувств, а от злых чувств возрастает сила зла. Эта элементарная истина духовной гигиены очень плохо сознается людьми. Не только злоба против добра, но и злоба против зла разрушает духовный мир человека. И это нисколько не противоречит тому, что к злу должно быть беспощадное отношение и что с ним невозможно никакое примирение. Ложная направленность заключается в создании ада, в кристаллизации адского царства во имя борьбы за добро. Со злом нельзя бороться только пресечением и истреблением, зло нужно победить и преодолеть.
Наиболее радикальная победа над злом достигается изобличением его пустоты и небытия, тщеты и ничтожества всех злых страстей. Преувеличение силы и соблазнительности зла есть ложный путь борьбы. Зло соблазняет человека, но оно совсем не соблазнительно. Соблазнительность зла есть обман и иллюзия, и все силы духа должны быть направлены на изобличение этого обмана и иллюзии. Дьявол – бездарен, пуст, скучен. Зло есть небытие. Небытие же есть предел скуки, пустоты, бессилия. В последних пределах опыта зла это всегда изобличается: в конце всегда ждет небытие, пустота. Когда в борьбе против зла вы изображаете зло соблазнительным и сильным, но запрещенным и страшным, вы не достигаете последней и радикальной победы над злом. Зло, представляющееся сильным и соблазнительным, есть непобежденное и непобедимое зло. Лишь сознание совершенного ничтожества и абсолютной скуки зла побеждает его и вырывает его корень. Ни одна злая страсть не имеет бытия в конце своего осуществления. Всякое зло пожирает само себя, изобличает свою пустоту в своем имманентном развитии. Зло есть мир фантазмов. Это прекрасно изображал св. Афанасий Великий. Путь имманентного изобличения пустоты зла и имманентного его преодоления – самый радикальный путь. И человечество идет путями имманентного изобличения зла. И нужно всеми силами духа изобличать скуку, пустоту, небытийственность всякого зла. Когда слишком много говорят о запретной соблазнительности зла, то этим делают его соблазнительным. Зло есть зло не потому, что оно запрещено, а потому, что оно есть небытие. Ветхозаветному сознанию зло представлялось прежде всего нарушением воли Божьей, т. е. запретом. Но для такого сознания не раскрывается, почему зло есть зло, в чем смысл противоположности между злом и добром. Нормативное понимание добра и зла не есть глубинное понимание. Добро и зло должно понимать онтологически. Лишь имманентное изобличение небытийственности и пустоты зла раскрывает смысл противоположности между добром и злом, дает познание того, что есть зло. Зло познаваемо лишь в опыте его познавания и внутреннего его преодоления, лишь в опыте раскрывается его зияющая бездна пустоты. Когда человек срывает плод с дерева познания добра и зла, он идет путем зла, нарушает формально волю Божью. Но на этом пути он познает тщету и пустоту зла, понимает, почему зло запрещено. Должно ли зло быть познано, возможен ли и допустим ли гнозис зла? Ветхозаветно-законническое сознание отрицает допустимость познания зла. Познание зла запрещено. Зло есть предел. Оно может быть понятно лишь как запрет. Но человек пошел уже путем познания добра и зла, возврата нет к первоначальному состоянию райского неведения. И потому должна быть познана пустота зла, должно быть имманентно изобличено его небытие. С этим связана основная антиномия в отношении к злу.
Зло есть зло, оно должно сгореть в адском огне, с ним нельзя примириться. Таков один бесспорный тезис. А вот другой ему антиномический. Зло есть путь к добру, путь испытания свободы духа, путь имманентного преодоления соблазнов небытия. Первый тезис кристаллически ясный и безопасный. Второй тезис опасный и может породить муть. Не ведет ли познание зла к его оправданию? Если зло нужно, как необходимое и имеющее смысл, то оно оправданно. Если зло есть абсолютная бессмыслица и ни из чего невыводимо, то оно непознаваемо и его нельзя осмыслить. Как выйти из этой трудности? И еще антиномия. Христос явился в мир, потому что мир во зле лежит. Искупление, т. е. величайшее событие мировой жизни, с которого начинается новый духовный человеческий род, обусловливается существованием зла, так как если бы не было зла, то не было бы и Избавителя от зла, не было бы явления Христа, не была бы явлена небесная Любовь. Зло оказывается двигателем и возбудителем мировой жизни. Без зла осталось бы на веки веков первобытное райское состояние первого Адама, в котором не были бы раскрыты все возможности бытия, и не явился бы новый Адам, не была бы раскрыта высшая свобода и любовь. Добро, победившее зло, есть добро большее, чем то, которое существовало до явления зла. Эта трудность проблемы зла никогда не была побеждена богословским сознанием, она была затушевываема и замалчиваема. Чтобы найти выход из этой трудности, нужно ее сначала признать, т. е. стать лицом к лицу с антиномичностью зла для нашего религиозного сознания. Эта трудность неразрешима в понятии, непреодолима для разума, она связана с тайной свободы. Антиномия зла разрешима лишь в духовном опыте. Достоевский необычайно глубоко это понимал. Я могу идти к высшему добру через зло. Опыт зла, изобличающий его пустоту, может привести к величайшему добру. Через изживание зла я могу познать истину, добро в самой большей полноте. В сущности, и отдельный человек, и целые народы, и все человечество идут этим путем, изживают опыт зла и на опыте познают силу добра, высоту истины. Человек узнает ничтожество зла и величие добра не по формальному закону или запрету, а по опыту, в жизненном пути. Вообще ведь ничего нельзя познать никаким другим путем, кроме духовно-опытного. Но какие отсюда можно сделать выводы для моего духовного пути? Могу ли я себе сказать: я пойду путем зла, чтобы обогатить свое познание, чтобы прийти к еще большему добру. Когда я начинаю сознавать зло как положительный путь к добру, как положительный метод познания истины, я погибаю, я бессилен изобличить его ложь, тьму и пустоту. Опыт зла лишь в том случае может быть для меня путем к добру, если в опыте этом я познаю и изобличаю ложь, ничтожество, небытийственность зла и отрицаю его как способ обогащения моего духа, сжигаю его. Опыт зла обогащает мой дух именно в изобличении зла, в совершенном его отрицании. Тогда в духовном опыте находит себе разрешение антиномия, связанная со злом. Обогащает духовную жизнь не само зло, ибо небытие не может дать никаких богатств, обогащает имманентное изобличение пустоты зла, обогащает страдание, в котором сгорает зло, пережитая трагедия, свет, увиденный во тьме. Всякое же самодовольство во зле, любование им, как путем к высшему состоянию, есть гибель, движение к небытию и лишает человека обогащающего опыта. Познать зло значит познать его небытие, и потому познание зла не есть его оправдание. Лишь беспощадное и страдальческое изобличение зла и огненное его истребление в себе делает зло путем к добру. Не зло есть путь к добру, а на опыте совершающееся его изобличение и познание его небытия есть путь к добру. Но мы принуждены безбоязненно признать, не боясь парадоксии, что зло имеет положительный смысл. Смысл зла связан со свободой. Без этого невозможна теодицея. Иначе мы должны будем признать, что миротворение не удалось Богу. Принудительная райская невинность не могла сохраниться, она не имеет цены, и к ней нет возврата. Человек и мир проходят через свободное испытание, через свободное познание и свободно идут к Богу, к Царству Божьему.
Христианство учит прежде всего беспощадному отношению к злу в себе. Но, истребляя зло в себе, я должен быть снисходителен к ближнему. Максималистом я должен быть в отношении к себе, а не к другим. Ложный морализм и заключается в этом максимализме в отношении к другим людям. Я должен прежде всего в себе и в своей жизни явить силу и красоту добра, а не осуждать других за то, что в них не явлена эта сила и красота, когда она и во мне не явлена, не принуждать их к тому, к чему я сам себя не мог принудить. Ложь внешних политических и социальных революций заключается в том, что они хотят уничтожить зло внешне, оставляя его внутренне нетронутым. Революционеры, равно как и контрреволюционеры, и не думают начинать с преодоления и истребления зла в себе, они хотят преодолеть и истребить зло в других со стороны его вторичных и наружных проявлений. Революционное отношение к жизни есть совершенно поверхностное отношение, не знающее глубины. Ничего радикального, т. е. проникнутого в корень вещей, в революциях нет. Революции в значительной степени являются маскарадами, в которых происходят переодевания. Но то, что находится под максимально новыми одеждами, остается ветхим. Революции не столько побеждают зло, сколько по-новому перераспределяют зло и вызывают к жизни новое зло. Революции имеют и добрые последствия, после них начинается новая эра, но добро рождается тут не из революционной энергии, а из пореволюционной энергии, образовавшейся в результате осмысливания опыта революции. Зло преодолимо лишь изнутри и духовно. Преодоление зла связано с тайной искупления. Оно победимо лишь во Христе и через Христа. Мы побеждаем зло, лишь приобщаясь к Христу и соучаствуя в Его деле, принимая на себя Его крест. Зло непобедимо никаким внешним насилием. И если учение Л. Толстого о непротивлении злу ошибочно, то потому лишь, что он смешал два разных вопроса – вопрос о внутренней победе над злом и вопрос о внешних границах, полагаемых проявлениям зла в мире. Внешне и принудительно можно и должно полагать пределы проявлениям зла, напр. не допускать убийства и насилия одного человека над другим, но этим еще не побеждаются внутренние источники зла, не преодолевается сама воля к убийству и насилию. В истории христианского мира очень злоупотребляли противлением злу насилием, верили в то, что мечом можно победить зло. Но это было результатом смешения двух царств – Царства Божьего и царства кесаря, перенесением путей царства кесаря на пути Царства Божьего, нарушением границ между Церковью и государством. Государство призвано ставить внешние границы проявлениям злой воли, но победить зло оно не может, оно принадлежит природному миру, в зле и грехе лежащему, оно существует потому, что существует зло, и нередко само творит зло.
Проблема зла упирается в последнюю антиномию. Зло есть смерть, и смерть есть последствие зла. Победить зло в корне значит вырвать жало смерти. Христос победил смерть. И смерть должна быть нами свободно принята, как путь жизни. Смерть есть внутренний момент жизни. Нужно умереть, чтобы ожить. Смерть есть зло, как насилие надо мной внешнего, низшего природного мира, которому я подчинил себя своим грехом и злом, своим отпадением от высшего источника жизни, жизни вечной. Но вольно, без бунта принимая смерть как неизбежное последствие греха, я духовно побеждаю ее. Смерть становится для меня моментом внутренней мистерии духа. Смерть изнутри и духовно совсем иное значит, чем извне, как факт природного мира. Христос, не знавший греха, свободно принял Голгофу и смерть. И я должен идти этим путем. Соучаствуя в жизни и смерти Христа, я побеждаю смерть. Внутренне, духовно, мистически смерти нет, смерть есть мой путь к жизни, путь распятия греховной жизни, ведущий к жизни вечной. Приобщаясь к первоисточнику жизни, я побеждаю разрушительные последствия смерти. Для христианского сознания смерть есть не только зло, но и благо. Ужасна была бы бесконечная жизнь в этом греховном и злом природном мире, в этой плоти. Такая жизнь была бы духовной смертью. Преображение нашей природы и воскресение к вечной жизни, жизни в Боге, есть последний предел устремления воли к добру, к истине, к красоте. Преображение жизни мира в вечную жизнь есть последняя цель. Путь к ней лежит через вольное принятие смерти, через крест, через страдание. Христос распят над темной бездной, в которой бытие смешано с небытием. И свет, идущий от распятия, – есть молния во тьме. От света этого идет просветление всей тьмы бытия, победа над тьмой небытия.
Часть вторая
Глава VI
Бог, человек и Богочеловек
Начинать философствовать и богословствовать следовало бы не с Бога и не с человека, ибо оба эти начала оставляют разорванность непреодоленной, а с Богочеловека. Первичный феномен религиозной жизни есть встреча и взаимодействие Бога и человека, движение от Бога к человеку и от человека к Богу. В христианстве находит этот факт наиболее напряженное, сосредоточенное и полное свое выражение. В христианстве раскрывается человечность Бога. Очеловечение Бога есть основной процесс в религиозном самосознании человечества. На первых стадиях этого сознания Бог мог представляться подобным силам природы, животным, растениям. Тотемизм был откровением бога-животного. Возникновение же сознания человекоподобия Бога было обратной стороной сознания богоподобия человека. Бог без человека, Бог бесчеловечный был бы Сатаной, не был бы Троичный Бог. Основной миф христианства есть драма любви и свободы, разыгравшаяся между Богом и человеком, рождение Бога в человеке и рождение человека в Боге. Явление Христа-Богочеловека и есть совершенное соединение двух движений, от Бога к человеку и от человека к Богу, окончательное порождение Бога в человеке и человека в Боге, осуществление тайны двуединства, тайны богочеловечности. Тайна религиозной жизни непостижима вне двуединства, вне встречи и единения двух природ с сохранением их различности. Для сознания монистического, монофизитского непонятен самый первичный религиозный феномен, как феномен религиозной драмы, религиозной тоски и религиозной встречи, как тайны преображения и соединения. Также непонятен первичный религиозный феномен для сознания дуалистического. Тайна отношений между Богом и человеком невместима ни для монистически-пантеистического, ни для дуалистического сознания. Для одного сознания все находится в изначальном отвлеченном единстве и тождестве, для другого сознания все безнадежно разорвано и несоединимо, внеположно одно для другого. Бессилие монизма и дуализма понять тайну богочеловечности, тайну двуединства, есть бессилие рационального сознания и рационального мышления. Для рационального понятия о Божестве существует только отвлеченное Абсолютное, лишенное внутренней конкретной жизни, внутреннего драматизма отношений между Богом и Его Другим, завершенных в Третьем. Живой Бог и драматизм божественной жизни существует лишь для символически-мифологического мышления и сознания. Для такого лишь сознания Бог и человек стоят лицом к лицу, живые лица и отношения между ними есть жизнь, конкретная жизнь, полная драматизма, свойственного всякой жизни. Отвлеченный теизм, который был формой отвлеченного монотеизма, мыслит Бога и божественную жизнь как небесную монархию или небесный империализм, т. е. приписывает Богу гордое самовластие, самозамкнутость и самодовольство. Но такого рода небесный монархизм находится в явном противоречии с христианским учением о Св. Троице и ее внутренней жизни любви. Устроение земной жизни по образу такой небесной монархии есть утверждение самовластия и деспотии, а не утверждение триединой любви. Традиционное катафатическое богословие было подавлено мышлением в рациональных понятиях, и потому для него оставалась закрытой внутренняя жизнь Божества, из которой только и постижимо творение мира и человека, т. е. отношение Бога к своему другому. Творение мира и человека понимается экзотерически, внешне. Экзотерически-рационалистическое богословское сознание принуждено принять жестокую концепцию, согласно которой Бог без всякой нужды, по прихоти, без всякого внутреннего в нем движения сотворил мир, что творение Его ничтожно и внебожественно и что большая часть творения обречена на гибель. Богословское учение впадает в рационалистический дуализм, обратный полюс рационалистического монизма. Лишь мистико-символическое богословие возвышается до эзотерического понимания тайны миротворения, как внутренней жизни Триединого Божества, как нужды Бога в своем другом, в друге, в любящем и в любимом, в любви, осуществляемой в тайне Триединства, которая одинаково есть вверху и внизу, на небе и на земле. Богословское и метафизическое учение об абсолютной бездвижности Божества, об абсолютном покое в Боге есть экзотерическое и рационалистическое учение, оно указует на границы всякого логического понятия о Божестве. Но глубже мышление о Божестве как о coincidentia oppositorum.[37 - Совпадение противоположностей (лат.).] Так и мыслили все мистики. Так мыслил и Бл. Августин. Абсолютный покой в Боге соединен в Нем с абсолютным движением. Лишь для нашего рационального сознания, в нашем природном мире, покой исключает движение, движение делает невозможным покой. Абсолютное же совершенство Божества совмещает в себе абсолютный максимум покоя с абсолютным максимумом движения. Рационалистическому сознанию движение в Боге представляется противоречащим совершенству Бога, несовершенством и недостатком в нем. Но о Боге возможно лишь антиномическое мышление, в Боге тождественны противоположности. Тоска Бога по своему другому, по любимому и по его свободной ответной любви есть показатель не ущербности и неполноты в бытии Бога, а именно избыточной полноты и совершенства Его бытия. Абсолютную полноту и совершенство нельзя мыслить статически, отвлеченно, можно мыслить лишь динамически, конкретно, как жизнь, а не как субстанцию. Мистическое, апофатическое богословие помогает такому мышлению о Боге, оно расчищает для него почву. Но и апофатическое богословие может оказаться лишь достижением высших форм отвлечения и отрешения нашего познания Бога от всякого конкретного содержания. Учение о Боге Плотина было все же отвлеченным и отрешенным. Но для христианского сознания путь отрешенного и отвлеченного познания Бога есть лишь очищение и подготовление для положительного символически-мифологического понимания конкретной жизни в Боге. Богословско-метафизическое учение об абсолютной бездвижности Божества, которое представляется традиционным и официально признанным, находится в явном и разительном противоречии с сущностью христианской мистерии. Христианство в глубине своей не мыслит отношений между Богом и человеком, Богом и тварным миром в отвлеченных и застывших статических категориях. Для христианства эти отношений есть мистерия, мистерия же непостижима для отвлеченной мысли, невыразима в застывших категориях. В центре христианской мистерии стоит крест на Голгофе, крестная мука и крестная смерть Сына Божьего, Спасителя мира. Учение об абсолютной бездвижности Божества находится в противоречии с мистическим фактом страстей Господних. Христианство есть религия страдающего Бога. Хотя страдает не Бог-Отец, как думали патрепассионисты, но страдание Бога-Сына есть страдание во внутренней жизни Св. Троицы. Учение об абсолютной бездвижности Божества есть отвлеченный монотеизм, и оно противоречит христианскому учению о Троичности Божества, о внутренней жизни в Божественной Троичности. Это учение находится под влиянием Парменида и элеатов. Постижение Бога, как Троичного, есть постижение внутреннего, эзотерического движения в Боге, совсем, конечно, не похожего на движение, которое совершается в нашем природном мире. Внутренние отношения между Ипостасями Св. Троицы динамичны, а не статичны, они раскрываются как конкретная жизнь. И тайна миротворения может быть сокровенно, эзотерически постигнута лишь из внутренней жизни Божественной Троичности, из внутреннего движения Божества, из Божественной динамики. Когда мы приближаемся к этим тайнам, то все находится на острие, и очень легко с острия этого ниспасть в ту или иную бездну. Тогда получается для церковного сознания еретический уклон. Официальное богословское учение и было, в сущности, закрытием путей познания, на которых так легки еретические уклоны, было предохранительной педагогической мерой. Но всякий еретический уклон есть рационалистическое мышление о тайнах Божьих, есть бессилие вместить антиномизм, связанный со всякой мыслью о Боге. Еретические учения всегда рационализируют духовный опыт, всегда подавлены одной какой-либо его стороной. Христианские мистики этого не делают. Они высказывают самые дерзновенные мысли, которые пугают обыденное сознание, которые иногда кажутся безумными, более противоречащими обыденной вере, чем учения еретические. Но подлинные мистики вдохновенно описывают глубины духовного опыта, самую первичную мистерию жизни, они не строят понятий, они не сглаживают антиномичности духовной жизни. В этом все значение мистики и вся трудность ее для нашего сознания. Св. Симеон Новый Богослов говорит: «Прийди, всегда пребывающий неподвижным и ежечасно весь передвигающийся и приходящий к нам». Этими словами, трудными для официальной богословской доктрины, он выражает истину духовного опыта, совпадение в Боге покоя и движения. Тут нет никакой метафизики, основанной на понятии, тут непосредственно выражается самый первичный опыт духовной жизни. Томизм отрицает потенцию в Боге и, следовательно, возможность движения, он строит совершенно рационалистическое, на аристотелевской философии основанное учение о Боге, как чистом акте. Но если Бог есть чистый акт, то непонятно миротворение, непонятно творческое действие в Боге.[38 - Об этом хорошо говорит аббат Лабертоньер в книге «Le rеalisme chrеtien et l’idеalisme Grec». Шеебен говорит: «Gott ist von Ewigkeit her t?tig, er schaut sich Selbst und liebt sich Selbst». «Die Mysterien des Christentums». Остается непонятным, почему Бог сотворил себе другого.] Томизм противоположен мистике. Ограниченность богословских учений связана была с тем, что катафатическое переносилось на апофатическое.
Когда христианство учит о Троичности Божества и об искупительной жертве Сына Божьего, оно допускает процесс в Боге, божественную трагедию. Процесс божественный совсем иной, чем процесс, совершающийся в нашем разорванном времени. Процесс в божественной вечности не противоречит божественному покою. Божественная жизнь есть в вечности совершающаяся божественная мистерия. Она раскрывается в нашем духовном опыте. Внизу отображается то, что совершается наверху. И в нас, в нашей глубине совершается тот же процесс, который совершается на небе, процесс богорождения. Великие германские мистики делали различие между Богом (Gott) и Божественностью (Gottheit). Этому учил Экхарт. Бёме учил об Ungrund’e,[39 - Бездна, пропасть, безосновное (нем.).] лежащем глубже Бога. Смысл различия между Богом и Божественностью совсем не в том, что это есть какая-то метафизика, онтология Божества. Истина эта может быть выражена лишь в терминах духовного опыта и духовной жизни, а не в категориях застывшей онтологии. Как застывшая онтология, она легко принимает еретический уклон. Экхарт описывает раскрывающиеся в мистическом опыте соотношения между Богом и человеком. Бог есть, если есть человек. Когда исчезнет человек, исчезнет и Бог. «Раньше чем стать твари, и Бог не был Богом». Бог стал Богом лишь для творения. В изначальной бездне Божественного Ничто исчезают Бог и творение, Бог и человек, исчезает сама эта противоположность. «Несущее бытие по ту сторону Бога, по ту сторону различимости». Различение Творца и творения не есть еще последняя глубина, это различение снимается в Божественном Ничто, которое не есть уже Бог. Апофатическая, мистическая теология идет глубже Творца в Его соотношении с творением, глубже Бога в Его соотношении с человеком. Творец возникает вместе с творением. Бог возникает вместе с человеком. Это есть теогонический процесс в божественной Бездонности. Он есть обратная сторона процесса антропогонического. Ангелус Силезиус говорит: «Я знаю, что без меня Бог не может просуществовать ни одного мгновения. Если я превращусь в ничто, то Он от нужды испустит Дух». Он же говорит: «Я так же велик, как Бог, Он так же мал, как я». Эти дерзновенные слова великого мистика-поэта и в то же время ортодоксального католика могут смутить и испугать. Но нужно понять их смысл. Мистиков не так легко понять. У них особый язык, и язык этот универсален. И нельзя мистику перевести на язык метафизических и богословских систем. Ангелус Силезиус не строит никакой онтологии и теологии, он лишь воспроизводит мистический опыт. Он говорит о бесконечной любви между Богом и человеком. Любящий не может просуществовать без любимого ни одного мгновения. Любящий погибает, когда погибает любимый. Изумительные слова Ангелуса Силезиуса рассказывают о мистической драме любви, о бесконечной напряженности отношений между Богом и человеком. Мистика всегда говорит языком опыта. И всегда бывает ошибочно, всегда означает непонимание, когда мистиков истолковывают метафизически и теологически, когда их относят к каким-либо доктринальным направлениям. Все великие христианские мистики, без различия исповеданий, учили о том, что в вечности, в глубине духовного мира совершается божественный процесс, в котором возникают отношения между Богом и человеком, рождение Бога в человеке и рождение человека в Боге, встречаются любящий и любимый. Это – истины духовного опыта, истины жизни, а не метафизические категории, не онтологические субстанции. Движение в Боге, которое раскрывается в духовном опыте, не есть процесс во времени, в нем ничего не следует одно за другим. Это есть в вечности происходящее идеальное свершение, вечная божественная мистерия жизни. Только символически-мифологическое понимание отношений между Богом и человеком приближает нас к этой божественной мистерии. Метафизически-понятийное понимание этих отношений закрывает тайну внутренней жизни. Отвлеченной метафизике почти недоступен персонализм. Бог есть живая личность. Человек есть живая личность. Отношения между Богом и человеком в высшей степени живые и интимные отношения, конкретная драма любви и свободы. Такой живой персонализм всегда бывает мифологичен. Встреча Бога с человеком есть мифологема, а не философема. Эта встреча нашла себе наиболее острое выражение у ветхозаветных пророков, а не у греческих философов. Мышление наше имеет непреодолимую склонность к отвлеченному монизму, для которого нет живой личности Бога и живой личности человека, нет драматизма религиозной жизни. Пророки и мистики, апостолы и святые поведали миру о тайнах самой первичной жизни, божественной мистерии. Они рассказали миру о своем духовном опыте, о своих встречах с Богом. Это и есть живые истины религиозной жизни. Богословская и метафизическая переработка этого первичного религиозного опыта есть уже вторичное, опосредствованное. В богословские доктрины проникают уже категории и понятия, которые рационализируют живой религиозный опыт, и в них легко обнаруживается уклон то к отвлеченному монизму, то к отвлеченному дуализму. Богословский теизм, закрепленный в понятии и абсолютизирующий внеположность, внебожественность творения, есть такая же рационализация божественных тайн, как и пантеизм, отождествляющий Творца и творение. Отрешенность от чувственной конкретности, от множественности и подвижности природного мира, обращенность к пребывающему миру идей не есть еще последняя и высшая стадия духовного опыта и духовного созерцания. Платон и Плотин не поднялись еще до божественной мистерии жизни. Дальше и выше лежит духовная конкретность, самая первожизнь. В истории христианского сознания и христианского богословия переплетаются эти два момента – отрешенность в мышлении и идеях и духовная конкретность, мистерия жизни. Наследие эллинского духа слишком подавляет христианское сознание мышлением, отрешенным и очищенным от жизненной конкретности, т. е. дает преобладание метафизике над мифологией. Но в основе христианства лежит мифологема.
§
В духовном опыте раскрывается тоска человека по Богу. Душа человека ищет высшего бытия, возврата к источнику жизни, на духовную родину. Самое страшное, когда нет ничего выше человека, нет божественной тайны и божественной бесконечности. Тогда наступает скука небытия. Образ человека разлагается, когда исчезает в душе человека первообраз, когда нет в душе Бога. Искание человеком Бога есть вместе с тем искание самого себя, своей человечности. Человеческая душа мучится родовыми муками, в ней рождается Бог. И рождение Бога в человеческой душе есть подлинное рождение человека. Рождение Бога в человеческой душе есть движение от Бога к человеку. Бог нисходит в душу человеческую. И это есть ответ на тоску человека по Богу. Такова одна сторона религиозного первофеномена. Но религиозный первофеномен двуедин, в нем есть другая сторона, другое движение. В духовном опыте также, раскрывается тоска Бога по человеку, по тому, чтобы человек родился и отобразил Его образ. Об этой Божьей тоске поведали нам великие мистики, описывавшие духовную жизнь. В мистике, а не в богословии раскрывается эта мистерия. Основная мысль человека есть мысль о Боге. Основная мысль Бога есть мысль о человеке. Бог есть тема человеческая, человек же есть божественная тема. Бог тоскует по своем другом, по предмету своей бесконечной любви, ждет ответа на свой божественный зов. Бесконечная любовь не может существовать без любимого и любящего. Рождение человека в Боге есть ответ на Божью тоску. Это есть движение от человека к Богу. Вся сложность религиозной жизни, встреча и общение между Богом и человеком, связана с тем, что есть два движения, а не одно – от Бога к человеку и от человека к Богу. Если бы религиозная жизнь была основана только на одном движении от Бога к человеку, на одной воле Божьей и на одном откровении Божьем, то она была бы проста и легко были бы достижимы цели мировой жизни, легко было бы осуществимо Царство Божье. Тогда не было бы мировой трагедии. Но рождение человека в Боге, но ответ человека Богу не может быть делом одного Бога, – это есть также дело человека, дело его свободы. По природе Бога, как бесконечной любви, по замыслу Божьему о творении, Царство Божие неосуществимо без человека, без участия самого творения. Самовластие на небе есть такая же неправда, как и на земле. Царство Божье есть царство Богочеловечества, в нем окончательно Бог рождается в человеке и человек рождается в Боге, и осуществляется оно в Духе. С этим связан основной миф христианства, миф в высшей степени реалистический, выражающий самую первооснову бытия, самый первофеномен жизни, мистерию жизни. Это – миф о двуединой природе и двуедином движении, о Богочеловеке и Богочеловечестве.
Отвечает на Божью потребность в любящем и любимом, в вечности, изначально рождающийся, равнодостойный Отцу Сын. Он есть абсолютный божественный Человек, Богочеловек. Не на земле только, не в нашем только природно-историческом мире Он Богочеловек, но и на небе, в божественной действительности, в Божественной Троичности. Так возносится человеческая природа, не наша грешная, падшая, ветхая природа, а духовная, небесная, чистая человеческая природа до недр Божественной Троичности. В Сыне, в божественном Человеке, в Богочеловеке заключен весь род человеческий, все множество человеческое, всякий лик человеческий. В нем таинственно-мистически примиряется противоположность между единым и множеством. Человеческий род в одном лишь своем аспекте есть род ветхого Адама, есть грешный, падший род нашего природного мира. В другом своем аспекте человеческий род есть род небесный, род духовного Адама, род Христов. Через рождение Сына в вечности весь духовный род человеческий, все множество человеческое и весь заключенный в человеке мир, космос отвечает на призыв Божьей любви, на Божью тоску по своему другому, по человеку. Миротворение не могло произойти в нашем времени, ибо наше время есть падшее время, оно есть дитя греха. Миротворение происходит в вечности, как внутренний акт божественной мистерии жизни. И ветхозаветное восприятие миротворения есть лишь отображение внутреннего акта божественной мистерии в сознании ветхого природного человечества. Человек, ниспавший в низшую природу, выбрасывается из недр божественной действительности. Христианское откровение возвращает человека внутрь божественной действительности. Через Сына возвращаемся мы в лоно Отца. От Христа идет новый род человеческий. Христов род, духовный род, в Духе рожденный и возрожденный. Христос в человеке и человек во Христе. Он – лоза, а я – ветвь, питающаяся от лозы. Весь возрожденный род человеческий находится во Христе, в Богочеловеке. В духовном же человеке, в духовном роде человеческом, в Богочеловечестве пребывает космос, все творение. Космос отделился от падшего человека и стал внешней, порабощающей его природой. Космос возвращается к возрожденному, духовному человеку. В духовном мире космос пребывает внутри человека, а не вне его, как человек пребывает внутри Бога. Человек по природе своей есть микрокосм, в нем заключены все сферы космической действительности, все силы космоса. В грехе и падении человек утерял сознание своей микрокосмичности, сознание человека перестало быть космическим и стало индивидуалистическим. Внешнему, природному человеку космос открывается лишь как внешняя природа, непонятная в своей внутренней жизни. Внутренняя жизнь космоса открывается лишь внутреннему человеку, как духовная действительность. И путь самопознания человека есть путь познания космоса, мира. Через Христа, через Логос, не только весь род человеческий, но и весь мир, весь космос обращается к Богу, отвечает на Божий призыв, на Божью потребность в любви. В человеке раскрывается тайна Библии, тайна Бытия.[40 - Сен-Мартен говорит: «La meilleure traduction qui puisse jamais exister de la Bible, c’est l’homme».]
Божественная мистерия не завершается в Двоичности, она предполагает Троичность. Отношение Бога к Другому осуществляется в Третьем. Любящий и любимый находят полноту жизни в царстве любви, которое есть Третье Царство Божье, царство просветленного человека и просветленного космоса, осуществляется лишь через Третьего, через Духа Святого, в котором завершается драма, замыкается круг. Лишь в Троичности дана совершенная божественная жизнь, любящий и любимый создают свое царство, находят окончательное содержание и полноту своей жизни. Троица есть священное, божественное число, оно означает полноту, преодоление борьбы и разрыва, означает соборность и совершенное общество, в котором нет противоречия между личностями, ипостасями и единой сущностью. Тайна христианства есть тайна двуединства (богочеловечности), находящего свое разрешение в триединстве. Поэтому основа христианства в догмате христологическом о богочеловеческой природе Христа и догмате тринитарном о Св. Троице. Утверждение бытия есть жизнь Духа Святого и жизнь в Духе Святом. В Духе преображается и обожается человек и мир. Дух и есть сама Жизнь, Перво-Жизнь. Божественная мистерия Жизни и есть мистерия Троичности. Она совершается вверху, на небе, и она же отражается внизу, на земле. Повсюду, где есть жизнь, есть тайна Троичности, различение трех Ипостасей и абсолютное единство их. Мистерия Троичности отображается и символизируется повсюду в жизни человека и мира. Жизнь в существе своем есть и различение личностей и единство их. Полнота жизни есть соборность, в которой личность находит свое окончательное осуществление и полноту своего содержания. Встреча одного с другим всегда разрешается в третьем. Один и другой приходят к единству не в двоичности, а в троичности, обретают в третьем свое общее содержание, свою цель. Бытие было бы в состоянии нераскрытости и безразличия, если бы был один. Оно было бы безнадежно разорванным и разделенным, если бы было только два. Бытие раскрывает свое содержание и обнаруживает свое различие, оставаясь в единстве, потому что есть три. Такова природа бытия, первичный факт его жизни. Жизнь человека и жизнь мира есть внутренний момент мистерии Троичности.
§
Внутренняя жизнь Бога осуществляется через человека и мир. Внутренняя жизнь человека и мира осуществляется через Бога. Человек, стоящий в центре бытия и призванный к царственной роли в мировой жизни, не может иметь положительного содержания жизни, если нет Бога и нет мира, нет того, что выше его, и того, что ниже его. Человек не может оставаться одним, одиноким, самим с собой, не может лишь из себя черпать источник жизни. Когда человек один стоит перед бездной небытия, он поглощается этой бездной, он начинает ее ощущать в себе. Если есть только человек и его собственные одинокие состояния, то нет и человека, нет ничего. Замкнутый психологизм есть утверждение небытия, разрушение онтологического ядра человека. Человек не может на самом себе создать жизнь. Создание жизни всегда предполагает для человека существование другого. И вот если нет для человека Другого, высшего, божественного, то он определяет содержание самой жизни другим, низшим, природным. Отходя от Бога, от высшего мира, человек подчиняет себя низшему миру, становится рабом низших стихий. Подчинение человека природному миру и его стихиям есть извращение иерархического строя вселенной. Все смещается со своих мест, низшее заменяет место высшего, высшее низвергается вниз. Человек, царь вселенной, становится рабом природы, подчиняется природной необходимости. Человек выпадает из Бога. Мир выпадает из человека, становится внешней для него природой, принуждающей и насилующей, подчиняющей человека своим собственным законам. Человек теряет свою духовную независимость. Он начинает определяться извне, а не изнутри. Солнце перестает светить внутри человека, перестает быть светом для мира. Солнце перемещается во внешнюю для человека природу, и жизнь человека целиком зависит от этого внешнего света. Весь мир, отпавший от Бога, перестает светиться изнутри и нуждается во внешнем источнике света. Главным признаком грехопадения является эта утеря внутреннего света, эта зависимость от внешнего источника. Когда человек в Боге, то космос в человеке и солнце внутри, в своем центре. Когда человек отпадает от Бога, то космос отделяется от человека и становится для него внешней необходимостью. Космос перестает повиноваться человеку. Св. Симеон Новый Богослов говорит об этом: «Все твари, когда увидали, что Адам изгнан из рая, не хотели более повиноваться ему; ни луна, ни прочие звезды не хотели показываться ему; источники не хотели источать воду, и реки продолжать течение свое; воздух думал не дуть более, чтобы не давать дышать Адаму, согрешившему; звери и все животные земные, когда увидали, что он обнажился от первой славы, стали презирать его, и все тотчас готовы были напасть на него; небо устремилось было напасть на него, и земля не хотела носить его более. Но Бог, сотворивший всяческое и человека создавший – что сделал? Он сдержал все это творческой силой своею, и по благоутробию и благости своей не дал им тотчас устремиться против человека, и повелел, чтобы тварь оставалась в подчинении ему, и, сделавшись тленной, служила тленному человеку, для которого создана, с тем чтобы, когда человек опять обновится и сделается духовным, нетленным и бессмертным, и вся тварь, подчиненная Богом человеку в работу ему, освободилась от сей работы, обновилась вместе с ним и сделалась нетленной и как бы духовной». Так выражает великий мистик и святой связь человека с космосом, центральное место человека в космосе и утерю им этого места.
Отходя от Бога и от духовного мира, человек теряет самостоятельность своей духовной индивидуальности, он подчиняет себя стихии рода, становится природным человеком, связанным законами жизни животного мира, он превращается в орудие родовой стихии, обрекает себя на жизнь в родовом быте, в родовой семье, в родовом государстве. Человек рождается и продолжает род свой, род природного, грешного Адама, подчиняясь бесконечной смене рождения и смерти, плохой бесконечности множества рождающихся и обреченных на смерть поколений. В стихии рода загубленными оказываются надежды личности на вечную жизнь. Вместо вечной жизни, вместо полноты жизни для личности достигается бесконечное дробление все вновь возникающих и погибающих поколений. Связь рождения и смерти в стихии рода оказывается нерасторжимой. Рождение несет в себе семя смерти, растерзание индивидуальности, гибель ее надежд. Рождающий сам обречен на смерть и обрекает на смерть рождающихся. В стихии рода, на которой покоится жизнь грешного, природного человечества, нет победы над смертью, нет достижения нетленной жизни. Рождающий пол, подчиняющий человека природной закономерности и соединяющий его с животным миром, есть дитя греха и отпадение от Бога. Через рождение несет человек последствия греха, искупает грех, но не побеждает смертной, тленной природы, не достигает бессмертной, вечной жизни. Новый духовный род, род Христов не есть род, рождающий на земле по законам животного мира, род, вечно соблазненный влечением низшей природной стихии распавшегося мира. Отпадение человека от Бога и было утерей целостности и целомудрия, девственности человека, утерей андрогинного образа, который есть образ бытия Божественного. По гениальному учению Я. Бёме, человек утерял свою Деву, Софию, и Дева отлетела на небо. От человека-андрогина отделилась, отпала женственная природа и стала для него внешней природой, предметом мучительного влечения и источником рабства человека. В целостном, целомудренном, в Боге пребывающем человеке женственная природа была заключена внутри, как его Дева. Тут повторяется то же, что и с отношением человека к космосу. Грех есть прежде всего утеря целостности, целомудрия, разорванность, раздор. Целостность, мудрая целостность и есть целомудрие, девственность, т. е. соединенность внутри человека мужской и женской природы. Сладострастное влечение, чувственность, разврат явились в мире результатом утери целостности, внутреннего раздвоения и раздора. Все стало внешним одно для другого. Внешним стала и мужская и женская природа. Женская стихия есть внешняя, притягивающая и соблазняющая стихия, без которой не может жить мужская природа. Человек не может оставаться дробным, разорванным, не может быть половиной, непреодоленным полом. И мучится род человеческий в своей жажде воссоединения, восстановления целостного, андрогинного образа человека. Но в стихии разорванного рода никогда не достигается целостность и не восстанавливается андрогинный образ, никогда не утоляется тоска человека по вечности, по обретению своей Девы. В каждом человеке, мужчине и женщине, остается двуполость, в разных пропорциях соединенная, и этим определяется вся сложность половой жизни человека, ее четырехчленность.
Учение Я. Бёме о Софии и есть учение о Деве и об андрогинном, т. е. целостности девственном, образе человека. «Из-за похоти своей Адам утерял Деву и в похоти обрел женщину; но Дева все же ждет его, и, если только он захочет вступить в новое рождение, она с великой честью вновь примет его».[41 - См. «B?hme’s s?mtliche Werke». Herausg. von К. W. Schiebler. 1841, т. III. «Die drei Principien g?ttlichen Wesen».] «Премудрость Божия есть вечная Дева, а не жена, она – беспорочная чистота и целомудрие и предстает, как образ Божий и подобие Троицы»,[42 - См. т. IV. «Vom dreifachen Leben des Menschen».] «Дева – извечна, несотворенна, нерожденна; она есть Божья премудрость и подобие Божества».[43 - Там же.] «Образ Божий – мужедева, а не женщина и не мужчина».[44 - См. т. V. «Mysterium magnum».] «Христос на кресте освободил наш девственный образ от мужчины и женщины и в божественной любви обагрил его своей небесной кровью».[45 - Там же.] «Христос за тем был рожден Девою, чтобы снова освятить женскую тинктуру и претворить ее в мужскую, дабы мужчина и женщина стали мужедевами, как был Христос».[46 - Там же.]
София есть вечная девственность, а не вечная женственность. Культ Софии есть культ Девы, а не женственности, которая есть уже результат грехопадения и раздора. Поэтому культ Софии почти совпадает с культом Девы Марии, Божьей Матери. В Деве Марии женственная природа стала девственной и родила от Духа. Так рождается новый духовный род человеческий, род Христов, род бессмертный, побеждающий дурную бесконечность рождений и смертей. Через Деву Марию и через рождение Ею Сына Божьего и Сына Человеческого открывается путь для восстановления целостного человеческого образа, образа андрогинного. Это есть путь целомудрия, чистоты, девственности, путь мистической любви. В христианстве всегда было глубоко учение о девственности, культ девственности и всегда недостаточно глубоко учение о браке, освящение деторождения. Раскрытие положительного, мистического смысла любви между мужчиной и женщиной (эроса, а не агапэ) принадлежит к проблематике христианского сознания. Догматически не раскрыт мистический смысл любви, и то, что мы находим об этом у учителей Церкви, бедно и убого.[47 - В святоотеческой литературе можно указать лишь на «Пир десяти дев, или о Девстве» Св. Мефодия Патарского. Но у него глубоко лишь учение о девстве.] Святоотеческое христианство учит достигать девственности через аскезу, но совершенно не раскрывает мистического смысла любви, как пути достижения девственности, восстановления целостного образа человека, обретения бессмертной жизни. Христианство справедливо оправдывает и освящает брак и семью грешного человеческого рода, оно и обезопашивает и одухотворяет жизнь падшего пола. Но о преображении пола, о явлении нового пола не говорит ничего. Это остается сокровенным в христианстве, как и многое другое. Святость материнства имеет космическое значение, но вопроса не решает. Пропасть между любовью родовой, рождающей, и любовью мистической, обращенной к вечности, создает антиномию для церковного, христианского сознания. Церковь учит, что в Деве Марии падший, разорванный пол становится просветленной девственностью и просветленным материнством и принимает в себя Логос мира, рождающийся от Духа. Но отсюда как будто бы не было сделано никаких выводов о положительных путях просветления и преображения ветхой стихии рода, стихии пола. Не раскрывается положительный религиозный смысл любви, связь любви с самой идеей человека как целостного существа. Это есть результат неполной раскрытости антропологического сознания в христианстве. Любовь, как и многое другое в творческой жизни человека, остается неосмысленной и неосвященной, неканонической, как бы внезаконной, обреченной на трагическую судьбу в мире. Христианское учение о браке и семье, как и христианское учение о власти и государстве, имеет глубокий смысл для греховного природного мира, для родовой стихии, в которой пребывает человек, изживая последствие греха. Но этим даже не затрагивается проблема смысла любви, природа которой не связана ни с физиологическим влечением, ни с деторождением, ни с социальным благоустройством человеческого рода. Любовь по природе своей занимает то же место, что и мистика. Она – аристократична, духовна и также непереводима на пути демократического, душевно-телесного устроения человеческой жизни. Но любовь связана с самой первичной идеей человека. Религиозный смысл любви приоткрывается лишь в символике отношений между Христом и Церковью.[48 - «Смысл любви» Вл. Соловьева – самое замечательное, что было написано о любви. См. также гениальную и мало оцененную книгу Бахофена «Das Mutterrecht», исследующую мужское и женское начало в первобытной религии.]
Христианство есть религия Божественности Троичности и религия Богочеловечества. Оно предполагает веру не только в Бога, но в человека. Человечество есть часть Богочеловечества. Бесчеловечный Бог не есть Бог христианский. Христианство существенно антропологично и антропоцентрично, оно возносит человека на небывалую, головокружительную высоту. Второй Лик Божий явлен как лик человеческий. Этим ставится человек в центре бытия, в нем полагается смысл и цель миротворения. Человек призван к творческому делу в мире, к соучастию в Божьем деле, в деле миротворения и мироустроения. У христианских мистиков было дерзновенное видение центрального и высшего положения человека в мире.
На высочайших высотах христианского сознания открывается, что человек не только тварь, что он больше чем тварь, что через Христа, вторую Ипостась Св. Троицы, он внедрен в божественную жизнь. Только христианское сознание признает вечность человека. Человек наследует вечность в Божественной действительности, он не может быть преодолен, не может эволюционно перейти в другой род, в ангела или демона. Вечный лик человека находится в недрах самой Божественной Троичности. Вторая Ипостась Божества есть божественная человечность. Христианство преодолевает инобытие, чуждость, устанавливает абсолютную родственность между человеком и Богом. Трансцендентное делается имманентным. В Христе, как Богочеловеке, раскрывается свободная активность не только Бога, но и человека. Поэтому всякое монофизитство, принижающее или отрицающее человеческую природу, есть отрицание тайны Христовой, тайны двуединства, богочеловечности. Все слабости, уклоны и неудачи христианства в истории связаны были с тем, что христианское человечество с трудом вмещало тайну Богочеловечества, тайну двуединой природы и легко склонялось к практическому монофизитству. И в христианский период мировой жизни сознание человеческое остается пораженным монизмом, мышление легче всего к нему склоняется. Так, германский идеализм начала XIX века, одно из самых могущественных проявлений философского гения человечества, поражен ересью монофизитской, склоняется к монизму, отрицающему самобытность человеческой природы. Это ставит границы германскому идеализму. Фихте и Гегель признают лишь божественную природу и отрицают человеческую природу, которая для них есть лишь функция Божества. В сущности познает у них само Божество, а не человек. В «Я» Фихте, в «Духе» Гегеля человек в своей конкретности исчезает. Но последовательный идеалистический монизм должен отрицать и человека и Бога, признавать лишь безликое, абстрактное, божественное. Монизм отрицает брачную тайну религиозной жизни, т. е. противоречит первичному феномену религиозного опыта. Это монофизитство германского идеализма было заложено уже в протестантизме. Лютер склонялся к монофизитству, он отрицал свободу человеческого духа, отрицал активность человека в религиозной жизни, в конце концов, отрицал всякую самобытность человеческой природы.[49 - См. книгу Лютера «De servo arbitrio».] Уже у Бл. Августина были уклоны, которые давали основания для принижения человеческой природы. Устанавливая различие между Творцом и творением по признаку неизменяемости и изменяемости, он изменение считает дефектом и видит в изменении ухудшение. Божественное бытие неизменно и потому совершенно. Человеческое бытие изменяющееся, но изменяться оно может лишь к худшему, к лучшему оно не может изменяться. Грехопадение и было изменением к худшему. К лучшему же человеческая природа может измениться лишь под действием благодати. Таким образом, Бл. Августин отрицает творческую природу человека, он не видит в человеке творческой свободы. Это учение Бл. Августина, выработанное под влиянием борьбы с пелагианством, дает повод к принижению человека.
Совсем по-другому принижает человека католическая антропология, выраженная в томизме. Человек сотворен естественным природным существом, и потом актом благодати ему сообщены сверхъестественные духовные дары. Эти дары отнимаются у человека после грехопадения, и человек становится природным, недуховным существом, для которого все духовное оказывается внешним. Таким образом, выходит, что человек не сотворен духовным существом, имеющим образ и подобие Божье. Но человек есть духовное существо.
§
Можно установить три типа понимания отношений между Богом и человеком. 1) Трансцендентный дуализм подчиняет внешне волю человеческую воле Божьей. Две природы остаются чуждыми, разорванными, внеположными. 2) Имманентный монизм метафизически отождествляет волю человеческую и волю Божью, отрицает всякую самобытность за человеческой природой и видит в человеке лишь одно из проявлений жизни Божества. Человек есть лишь преходящий момент в раскрытии и развитии Божества. 3) Творческий христианский, богочеловеческий антропологизм признает самостоятельность двух природ, Божьей и человеческой, видит взаимодействие Божьей благодати и человеческой свободы. Человек, как Божье другое, дает свободный ответ на Божий зов, раскрывая свою творческую природу. И внутри христианства можно открыть эти три типа, в большей или меньшей степени выраженные. Третий тип понимания отношений между Богом и человеком наиболее труден для рационального сознания, наиболее антиномичен. И это очень затрудняет и обременяет христианское учение об искуплении, христианское понимание дела мирового спасения и избавления. Тут можно было бы установить два типа понимания, которые в чистом виде трудно встретить. Бог через организованное действие благодати помогает человеку, утерявшему свободу в грехопадении, спастись, победить грех. Это понимание в крайних своих формах приводит даже к оправданию насилия и принуждения в деле спасения. Но есть другое понимание смысла мировой жизни. Бог ждет от человека свободного ответа на свой зов, ждет ответной любви и творческого соучастия в одолении тьмы небытия. Человек должен проявить величайшую активность своего духа, величайшее напряжение своей свободы, чтобы исполнить то, чего Бог от него ждет. Это понимание дает религиозное оправдание человеческому творчеству. В христианстве соединены оба понимания, и они не могут быть разделены. Через Христа-Богочеловека, Искупителя, Спасителя мира, оба движения от Бога и от человека, от благодати и от свободы соединяются. Бог энергией благодати помогает человеку победить грех, восстанавливает подорванную силу человеческой свободы, и человек из глубины свободы дает ответ Богу, раскрывает себя для Бога и тем продолжает дело миротворения. Человек не раб и не ничтожество, человек – соучастник в Божьем деле творческой победы над ничто. Человек нужен Богу, и Бог страдает, когда человек этого не сознает. Бог помогает человеку, но и человек должен помогать Богу. Это и есть эзотерическая сторона в христианстве.
Боятся противоположного: когда учат об обожении человека и соединении с Богом, боятся пантеизма и исчезновения самостоятельности человека; когда учат о свободе и самостоятельности человека, отличного от Бога, боятся дуализма и гордыни человека.
В духовном опыте, в глубине его раскрывается не только потребность человека в Боге, но и потребность Бога в человеке. О, конечно, «потребность» плохое слово, как плохи все человеческие слова, когда мы говорим о Боге. Мы говорим символическим языком, переводим несказанную тайну на язык нашего опыта. Можем ли дерзать раскрывать психологию Бога, внутреннюю Его жизнь или навеки должны ограничиваться пониманием внешнего отношения Бога к миру и человеку? Священное писание, в отличие от богословской доктрины, полно психологии Бога, говорит об аффективной, эмоциональной жизни Бога. Для Библии отношение между Богом и человеком есть страстная драма, драма между любящим и любимым, в которой не только человек, но и Бог переживает страсти, испытывает гнев, печаль, радость. Бог Авраама, Исаака и Иакова, в отличие от Абсолютного философов и Бога богословов, есть антропоморфный Бог, Бог движущийся, а не бездвижный. Песнь песней, вдохновлявшая мистиков, есть изображение страстей мистической любви, эмоциональной божественной жизни. Христианским мистикам раскрывалась внутренняя жизнь Бога, и они находили слова для описания внутренних переживаний Бога. У великих католических мистиков, например у Св. Иоанна Креста, можно найти более интимное понимание отношений между Богом и человеком. Бог Св. Иоанна Креста не есть бездвижное и бесстрастное Абсолютное. И в эллинской философии Гераклит в своем учении об огненном движении был ближе к Богу христианскому, чем Парменид, Платон, Аристотель или Плотин, которые подавили все системы христианской теологии. Л. Блуа говорит, что Бог – одинокий и непонятый страдалец, он признает трагедию в Боге. Любовь к Богу подсказала ему эти дерзновенные слова. Бог страдает и истекает кровью, когда не встречает ответной любви человека, когда свобода человека не помогает Богу в Его творческом деле, когда не Богу отдает человек свои творческие силы. Как повышается ответственность человека от этого сознания! Человек должен думать не только о себе, о своем спасении, о своем благе, он должен думать и о Боге, о внутренней жизни Бога, должен приносить Богу бескорыстный дар любви, должен утолить Божью тоску. Это есть долг благородства. Мистики возвышались до этого бескорыстного отношения к Богу, соглашались перестать думать о своем спасении, готовы были даже отказаться от спасения и принять адские муки, если этого требует любовь к Богу. Удивительная вещь: богословие так боится признать движение в Боге, тоску в Боге, трагедию в Боге и учит о неизменяемости и бездвижности Бога, но это же богословие строит судебную теорию искупления, по которой жертва Христа есть умилостивление гнева Божьего, удовлетворение обиды Божьей. Как будто бы гнев Божий и обида Божья не есть аффективная жизнь в Боге, не есть движение сердца Божьего! Почему допущение обиды Божьей менее унижает Бога, чем допущение тоски Божьей? Это – разительное противоречие в богословских доктринах. И объясняется оно не желанием возвысить Бога, а желанием унизить человека и держать его в трепете. Бог ждет от человека безмерно большего, чем учат обычные доктрины об искуплении и исполнении воли Божьей. Не ждет ли Бог, что человек в свободе раскрывает свою творческую природу? Не сокрыл ли Бог от себя то, что раскроет человек в ответе на Божий зов? Бог никогда не насилует человека, не ставит границ человеческой свободе. Замысел Божий о человеке и мире в том, чтобы человек свободно, в любви отдал Богу свои силы, совершил во имя Божье творческое деяние. Бог ждет от человека соучастия в деле миротворения, в продолжении миротворения, в победе бытия над небытием, ждет подвига творчества. И те, которые возражают против этого тем, что задачи человека исчерпываются смирением перед волей Божьей и исполнением воли Божьей, попадают в круг безвыходного формализма. Да, конечно, человек должен смирить свою волю перед волей Божьей, должен преодолеть эгоцентризм во имя геоцентризма, должен до конца исполнить волю Божью. А что, если воля Божья в том, чтобы человек, одаренный творческой свободой, на которой запечатлен образ и подобие Божье, соучаствовал в миротворении в восьмой его день, что, если Бог ждет от человека подвига свободного творчества и требует от человека раскрытия всех заложенных в нем сил? Такова воля Божья, и человек должен ее исполнить. В Евангелии говорится о талантах, которые нельзя зарывать в землю и которые должно вернуть приумноженными. Апостол Павел учит о разнообразных дарах человека. Не во имя свое, а во имя Божье, во имя воли Божьей человек должен быть свободен духом и должен быть творцом. Но тайна творчества человека, тайна творческой его природы остается сокровенной, она не раскрыта прямо в священных письменах. Если бы тайна творчества человека была раскрыта и запечатлена в Священном писании, то не было бы свободы творчества, не было бы подвига творчества, невозможно стало бы то, чего ждет Бог от человека. Творческое признание человека в мире требует акта его свободного самосознания, и оно должно нести с собой абсолютную прибыль в бытии.
Творчество человека, продолжение миротворения не есть своеволие и бунт, а есть покорность Богу, принесение Богу всех сил своего духа. Творческая любовь человека к Богу не только ждет от Бога спасения и молит Его о нужде человека, но и отдает Богу бескорыстно весь избыток своих сил, всю бездонную свою свободу. И если человек не принесет Богу этого творческого дара, не будет активно участвовать в деле создания Царства Божьего, если окажется рабом, если зароет таланты в землю, то миротворение не удастся, то не осуществится замысленная Богом полнота богочеловеческой жизни, то Бог будет тосковать и страдать, будет неудовлетворен в отношении своем к своему другому. Человек должен не только о себе думать, о своем спасении, но и о Боге, о Божьем замысле, т. е. должен быть более бескорыстным в религиозной жизни, менее вампирическим, более свободным от проецированного на небо эвдемонизма. Когда человек думает только о себе, только о человеке, о человеческих нуждах, о человеческом благе, о человеческом спасении, то он принижает человека, Божью идею о человеке, отрицает творческую природу человека. Когда человек думает о Боге, о Божьей нужде, о Божьей тоске по любви, о Божьих ожиданиях от человека, то он возвышает человека, осуществляет идею человека, утверждает творческую природу человека. Такова парадоксия отношений между Богом и человеком. Человек есть Божья идея. Именно личность есть Божья идея, образ и подобие Божье в человеке, в отличие от индивидуальности, которая есть понятие натуралистически-биологическое. И чтобы понять человека, понять самого себя, человек должен обратиться к Богу, должен отгадать Божью идею о себе и все силы свои направить на осуществление этой идеи. Бог хочет, чтобы человек был, Бог не хочет быть одиноким. Смысл бытия – в преодолении одиночества, в обретении родственности, близости. В этом существо религиозного опыта, религиозной жизни. Человек поистине призван не только искать Божьей помощи, спасаться от гибели, но и помогать Богу в осуществлении замысла Божьего о мире. Но природный человек не в силах осуществить своего творческого призвания, сила его подорвана грехом, свобода его ослаблена. Творческая сила, творческая свобода человека восстанавливается через искупление в роде Нового Адама, в духовном человеке. Эта творческая сила, способная ответить на Божье требование, окончательно и полностью обретается через новое духовное рождение, лишь во Христе. Естественное человеческое творчество никогда не стоит на высоте Божьей идеи о человеке, Божьего ожидания от человека, оно пребывает в дольнем мире. Вполне раскрыть свое творчество и обратить к Богу может лишь человек, восстановивший свою целостность, свою девственность, свой андрогинный образ. Тогда только преодолевается разрыв между человеком и космосом, между мужской и женской стихией. В природном, падшем человеке творчество искажено и замутнено. Не во всяком творчестве человек осуществляет волю Божью, раскрывает Божью идею о человеке. Бывает творчество, которое все более и более искажает образ человека. Истинное творчество предполагает аскезу, очищение и жертву. Падший и самодовольный человек нередко творит не во имя Божие, а во имя свое, т. е. создает призрачное, лживое бытие, творит небытие. И никогда творчество во имя самого себя не может удержаться в срединной человеческой сфере, оно неизбежно раньше или позже превращается в творчество во имя иного, лживого бога, во имя дьявола. Поэтому оправдание религиозного смысла творчества не есть оправдание всякого творчества, – есть и злое, небытийственное творчество. Это приводит нас к вопросу об оправдании религиозного смысла творчества в культуре, в деяниях человеческих в истории. То, что совершается на вершинах или в глубинах духовного мира, совершается и внизу, в нацией исторической действительности.
§
Святоотеческая антропология не раскрыла до конца христианскую истину о человеке, не сделала из христологического догмата всех выводов в отношении к человеческой природе. Судебное понимание христианства прикрыло его онтологически-антропологическое понимание. Между тем как истинная антропология заключена уже в истинной христологии. Христологическое и антропологическое сознание во всем подобно друг другу. От того, как вы мыслите о Христе, будет зависеть и то, как вы мыслите о человеке. Человеческая личность в подлинном смысле этого слова существует только во Христе и через Христа, только потому, что существует Христос-Богочеловек. Онтологическая глубина человека связана с тем, что Христос не только Бог, но и человек. Этим внедрена человеческая природа в жизнь Божественной Троичности. Положительное учение о человеке только и может быть выведено из догмата о Богочеловечестве Христа и об единосущии Сына Отцу. До конца раскрытая христологическая антропология будет христологией человека. Род Христов, род духовного человечества должен иметь и антропологическое сознание, вкорененное в сознании христологическом. Но святоотеческий период христианства, весь устремленный вверх, к Богу и отталкивающийся от греховной природы человека, весь поглощенный героической борьбой с этой греховной природой, по духовной структуре своей мог раскрыть учение о Св. Троице и о Христе, но не мог раскрыть соответствующего учения о человеке. Отцы Церкви разрабатывают по преимуществу отрицательную антропологию, учение о греховной природе ветхого Адама, о путях борьбы со страстями. И в истории мистического гнозиса эзотерическое учение о человеке можно найти лишь в линии Каббалы, Я. Бёме, Фр. Баадера, только в мистике, получившей семитическую прививку, а не в мистике Плотина, Экхарта, квиетистов. Положительное святоотеческое учение о человеке возносится уже на последнюю вершину – к стяжанию благодати Духа Святого, просветлению твари и обожению человека. Но творческая природа человека, лежащая между этими двумя полюсами, пока остается религиозно неосвященной, она отнесена в сферу секулярную. Природа человеческая утверждает себя и выражает себя вне религиозного освящения и осмысливания, она идет своими путями, она раскрывается в реакции против средневекового подавления человеческой свободы.
В средние века природа человеческая духовно была выше и сильнее, чем в новое время. Тогда-то и накопилась творческая сила человека. Но свобода человека не была еще вполне испытана и не дала еще своего согласия на осуществление Царства Божьего. Творческие силы человека не нашли еще себе полного выражения. Гуманизм, как явление внутри христианского мира, явился потому, что в христианстве не была еще раскрыта вся правда о человеке, что осталась прикровенность и сокровенность человеческой природы, неосвященность и невыраженность ее. Явление гуманизма в христианском мире есть парадоксия, и, понятно, оно должно быть парадоксально. Гуманизм нового времени глубоко отличается от гуманизма античного, и явиться он мог только в христианский период истории. Он связан с какой-то мучительной и неразрешенной христианской темой. Христианское человечество не могло отказаться от того раскрытия человеческого образа, которое совершилось в Греции, в греческой культуре, трагедии, философии. Гуманизм есть ложное антропологическое сознание, он зародился в отпадении от Бога, и в нем заключены яды, которые несут с собой опасность истребления человека. И вместе с тем гуманизм есть путь свободы человека, путь испытания творческих сил человека, путь самораскрытия человеческой природы. Человек не мог удовлетвориться святоотеческим и схоластическим антропологическим сознанием и начал сам открывать и освящать в себе творческую природу, которая не была открыта и освящена свыше. Общество человеческое не могло продолжать жить в принудительной теократии. Природа человеческая осталась языческой, не просветленной и не преображенной. И теократия, Царство Божье не достигалось реально, а лишь ознаменовывалось в условных знаках и печатях. Раньше или позже неизбежно должно было наступить обнаружение подлинных реальностей, подлинного состояния человечества. Секуляризация гуманистического периода истории не сама есть источник зла, не она создает отпадение от Бога всех сторон человеческой культуры и общества, – она лишь обнаруживает истинное положение вещей, называет все своими именами. В средневековой теократии, очень высокой по своему духовному типу, не была раскрыта правда о человеке. И потому теократия должна была рухнуть. Новое человечество пошло путем, на котором оно должно было испытать до конца злые плоды человеческого самоутверждения и человеческого уединения. Должен был человек раскрыть до конца все возможности своей земной жизни, чтобы на опыте все узнать и обличить. В гуманизме скрыта роковая диалектика, влекущая его к его конечной судьбе. Человек в своем уединении и оторванности, в гордыне самоутверждения не может найти бесконечных источников жизни, не может найти сил для охранения и утверждения своего образа. Гуманизм понимает человека исключительно как природное существо, как сына природного мира. Гуманистическая антропология есть антропология натуралистическая. Гуманистическое самосознание не видит уже в человеке существа, принадлежащего к двум мирам, к двум порядкам бытия, точку пересечения горнего духовного мира и дольнего природного мира. Для гуманистического сознания человек перестает быть загадкой и тайной, опытным опровержением самодостаточности этого мира. Гуманизм отрицает первородный грех и потому не понимает самого возникновения природного мира. Гуманистическое сознание окончательно водворяет человека на территории этого мира, поселяет его на плоскости земли. Если святоотеческая антропология имела (не принципиальный, но фактический) уклон к монофизитству в одну сторону, то антропология гуманистическая есть монофизитство в сторону полярно противоположную. Богочеловеческая полнота и целостность христианской истины не была вмещена человечеством. Христианская истина разрывалась, исполнялась то заповедь любви к Богу без заповеди любви к человеку – и тогда искажалась сама любовь к Богу, то заповедь любви к человеку без заповеди любви к Богу – и тогда искажалась сама любовь к человеку. Монофизитски, монистически нельзя понять природу человека. Природа человека двойная, двуединая, земная и небесная природа, она несет в себе образ зверя и образ Божий. И когда человек отвергает в себе и стирает образ Божий, то он не может долго сохранить в себе образ человеческий, он дает в себе преобладание образу звериному. Человек, потерявший опору в Боге, подчиняется зыбким стихиям мира сего, которые раньше или позже должны его захлестнуть и поглотить. Сама идея человека может быть конституирована лишь через идею Бога.[50 - Об этом можно найти интересные мысли у Макса Шелера. См. его «Vom Umsturz der Werte». I Band «Zur Idee des Menschen» и «Vom Ewigen im Menschen».] Человек и есть идея Бога, и он онтологически существует лишь в этом своем качестве. Человек не может быть лишь человеческой идеей или идеей природного мира. В таком качестве он лишается онтологической опоры и погибает. Вот почему духовная гордыня человека есть первоисточник зла и греха и ведет к истреблению самого образа человека. Природный человек не может удержать своего качественного своеобразия, своей единственности в иерархии бытия, когда он окончательно отрицает духовного человека, когда теряет опору в ином мире. Гуманизм переживает период цветения серединного гуманистического царства. Это есть наиболее творческий период гуманизма, в котором обнаруживаются творческие силы человека, накопившиеся еще в религиозном средневековье. Французский гуманизм XVII века был христианский гуманизм, к гуманистам причисляют Св. Франциска Сальского.[51 - Бремон говорит об «Humanisme devot». См. его «Histoire Littеraire du sentiments religieux en France», т. I.] В Ренессансе человек не окончательно еще порывает с высшим миром, он несет еще в себе образ Божий. В период переходного самосознания, в период расцвета гуманизма раскрываются положительные стороны гуманизма – подъем человеческого творчества, преодоления жестокости, унаследованной от варварства, усиление «гуманности», которая стала возможной лишь в христианском мире. В гуманизме есть неосознанная положительная правда, правда человечности, но смешанная с ложью и неправдой. Гуманизм выше бестиализма. Это всегда нужно помнить. И неправда гуманизма не может быть побеждена через реакцию бестиализма. Преодоление гуманизма есть переход к высшему состоянию, к полноте христианской правды, правды богочеловеческой, а не возврат к тому состоянию, в котором христианство было затемнено преломлением в варварской стихии. Гуманизм двойствен по своей природе и по своим результатам. В гуманизме раскрывались положительные человеческие силы, силы свободной человечности, которые входят в христианство и являются неосознанной частью самого христианства, и отрицательные начала, которые окончательно разрывают с божественным миром и уготовляют истребление человека. Свободная наука развилась в недрах гуманизма. Но гуманизм в XIX и XX веках на вершинах своего отрицательного развития переходит в свою противоположность, приходит к отрицанию человека, к истреблению всего, что почиталось гуманностью.[52 - Эта мысль подробно развивалась в моей книге «Смысл истории».] Такой переход гуманизма в свою противоположность мы видим в крайней, предельной форме в коммунизме, его можно открыть во всех характерных течениях нашей эпохи – современной науке, философии, морали, складе быта, технике. Образ человека расшатан в конце гуманистической эпохи в технической цивилизации. Человеку грозит гибель. И спасти человека, охранить его образ может только христианство, через богочеловеческую истину, только христианское возрождение.
Новое время не создавало уже никаких христианских ересей. И можно даже подумать, что религиозный индифферентизм этого периода истории делает невозможным возникновение религиозных ересей. Но это взгляд поверхностный. Со времени явления Христа вся мировая жизнь стоит уже под знаком христианства и нет уже ничего безразличного в отношении к христианству. Новое время создало великую ересь гуманизма. Ересь эта могла возникнуть лишь на христианской почве, и она отвечает на религиозный вопрос о человеке. Это – антропологическая ересь. Гуманизм вошел в мир с религиозными претензиями. Ереси всегда ведь ставили какой-то важный и жизненный вопрос, на который церковное сознание не дало еще ясного и вполне раскрытого ответа. Ереси имели огромное значение для положительного раскрытия догматов, они возбуждали догматическое творчество Церкви. И всегда в ересях была какая-то частица истины, но до крайности преувеличенная и смешанная с ложью. Ересь есть нарушение равновесия, неспособность вместить полноту, принятие части за целое, рационализация темы, поставленной в духовном опыте. Церковное сознание отвечает на ереси, дает формулы, вмещающие сверхрациональную полноту, указующие на правильный, здоровый духовный опыт и путь. На ересь гуманизма церковное сознание не дало еще своего положительного ответа, не раскрыло еще всех заключенных в христианстве возможностей для разрешения религиозной проблемы человека. И нет никаких оснований отрицать, что церковное сознание раньше или позже ответит на ересь гуманизма догматическим раскрытием истинной христианской антропологии. Вся острота вопроса лежит в том, действительно ли ставит гуманизм серьезную и глубокую религиозную тему. Слишком немногие люди церковного сознания понимают всю серьезность и глубину этой темы. Мир остается разорванным; с одной стороны, церковный мир и церковное сознание, с другой стороны, гуманистический мир и гуманистическое сознание. Эти два мира не встретились еще лицом к лицу в постановке и решении религиозной проблемы человека. Лишь у отдельных гениев такой предельной остроты достигает постановка проблемы человека, что сталкиваются непосредственно христианство и гуманизм. Таков Достоевский, таков Ницше. Они очень разные, но одинаково служат религиозному антропологическому сознанию, одинаково преодолевают нейтральную сферу, далекую от неба и от ада, от Бога и от дьявола. Преодоление столкновения идеи Богочеловека и человеко-бога должно во всей ясности и полноте поставить религиозный вопрос о человеке. Но ответ церковного сознания на ересь гуманизма будет существенно отличаться по своему характеру от тех ответов, которые давала Церковь на прежние ереси. В церковном ответе на ересь гуманизма должна раскрыться истина о творческой природе человека. Но в таком раскрытии христианской истины о творческом призвании человека неизбежно будет принадлежать исключительная творческая активность самому человеку. И потому естественно предположить, что человек уже подготовляет своей творческой активностью ответ на религиозную проблему о человеке, но что Церковь внешне еще не признала этой работы своей органической частью своего богочеловеческого дела. Церковь есть Богочеловечество, и потому в деле движения Церкви к полноте должна играть роль и творческая активность самого человека. Без «человеческого» не может быть исполнения Церкви, без «человеческого» не может обойтись Бог. Но человек может Богу отдать свою свободную творческую активность, а может отдать ее дьяволу, духу небытия. Свободная творческая активность человека в гуманистический период носит двойственный характер, она направлена к двум противоположным царствам. Таков трагический процесс истории. В гуманизме есть истина самого христианства, самой Церкви. Но в гуманизме же зарождается религия, противоположная христианству, религия антихриста, религия, в пределе своем убивающая и человека и Бога. В необходимости различить эти две стихии, эти два противоположных начала вся мука человека. И в разрешение этой мучительной проблемы многое предоставлено самому человеку, его свободе, его выбору. Дары религиозного познания, дары гнозиса принадлежат не церковной иерархии, не ангельскому чину, а чину человеческому, творческому гению человека. И дары эти совсем не пропорциональны степени святости. Этому учит нас духовная история человечества.
§
Самосознание человека и раскрытие его духовных сил определяются не только его отношением к Богу, но и его отношением к природе. Человек в исторической судьбе своей стоял в разных отношениях к природе. Можно установить три периода, в которые по-разному определялось отношение человека к природе: 1) Первичная погруженность человека в природу, первобытно-космическое сознание общей жизни с жизнью природы; 2) Выделение из природы, противоположение человека природе и духовная борьба с ней; 3) Обращение к природе для овладения ею, материальная борьба с природой. Этим трем периодам соответствуют разные понимания природы. В первый период природа одушевлена, населена добрыми и злыми духами, жив Великий Пан. Первобытная магия есть наука и техника, соответствующая этой стадии отношений человека к природе. Человек уже борется с природными силами за жизнь, но борется в закономерном общении с духами природы. Это – анимизм. Человек не ставит еще себя выше природы. В тотемизме, как первоначальной форме религиозной жизни человечества, человек поклоняется животному, как покровителю социальной группы, клана. В скульптурных изображениях человеческий образ не отделен еще от образа звериного, смешан с ним. Этому периоду и соответствуют язычество, политеизм, дробление для человеческого сознания Божьего образа в природной множественности. Открываются боги природы, и жизнь человека от них зависит. Но уже в языческом мире обнаруживалось стремление человека духовно возвыситься над природой и освободиться от демонов природы. Начинается второй период, окончательно выявляющийся в христианстве. Человек в процессе своего освобождения и возвышения отделяется от души природы, пытается стать на ноги, приобрести духовную независимость, найти точку опоры, основу своей жизни не во внешнем природном мире, а во внутреннем духовном мире! Лишь чрез искупление может приобрести человек духовную независимость, может возвыситься над властью природных стихий. Искупление, которое принес с собой Христос, означает совсем иное отношение к природе. Умирают боги природы. Великий Пан уходит в глубину природы и остается надолго в пленении, в заточении. Нужно было оттолкнуться от природы, победить в себе язычество. Нужно было освободиться от демонолатрии, от власти демонов природы, которые терзали древний мир и внушали ужас. Язычество совсем не было исключительно радостной жизнью в божественной природе, язычество было и ужасом и смертельным испугом перед демонами и таинственными силами природы. Маги пытались подчинить эти демонические силы своей власти, и древние культы пытались умилостивить богов. Но в мире языческом не могло быть достигнуто истинное духовное освобождение. Чтобы укрепить духовного человека и дать ему иную основу жизни, христианская Церковь противоположила человека демонизму природы и воспретила человеку общение с духами природы. Нужно было оградить человека от власти космической бесконечности. Вторичным результатом такого отношения к природе была механизация природы. Зависимость от природы, языческое отношение к природе делали невозможным научное познание природы и техническое овладение природой. Это стало возможным лишь в христианском мире. Как это ни парадоксально звучит, но именно христианство сделало возможным развитие естествознания и техники. Наука и техника есть плод освобождения человеческого духа от власти природы, от демонолатрии. Демонов природы нельзя было ни научно познавать, ни технически ими владеть. Их можно было только магически связывать или умилостивлять их кровавыми жертвами. Анимизм делал невозможными науку и технику в иной форме, кроме магии. В период средневековья созерцался еще космический порядок, но средневековое сознание было проникнуто религиозно-моральным дуализмом. Средневековый человек вел духовную борьбу с природой в себе и вокруг себя. Человек проходил через суровую аскезу. В аскезе он укрепляет и сосредоточивает свои внутренние духовные силы. Выковывается человеческая личность. Но и в первый и во второй периоды космос существует для человека. Третий период начинается с Ренессанса. Человек вновь обращается к природе. В нем пробуждается жажда познания тайн природы. Человек в гуманизме вновь сознает себя природным существом, но природным существом, желающим быть господином природы. На этом пути подготовляется грядущая техническая власть человека над природой, которая явится плодом ренессансного развития естествознания. Природа делается внешней и более чуждой человеку, он совершенно перестает ощущать душу природы, и природа перестает быть космосом, становится предметом, конструируемым и познаваемым математическим естествознанием. На этом пути природа становится мертвым механизмом. И человека нашего времени страшит уже не демонизм природы, не духи природы, а мертвящий механизм природы. Механическое миросозерцание, которое только и стало возможным благодаря духовной победе христианства над природой, делается силой, враждебной христианству. И внутри христианства живет упование на иной, четвертый период в отношении человека к природе, когда человек вновь обратится к внутренней жизни природы, вновь увидит божественный космос, но соединит это с духовной властью над природой и ее стихиями, т. е. утвердит свое царственное положение в мире. В новой истории культура, всегда имеющая религиозную основу, всегда символическая по своей природе, всегда предполагающая бескорыстное созерцание и бескорыстное творчество, начинает переходить в цивилизацию, всегда секуляризированную, всегда наивно-реалистическую, всегда корыстную и одержимую волей к жизненному могуществу и жизненному благополучию. Цивилизация и есть предел механизации человеческой жизни и механизации природы. В ней умирает все органическое. Механика, созданная могуществом человеческого знания, покоряет себе не только природу, но и самого человека. Человек уже не раб природы, он освобождается от власти органической родовой жизни. Но он становится рабом машинной цивилизации, рабом им созданной социальной среды. В цивилизации, как последнем результате гуманизма, начинает погибать образ человека. Культура бессильна бороться с возрастающей властью цивилизации, ибо обнаруживается воля к самой жизни, к изменению и преображению жизни. Культура же не преображает жизнь, она лишь создает великие ценности, творческие ценности жизни, философии, искусства, государственных и правовых учреждений и т. п. Происходит раздвоение в обнаружении воли к самой реальной жизни, к ее преображению: с одной стороны, воля к социальному и к техническому преображению жизни в безбожной цивилизации, с другой стороны, воля к религиозному преображению жизни, к духовному просветлению мира и человека. Эти две воли борются в мире. Такова схема отношений человека и природы.
Человек есть Божье творение, и метафизически он предшествует природному миру и его исторической судьбе. Человека нельзя вывести из природного развития мира. Но в природном мире человек имеет свой путь развития. Ниспавший в дольний природный мир человек лишь в постепенном процессе развития поднимается и обретает свой образ. В этом истина эволюционизма. Падший человек смешался с низшей природой и утерял свой образ. Он начинает свою природную жизнь с самых низших стадий животной жизни. Личность человеческая пробуждается от того бессознательного и обморочного состояния, в которое его ввергло отпадение от Бога, лишь мучительным и длинным процессом борьбы и роста. В древней Элладе, где на мгновение было достигнуто человеком как бы отображение утерянного Эдема, впервые в мире, языческом, поднялся человек, и начал обрисовываться его образ в прекрасных пластических формах. Долгое время границы человеческой природы оставались неясно обозначенными. Образ человека был еще неустойчив, он не отделился еще от образа богов и от образов природы животной. Нет еще ясной дифференциации между героем, богом и человеком. Герой не просто человек, он полубог. Через образование богов и героев совершался в Древней Греции процесс антропогонический. Чтобы возвыситься над низшим животным состоянием, чтобы выйти из первоначальной смешанности образа человека и образа зверя, человек должен был принять в себя образ бога или полубога – начало, которое сознавалось как сверхчеловеческое.[53 - См. Е. Rohde «Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen». Род показывает, как раскрывалась душа и ее бессмертие.] Если в поздний час европейской гуманистической истории Ницше стремился перейти от человека к сверхчеловеку, т. е. опять хотел смешать образ человека с образом бога, героя, то на заре гуманизма греческого человек рождался из сверхчеловека. В греческой скульптуре дано было откровение человеческого образа в красоте, человек вышел из того состояния недифференцированности и смешанности человека с животным, которое было свойственно Востоку. Человеческая культура Запада началась в Греции. И в основе этой культуры лежит арийский миф, столь отличный от библейского семитического мифа, – миф о Прометее. Миф о грехопадении первочеловека глубже, первозданное, предмирнее мифа о Прометее. Грехопадение Адама определяет самое существование природного мира и его судьбу. Миф о Прометее открывает нам духовный феномен, совершившийся уже в падшем, природном мире, как важный, определяющий момент в исторической судьбе человечества на грешной земле. Миф о Прометее не метафизический, а культурный миф, миф о возникновении человеческой культуры. В нем сверхчеловек, герой борется с богами и демонами, с духами природы, со стихиями природы во имя человека и человеческой культуры. Человек и человеческая культура начинают существовать в этом природном мире лишь через похищение огня с неба, огня, принадлежащего богам, через присвоение человеку высшего начала, которое берется силой. Прометей освобождает человека не от Бога, который остается для него сокрытым, а от богов природы, от власти стихий, он отец человеческой культуры. Его титаническая борьба с богами не есть борьба с Богом. Поэтому миф о Прометее совсем не может быть противополагаем мифу библейскому, на котором основано христианство, – эти мифы относятся к совершенно разным планам. Прометеевское начало в человеке есть вечное начало, и без него не было бы человека. Отпавший от Бога человек должен был подниматься через раскрытие и утверждение прометеевского начала. Без прометеевского начала человек остался бы нераскрытым, он остался бы в первоначальной недифференцированности и смешении. Человек должен был выйти из покорности богам природы. Это был путь, которым шел древний человек к христианству, к явлению Нового Адама. Образ человека только и мог открыться через героическое, титаническое начало, восставшее против богов. Это есть космическая борьба, через которую в муках рождается человек. Миф о Прометее есть великий антропологический и антропогонический миф. Без Прометея не было бы в мире культуры, не было бы творчества человека. И миф о Прометее должен получить свое христианское освящение.[54 - Некоторые западные учителя Церкви видели в мифе о Прометее языческое искажение идеи творения мира истинным Богом.] Миф о грехопадении Адама говорит об отношении человека к Богу. Миф о Прометее говорит об отношении человека к природе. Отпавший от Бога человек и должен был быть поставлен перед природой и ее властителями в то положение, в какое был поставлен Прометей. Так раскрывается в греческом мифотворчестве судьба человека. В античной трагедии, великом явлении мирового духа, стоит также человек перед судьбой, перед роком. Античная трагедия есть откровение о подвластности падшего, греховного человека неотвратимой судьбе и о борьбе человека с этой судьбой. Через дионисическую трагедию, через трагическое страдание героя человек пытается выйти из подвластности роковым природным стихиям. Героя ждет трагическая гибель, ее избежать нельзя. Но в самой трагической гибели есть катарсис, очищение, искупление. Через трагедию шел античный человек к христианству, в котором находит трагедия разрешение. Греческая трагедия поведала миру о великом трагизме человеческой жизни, человеческой судьбы, и это было откровением для древнего мира, это выводило его за его пределы, обращало его к иному миру. Многообразными путями раскрывался человеческий мир в греческой культуре, утверждался античный гуманизм, подготовлялся человек для принятия истины христианства, истины о Богочеловечестве. Античный титанизм и героизм не мог разрешить проблемы человеческой судьбы, он только ее ставил. Разрешение это достигается лишь в религии Богочеловека и Богочеловечества. Христианский подвижник, святой достигает той последней победы над «миром», над стихиями природы, роком, которые были трагически недостижимы для героя и титана. Трагический герой идет к гибели. Христианский святой идет к воскресению. Образ человека в античной культуре раскрывался через взаимодействие и борьбу дионисического и аполлонического начал. Дионисическое начало и есть та первичная стихия жизни, без которой не имеет человек истоков жизни. Преизбыточность дионисической силы жизни рождает трагедию, разрывает границы всякой индивидуальности, всякого образа. Дионисический культ – культ оргийный. В нем человек ищет избавления от зла и муки жизни через растерзание индивидуальности, через гибель личности, через погружение в первичную природную стихию. Религия Диониса есть религия безличного спасения.[55 - Это утверждает В. Иванов, знаток религии Диониса и дионисический поэт.] Дионисическое начало само по себе не может выработать человека, не может утвердить и сохранить образ человека. И исключительное преобладание дионисической стихии и дионисических культов возвращали античного человека на Восток, к восточной недифференцированности человека. Личность человека, образ человека выковывались через религию Аполлона, бога формы и границы. Личность зарождалась в аполлоновой религии. Аполлоново начало есть по преимуществу личное начало. Это есть также начало аристократическое. Эллинский гений формы связан с культом Аполлона. Но исключительное преобладание аполлонова начала грозит утерей связи с дионисическим началом. Эллинский гений не дал себя растерзать дионисической стихии, не поддался влиянию Востока, он подчинил дионисическую стихию аполлонической форме, ограничивающей дионисическую стихию. Красота связана с аполлоническим началом. Дионисическое начало само по себе некрасиво. Космос есть красота, потому что в нем сочетается дионисическая стихия с аполлонической формой. Человек есть красота, имеет образ и подобие Божье, потому что в нем дионисическая стихия аполлонически оформлена. Равновесие между дионисическим и аполлоническим началом есть идеальная цель. Эллинский мир умел достигать этого равновесия. Но опасность нарушения равновесия грозила с противоположных сторон. Если исключительное торжество начала дионисического грозит растерзанием человека и гибелью личности, то же исключительное торжество начала аполлонического грозит человеку бессодержательным формализмом, исключительно формальной культурой, александризмом, своеобразным античным позитивизмом. Аполлоново начало есть начало границы, для него закрыта бесконечность. Бесконечность раскрывается для начала дионисического, но в бесконечности этой неразличима верхняя и нижняя бездна. Античный мир никогда не вышел из противоборства эпох противоположных начал, и спасти человека от подстерегающей его гибели он не мог.
§
Окончательное раскрытие и утверждение человеческой личности возможно лишь в христианстве. Христианство признает вечное значение и вечную ценность человека, индивидуальной человеческой души и ее судьбы. Душа человеческая стоит дороже, чем все царства мира. В душе заключена бесконечность. Христианство явилось в мир прежде всего как религия спасения человека для вечности, и потому уже оно полно внимания к человеческой личности, к человеческой душе, полно заботы о ней – оно никогда не может рассматривать человека как простое средство и орудие для каких-либо целей, как преходящий момент космического или социального процесса. Только христианству свойственно такое отношение к человеку. Христианское сознание основано на признании исключительного значения за единичным и неповторимым. Только в христианстве и существует единичное и неповторимое, индивидуально в своем вечном значении. Единичный и неповторимый лик каждого человека существует лишь потому, что существует единичный и неповторимый лик Христа-Богочеловека. В Христе и через Христа раскрывается вечный лик всякого человеческого существа. В мире природном лик раздроблен и всегда обращается в средство для родовых природных процессов. Только христианскому сознанию свойствен подлинный антропологизм, и в христианстве лишь осуществляется то, к чему шел античный мир. Но прохождение пути искупления, освобождение души человеческой от греха и от власти низших стихий, духовное укрепление человеческой личности до времени закрывали творческое призвание человека. Святоотеческое сознание было занято путями спасения души, а не путями творчества. Церковное сознание давало внутреннюю религиозную санкцию тому состоянию человеческой души, которому имя – святость, но не давало религиозной санкции тому состоянию человеческой природы, которому имя – гениальность. Святость – антропологична, она есть высшее достижение человеческой природы, просветление и обожение ее. Этим святость отличается от священства, которое есть не человеческое, а ангельское начало. Но есть ли путь святости и достижение святости единственный религиозный путь человека и единственное религиозное достижение? Можно ли сказать, что вся творческая жизнь человека, не лежащая непосредственно на пути святости, лишь попускается по греховности человеческой природы, но положительного религиозного оправдания не имеет? Это очень мучительный вопрос внутри христианского сознания, и нерешенность этого вопроса делает жизнь человеческую разорванной и в значительной части своей неосвященной. Путь гениальности, путь творческого вдохновения остается мирским, секулярным, несакральным, неосвященным путем. Религиозный смысл гениальности, как высшего проявления человеческого творчества, остается нераскрытым. Что означает для христианского сознания существование наряду со святыми, с подвижниками, со спасающими свою душу – гениев, поэтов, художников, философов, ученых, реформаторов, изобретателей, людей, занятых прежде всего творчеством? От этого вопроса нельзя так легко отмахнуться, сказав, что христианство совсем не отрицает науки, философии, искусства, общественной жизни и пр. Вопрос этот несоизмеримо более глубок, этот вопрос затрагивает самую глубину метафизики христианства, его догматического сознания. Есть ли творческое вдохновение положительный духовный опыт, обнаружение положительного призвания человека? Ждет ли Бог от человека творчества, творческого подвига? Творчество не может только попускаться или извиняться, оно должно положительно религиозно оправдываться. Если человек делается великим творцом только потому, что по греховной слабости не может идти путями святости, то творчество осуждено и должно быть отвергнуто. Если человек делается поэтом или философом только потому, что по греховности и слабости своей не может идти единственным истинным путем, путем подвижничества и святости, то поэт и философ осуждены перед лицом христианского сознания, то творческое дело их должно быть отвергнуто, как тлен, суета и пустота. О, конечно, каждый человек должен идти путем очищения, путем борьбы со своей низшей природой, путем аскезы и жертвы. Никакое творческое деяние, никакое познание, никакое искусство, никакое открытие нового и небывалого невозможно без самоограничения, без возвышения над низшей природой человека. Сотворить что-нибудь в жизни может лишь тот человек, который предмет своего творчества поставил выше самого себя, истину предпочел себе. Это – духовная аксиома. Поэт может быть очень грешным человеком и может низко падать, но в момент поэтического вдохновения, в момент подлинного творческого горения он возвышается над своей низостью, он преодолевает себя. Это есть мотив пушкинского «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон». В творческой жизни есть своя праведность, без которой творчество разлагается, есть свое благочестие, без которого творец теряет свою силу. Но острота религиозной проблемы творчества лежит в том, есть ли смирение единственная истинная основа духовной жизни, или есть еще какая-то другая основа, из которой рождается творчество? Феноменологическое и психологическое описание творчества решительно принуждено отрицать, что через сам по себе взятый духовный феномен смирения возможно творчество в какой-либо сфере жизни. Акт смирения лежит в первооснове духовной жизни христианина. Через смирение преображается греховная природа человека, побеждается эгоцентризм. Этот духовный процесс происходит и в творящем. И творящий должен через смирение, через отрешенность, через жертву своей самостью просветлять свою природу, освобождаться от тяжести греха. Нужно выйти из самодовольства, чтобы возникла самая потребность в творчестве. Но само творчество, самый творческий подъем означает другой момент духовной жизни, духовного опыта. Творящий в момент творчества не думает уже о победе над грехом, он чувствует уже себя освобожденным от тяжести. Само творчество есть уже не смирение и аскеза, а вдохновение и экстаз, благодатное потрясение всего человеческого существа, в котором обнаруживается и разряжается положительная духовная энергия. Вопрос о религиозном оправдании творчества есть вопрос о религиозном оправдании творческого вдохновения, творческого экстаза, как духовного опыта. Творчество религиозно оправданно и осмысленно, если в творческом вдохновении, в творческом подъеме человек отвечает на Божий призыв, на Божье требование, чтобы человек творил, соучаствуя в Божьем творчестве. Когда на призыв к творчеству отвечают призывом к смирению, то вопрос оказывается непонятым и снятым с обсуждения. Никогда еще ученый не делал открытия, философ не прорывался к сущности и смыслу мира, поэт не писал поэмы и художник картины, изобретатель не делал изобретения и общественный реформатор не создавал новых форм жизни в состоянии смирения, в переживании своей греховной слабости, своего бессилия и ничтожества. Творческий акт предполагает совершенно иные духовные состояния: переживание преизбыточности творческой силы, непосредственного подъема творческой силы человека, целостности в духовной настроенности. Творец может в тот же период жизни смиренно молиться, каяться в своих грехах, подчинять свою волю воле Божьей и переживать творческое вдохновение и сознание своей творческой силы. В творческом вдохновении и экстазе есть огромная отрешенность, победа над тяжестью греха, есть внутренняя целостность и забвение о себе. В творческом вдохновении и экстазе может быть даже большая отрешенность, чем в смирении, может быть прежде всего дума о Боге, а не о себе. Спасение души, искупление греха есть еще дума о себе. Творчество же по внутреннему своему смыслу есть дума о Боге, об истине, о красоте, о высшей жизни духа. Богу мало того, чтобы человек спасал свою душу от греха. Ему нужно, чтобы человек в положительном раскрытии своей природы обнаружил творческую любовь к Богу. Но Бог не может желать унижения человека. Подлинное творчество никогда не может быть творчеством во имя свое, во имя человеческое. Подлинное творчество всегда есть творчество во имя того, что выше человека, во имя Божье, хотя бы имя Божье для человеческого сознания было прикрыто истиной, красотой, справедливостью и пр. Творчество жертвенно по своей природе, и судьба творческого гения в мире – трагическая судьба. Творчество человека, как и все в мире, как и сама организация христианской Церкви в мире, обладает способностью заболевать, извращаться и вырождаться. Когда человек начинает творить во имя свое, когда он самоутверждается в творчестве, когда он не хочет жертвы и аскезы, перед творчеством разверзается бездна пустоты. Тщеславие подстерегает творящего и извращает его творческую природу. В современном духовном падшем мире поистине ужасна пустота, небытийственность литературы, искусства, мысли, философии, новшеств жизни, общественного строительства, ужасна беспредметность творчества. Артистизм современного человека в научной мысли, в искусстве, в формальном праве и политической жизни, в технике есть выражение безнадежной, страшной оторванности творческого процесса от бытия, от Бога, равнодушие к тому, что онтологически есть и чего нет. Это есть творческий упадок, и он закрывает для современного сознания самую постановку проблемы религиозного смысла творчества. Творчество современного человека в большинстве случаев религиозно бессмысленно и беспредметно и для людей христианского сознания соблазнительно. Творчество в современной цивилизации вызывает против себя религиозную реакцию.
§
Внутри христианского мира всегда сталкивались и боролись два течения – обнаружение творческого духа человека и монофизитская реакция против этого духа. Это религиозное монофизитское течение есть и в наши дни. Оно не видит религиозной проблемы человека и не в силах победить гуманизм. Победить гуманизм может лишь положительное раскрытие правды о человеке и его творческом призвании. Монофизитское принижение и отрицание человека неизбежно вызывает реакцию гуманистическую, гуманистическое самоутверждение и самораскрытие человека. Монашески-аскетическое христианство, основанное на антропологии святоотеческой, и даже не на всем святоотеческом учении, а лишь на части его, признающее подвижничество единственным духовным путем человека, брезгливо и пугливо отвращается от всех путей человеческого творчества, не может вывести из мирового кризиса гуманизма, который есть лишь обратная сторона мирового кризиса христианства. Мистико-аскетическое миросозерцание нередко бывает прикрытым манихейством. Ответственное христианское сознание нашего времени не может делать вид, что со времени вселенских соборов и споров учителей Церкви ничего особенного не произошло с миром и человеком; никакие новые темы не встали перед религиозным сознанием, все осталось на своих старых местах и лишь грех человеческий все искажает теперь, как искажал и раньше. Нет, сложен и длинен путь человека, он пережил трагедию, неведомую прежним, более простым эпохам, объем опыта его бесконечно расширился, и психея человека очень изменилась, совсем новые темы встали перед человеком. На усложненные запросы новой души нельзя ответить так, как отвечали некогда отцы Церкви в совершенно иную эпоху. Человеческий элемент в Церкви меняется и развивается. Ныне нужно творчески продолжать дело старых учителей Церкви, а не повторять старые их ответы на старые вопросы. Христианство не может жить дальше, если оно останется в состоянии эпигонства и упадочничества, если оно будет жить лишь старым капиталом, не накопляя новых богатств. Врата адовы не могут одолеть христианства потому, что в нем есть вечный и неиссякаемый источник творческих сил. Но христианское человечество может пережить состояние упадка. Монофизитская реакция и есть такой упадок. Ницше был жертвой упадочного монофизитства в христианстве, отрицания человека и его творческого пути. Его мучила творческая жажда, и он не нашел ее религиозного оправдания. Он восстал на Бога, потому что по сознанию его Бог не допускает творчества. Он знал только то старое христианское сознание, которое было враждебно творчеству человека. Церковь на поверхности своего сознания как бы не заметила длинного пути, которым шел человек, оказалась недостаточно внимательна к изменениям души человека. Церковь, в дифференциальном, а не интегральном смысле, не признала положительной творческой работы человека своей, как бы забыв свою богочеловеческую природу. Страшно изменился человек, новыми грехами он болеет, новыми муками мучится и новой творческой любовью хочет любить Бога. А представители старого закостенелого церковного сознания думают, что перед ними все та же старая неизменная душа, с исключительно старыми грехами и вопрошаниями. Человек прошел через Гамлета и Фауста, через Ницше и Достоевского, через гуманизм, романтизм и революционизм, через философию и науку нового времени, и зачеркнуть пережитого нельзя. Когда пережитый опыт преодолевается более высоким состоянием, то он входит в это состояние. Это – закон жизни. Ткань души делается иной. Душа стала бесконечно чувствительнее, в ней с новыми грехами и соблазнами явилась также сострадательность ко всему живому, которой не знала более грубая душа прежних времен. Эта новая чувствительность распространилась и на отношение человека к самому себе. В мире происходит двойственный процесс, процесс демократизации и процесс аристократизации души.
Раньше или позже должен быть дан положительный религиозный, христианский, церковный ответ на творческую тоску человека. С этим связана судьба христианства в мире. Христианство само бесконечно усложнило психею человека, но не дало еще ответа на эту усложненность. Нужно всегда различать подземное, глубинное действие христианства в истории и надземное, вошедшее в церковное сознание его действие. Явление в мире Христа влечет за собой охристовление всего космоса, а не только создание видимых церковных границ. И повсюду мы видим это двойное действие Христовых сил. Так, христианство внесло в мир любовь между мужчиной и женщиной, новую романтическую влюбленность, неведомую древнему миру. Но сознание церковное не ответило на вопрос о религиозном смысле любви. Христианство выковывало человеческую личность и сделало возможным нарождение неповторимой индивидуальности, которая так утончилась в новое время. Но церковное сознание как бы продолжает игнорировать развитие индивидуальности, трагическую судьбу индивидуальности в мире. С другой стороны, новое время развивает индивидуальность и доводит до величайшего напряжения чувство индивидуальности и вместе с тем давит и нивелирует индивидуальность, подчиняет ее массам. Мы живем в этих противоречиях и страдаем от них. Человек в процессе развития, который представляется вполне естественным, натуральным, выходит из родового бытия и родового сознания и переходит к сознанию личному и индивидуальным формам творчества жизни. Отсюда идут и большие изменения в стиле христианства. Христианство находится в переходном состоянии, и оно утеряло прежнюю строгость и цельность стиля. Христианство наше не может быть родовым христианством. Старый родовой строй, старое родовое сознание разлагается. Новый же коммунистический род принимает в себя антихристов образ. Индивидуальность человеческая раздавлена между остатками старого рода и зачатками нового рода. Возврата к старой сращенности между христианством и родовым строем жизни, родовым государством, родовым бытом быть не может. Возврат этот всегда есть бессильная реакция. Новой стадии в судьбе человека и человеческого общества должен соответствовать и новый стиль христианства. Преходящий историко-психологический стиль христианства нельзя абсолютизировать, нельзя считать его вечным. Не должно бесконечное порабощать конечному, духовное навеки скреплять с преходящими природными формами. Ложный классицизм, ложный консерватизм всегда подчиняет бесконечный дух конечной форме и конечную форму принимает за самое существо божественного. Против этого ложного классического стиля справедливо восстает романтизм со своей тоской по бесконечному, со своим нежеланием примириться с конечным. Мы живем в эпоху, когда невозможен уже статический классический стиль христианства, когда конечная форма быта мешает выражению бесконечного бытия. Наше христианство уже иное, вечное и новое, и оно ищет нового стиля выражения. Оно неклассично, нестатично, потому что оно обозначает бурное духовное движение, напряженный динамизм, не нашедший еще себе адекватной символики. Христианство на вершине новой истории есть неизбежно христианство, пережившее развал и крах гуманизма, бури революции, великое напряжение раздвоенной человеческой мысли, искания человеческой свободы и творчества. Старый стиль культуры в нашу катастрофическую эпоху уже невозможен. Нельзя преходящие формы быта почитать за вечное бытие. Христос пришел для всего мира, для всех людей и для всех эпох. Христианство существует не только для простых душ, но и для душ сложных и утонченных. Теперь приходится об этом напоминать. Преобладающий стиль православия долгое время был приспособлен к более простому и грубому состоянию души. Но вот усложнилась и утончилась душа человека. Что делать этой душе? Неужели для нее не приходил Христос и не для нее существует истина христианства? Истина христианства существует для всех и для вся; но статический стиль христианства той или иной эпохи может быть обращен лишь к определенному типу души. Так, русское старчество выработало себе стиль, который не для всякой души пригоден, оно имело свои типические души. И замечательно, что такое глубокое явление, как старчество, было бессильно ответить на творческую тоску человека. И могут возникать новые формы старчества. Оно не могло вполне совладать с душой Достоевского. Никогда иерархическое начало в Церкви, начало священства не может разрешить религиозную проблему творчества. Творчество есть обнаружение человеческого начала, человеческой природы. Религиозную проблему творчества может разрешить лишь сам человек, и он не может ждать разрешения этой проблемы от какого бы то ни было авторитета, от какой бы то ни было нечеловеческой иерархии. Разрешение религиозной проблемы творчества будет человеческим разрешением. Но проблема в том и заключается, чтобы разрешение ее было человеческим, шло от человека к Богу, а не от Бога к человеку. Человечество в христианский период истории раздавлено и разорвано противоречием: христианство без человеческого творчества и человеческое творчество без христианства, Бог без человека и человек без Бога. Любовь к Богу нередко превращали в ненависть к человеку. Движение христианства к полноте есть преодоление этой разорванности, есть положительное раскрытие Богочеловечества, соединение двух движений, сочетание христианства и творчества. И наступают времена, когда все яснее и яснее становится, что лишь в христианстве и через христианство может быть спасен самый образ человека, ибо стихии мира сего истребляют образ человека. Творчество человека возможно и оправданно, когда оно есть служение Богу, а не себе, когда оно есть соучастие в Божьем творчестве. Проблема эта связана с глубинами богосознания, с преодолением остатков манихейского метафизического дуализма, резко противополагающего Бога и творение, Церковь и мир. Всякое подлинное бытие вкоренено в Боге и вне Бога есть лишь небытие, зло и грех, а не природа.
Глава VII
Мистика и духовный путь
Если слово «мистика» происходит от слова «тайна», то мистика должна быть признана основой религии и источником творческого движения в религии. От непосредственного и живого соприкосновения с последней тайной рождается религиозный опыт. Омертвение религиозной жизни преодолевается, и возрождение религиозной жизни достигается возвратом к последней тайне бытия, т. е. к мистике. В мистике религиозная жизнь еще огненная, не остывшая и не окостеневшая. Все великие зачинатели и творцы религиозной жизни имели первичный мистический опыт, мистические встречи лицом к лицу с Богом и божественным. В огненном мистическом опыте Апостола Павла раскрылось существо христианства. Мистика есть питательная почва религии, и религия истощается, когда совершается отрыв от этой почвы. Но фактические отношения между мистикой и религией в истории были очень сложны и запутанны. Религия боялась мистики, нередко видела в ней источник ересей. Мистика как бы мешала организующей работе религии и грозила опрокинуть нормы религии. Но вместе с тем религия нуждалась в мистике и всегда узаконяла свою форму мистики как вершину своей собственной жизни, как цвет ее. Есть официально дозволенная и рекомендованная православная мистика, католическая мистика и мистика религий нехристианских. Религиозное вероисповедание всегда пытается подчинить своим религиозным нормам вольную и часто буйную стихию мистики. Так сложны отношения между мистикой и религией. Сложность эта в наше время еще усилилась тем, что мистика стала модной и что слово это употребляется в совершенно неопределенном, туманном и безответственном смысле. Введение мистики в литературу нашего времени имело роковые последствия. Мистику захотели сделать принадлежностью утонченной и усложненной культуры. Но этим совершенно искажена была ее вечная природа. Мистика не есть рафинированный психологизм, не есть иррациональные душевные переживания, не есть просто музыка души. И христианская религия справедливо восстает против такого смысла мистики. Психологизм конца XIX и начала XX века противоположен смыслу мистики, как противоположен всем смыслам. Но если мы обратимся не к современным литературным произведениям, а к вечным и классическим образцам мистики, то мы должны будем прежде всего признать, что мистика имеет не душевную, а духовную природу, что она не психологична, а пневматична. В мистическом опыте человек всегда выходит из своего замкнутого душевного мира и приходит в соприкосновение с духовной первоосновой бытия, с божественной действительностью. В противоположность тем протестантам, которые любят придавать мистике индивидуалистический характер и отождествлять ее с религиозным индивидуализмом, нужно сказать, что мистика есть преодоление индивидуализма и выход из индивидуалистического состояния. Мистика есть глубина и вершина духовной жизни, есть особого рода качествование духовной жизни. Мистика интимно-сокровенна, но не индивидуалистична. Виндельбанд однажды выразил представлявшееся ему противоречие германской мистики таким образом: она исходит из индивидуального и вместе с тем признает индивидуальность грехом. И действительно, мистика глубоко индивидуальна и вместе с тем преодолевает индивидуализм как грех. Но это есть противоречие в плане душевном и перестает быть противоречием в плане духовном. Нужно настойчиво утверждать, что мистика не есть субъективное состояние, она есть выход из самой противоположности между субъективным и объективным. Мистика не есть субъективная романтика. Мистика не есть мечтательные субъективные переживания. Мистика в высшей степени реалистична, трезва в распознании и раскрытии реальностей. Настоящий мистик лишь тот, кто видит реальности и отличает их от фантазмов.
Прежде всего надлежит установить коренное различие между мистикой и магией. Эти совершенно различные сферы легко смешиваются. Мистика имеет природу духовную, магия же – природу натуралистическую. Мистика есть общение с Богом, магия же есть общение с духами природы, с элементарными силами природы. Мистика есть сфера свободы, магия же есть сфера необходимости. Мистика отрешенна и созерцательна, магия же активна и завоевательна. Магия учит о скрытых силах природы человека и мира, но никогда не углубляется до божественной основы мира. Мистический опыт и есть духовное освобождение от магии природного мира. Мы закованы в природной магии, которую не всегда опознаем. Научная техника имеет магическую природу и магическое происхождение, и за ней стоит магическая психология покорения природных сил. Магия по принципу своему отлична и часто противоположна религии, хотя в религию могут привходить магические элементы.[56 - Фразер особенно настаивает на том, что магия предшествует религии.] Более глубокое понимание природы всегда магично. Магические энергии повсюду действуют в мире. Мистика сопоставляется с магией вследствие существования ложной мистики. Существуют два типа ложной мистики – мистика натуралистическая и мистика психологическая, мистика природы и мистика души. Оба эти типа не доходят до подлинной глубины мистического опыта, в них остается замкнутость природного и душевного мира. Подлинная мистика есть мистика духовная. В ней преодолевается ложный магизм и ложный психологизм. Лишь в глубине духовного опыта человек соприкасается с Богом, выходит из границ природного и душевного мира. Но мистика не может быть просто отождествляема с духовной жизнью, духовная жизнь шире по своему объему. Мистикой может быть названа лишь глубина и высота духовной жизни. На этой глубине и на этой высоте человек прикасается к последней тайне. Мистика предполагает тайну, т. е. неисчерпаемую, невыразимую, бездонную глубину. Но она также предполагает возможность живого прикосновения к этой тайне, жизнь с ней и в ней. Признание существования тайны и отрицание живого опыта тайны есть отрицание мистики. Спенсер признает, что в основе бытия лежит непознаваемое, т. е. некая тайна. Но он позитивист, а не мистик, и непознаваемое для него есть лишь отрицательная граница. Тайна мистики не есть непознаваемое и не означает агностицизма. И человек соприкасается с мистической тайной жизни не на плоскости гносеологии, – там соприкасается он лишь с непознаваемым, – он соприкасается с тайной в самой жизни, опыте, общении. Тайна не есть отрицательная категория, не есть граница. Тайна есть положительная бесконечная полнота и глубина жизни. Иногда тайна исчезает, все делается плоским, ограниченным, лишенным измерения глубины. Тайна притягивает человека к себе, раскрывается возможность вживания в нее и общения с ней. Лик Божий обращен к тварному миру как Тайна, и увидеть Лик Божий мы можем лишь как Тайну.