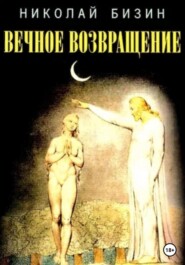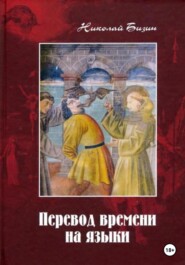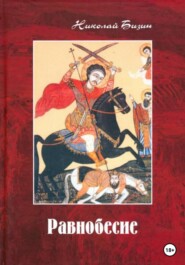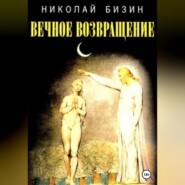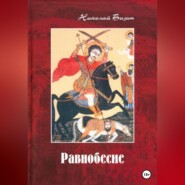По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Среда Воскресения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ещё она имела в виду, что он как бы (и куда бы) ни собирается – всё это напрасно, и из пригорода Санкт-Ленинграда (а не только из Первонепристойной) никакой выдачи нет, ведь давно сказано: оставь надежду всяк, обретший Божье Царство.
Она говорила (чистой Воды) правду; но – он все еще продолжал и продолжал стоять на одной ноге! До тех самых пор, пока это не стало совсем уж невозможно… Кар-р!
Она говорила чистой Воды правду; но – совсем не о том.
Поэтому – Илия Дон Кехана (наконец-то) встал на обе ноги и не стал говорить женщине, что железнодорожный перерыв заканчивается через пятнадцать минут, и что поезда вот-вот появятся, и что времени у него ровно столько, чтобы добежать до станции… Ведь вообще – не затем говорят (что-либо), чтобы все было досказано!
– Что-то толкнуло меня, я сорвалась с работы, взяла частника и примчалась к тебе, – сказала она очень нужные и очень бесполезные слова, после которых пришла пора неизбежных слов, беспощадность которых она не понимала:
– Встань на обе ноги! – сказала она, не обернувшись.
Он неслышно хмыкнул. Она (не оборачиваясь) догадалась:
– Впрочем, ты уже встал! Теперь сними свой нелепый ботинок, проводи меня в гостиную, и опять и опять мы будем говорить все то, о чем не договорили вчера, – так она предложила ему определиться с какой-нибудь из опор (на небо и землю); а ведь он – определился, раздвоившись (лукавый, двуликий, трусоватый – так он о себе думал)… Кар-р!
А ведь он (всего лишь) прочно встал на ноги и молча изменил реальность, и у него получилось; но – она так и не увидела его – уже без «влюблённого в неё» сердца в его груди. Теперь он был за спиной своего сердца: его сердце (в её плаще) словно бы заслоняло его своей бьющейся грудью, и она не могла ничего с ним поделать.
И лишь когда он убедился, что так все и есть, он сказал слова, которых она уже не услышала:
– Мне надо торопиться!
Потом он эти слова повторил – уже для них двоих; разве что повторил ещё более молча (и уже намного больнее, нежели просто – молча) и ещё более беспокойно:
– Поторопитесь, мне надо как можно скорей вас оставить.
Но она опять услышала совсем другое уже «прошлое», произнесенное с «прошлым» благоговением:
– Я буду называть тебя Домреми!
Хорошо, называй, мне нравятся твои именования, – она не понимала, что говорила, но – слово произнесла очень точное. И вот только тогда ещё больнее и еще молчаливей (а было ли это возможно?) его сердце окрепло меж ними; но – она уже не помнила, как отвернулась и сбросила на сердце изящный плащ.
Как создала себе идеальную любовь.
Ведь её плащ – ещё только опускался на сердце, но – уже принимал все его биения, становился именно таким обликом Идальго, какой был жизненно необходим его любимой. Таким образом все уладилось: женщина получила любовника и собеседника! А мужчина выпутался из выбора обуви и остался как есть один: нагим и легконогим.
Если раньше мне (стороннему автору этой истории) показалось (или – могло бы показаться), что Илия Дон Кехана был способен отправиться в путь только лишь в чьей-либо обуви или в чьем-либо облике искусственного лица (например, безумного римского императора), то теперь и мне была явлена очевидность: Илия Дон Кехана должен пере-ступать только нагой душой.
Что он и сделал: босиком бросился к двери!
Бросился – как бросаются из окна, но – уже безо всякой без оглядки на женщину и ее любовника (другого Идальго, то есть – своего сердца в её плаще), причём – уже через пять минут он оказался на железнодорожной платформе и немедленно был подобран (окончательно забран с земли) подскочившей электричкой.
Которая – унесла его в Санкт-Ленинград за сестерциями, потребными на экспедицию в кровавую и лживую Москву образца девяносто третьего года; то есть – в Первонепристойную столицу всего моего мироздания… Кар-р!
Сколько у нас у всех есть образцов (о'бразов или даже образо'в) кровавой и лживой Москвы? Нет ответа!
А сколько у нас у всех наших любимых женщин? Нет ответа!
Но с женщиной по имени Домреми (другой, но – почти такой же, как Жанна Санкт-Ленинградская) мы ещё встретимся, причём – произойдет это либо в удивительный день майских беспорядков две тысячи двенадцатого года (или августовских девяносто первого, или октябрьских девяносто третьего), имевших место произойти все там же, в Первонепристойной столице…
Либо просто встретимся – если я захочу подставить своё сердце под её плащик (халатик, тунику, сари, кимоно или даже чадру); согласитесь: «И море, и Гомер – всё движется любовью.» – ведь даже для того, чтобы мой пророк отправился исполнять поручение Старика (кар-р!), ему пришлось сбежать от женщины – частью своей неделимой сути.
А когда эта встреча произойдёт? А вот явит ли уже себя Илия дон Кехана в полной силе версификатора мира? А вот будет это явление несколько раньшим или несколько позжим всего вышеописанного?
Не суть важно, ведь времени не существует. А что же тогда существует в мире?
Только разговор на равных – никак иначе. Всего прочего нет вовсе.
Ведь как одна Стихия не может быть без других Стихий, так и один человек не может стать её воплощением без помощи других ипостасей Стихии. Их немного: человеческие воплощения Воздуха, Земли, Воды и Огня, если их принимать без визуальных спецэфектов, оказываются весьма хрупкими и недолговечными.
Только время (или Время – тоже Стихия, кровосмешенная с прочими и кромешная?) показывает функциональность каждого отдельного человека (да и был ли это человек?); только реакция среды (не только Воды, но и прочих) показывает истинный масштаб того ничтожного атома, затерянного в бездне прочих корпускул.
Только разговор на равных делает этот «атом» (ординарную особь из homo sum) частью того «себя самого», который – наивозможен. Поэтому – пока Идальго (причем – босиком, чего никто из встречных не замечает; причем – совершенно не обмораживая ступней) пере-бирается из пригорода Царства Божьего в город-герой Москву.
А пока он перебирается, я расскажу о таком общении. Я расскажу о первой встрече Стихии Воды с другими Стихиями.