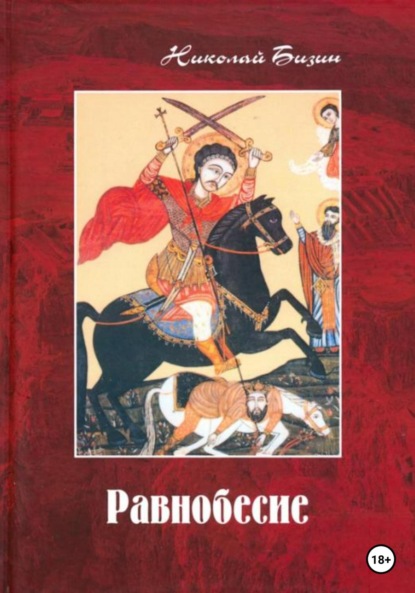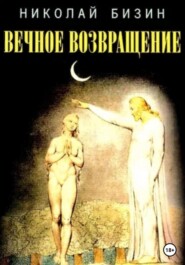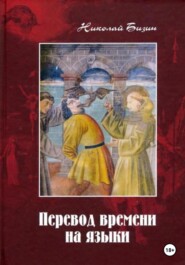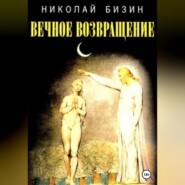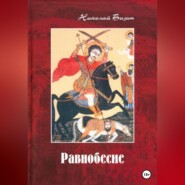По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Равнобесие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Туда, где меня сейчас попробуют убить.
– А у нас всё по прежнему, – сказала она фразу знаменитого британского (этот остров хорошо в моё время известен) сыщика из чуть менее знаменитого русского (этот народ ещё не существует, я уже упоминал) фильма (зрелище для народа, как и гладиаторские бои); кстати, о зрелищах!
Из всех искусств для нас важнейшими представляются кино и цирк!
Что такое кино, я не могу знать (почти), а вот что такое цирк… За мной, мой читатель! Динамика событий (и метафизическая ея патологоанатомия, после того как события обернутся мертвым результатом) начнётся именно там, в ореоле тщетного героизма, вынужденных страстей и настоящей крови.
«Обычно профессиональные гладиаторы были очень осторожны и старались не пораниться сами и не поранить противника и тратили почти всю свою энергию на ложные удары и выпады, которые на вид и слух казались гомерическими, но на самом деле не причиняли никакого вреда, вроде тех ударов, которые наносят друг другу бутафорскими дубинками рабы в низкой комедии. Лишь изредка, когда бойцы приходили в ярость или хотели свести старые счеты, на них стоило смотреть.» (Я, Клавдий, страница 73)
Поэтому применяются различные способы, дабы придать видимому некое наполнение. Заставить бойцов биться естественно, без мыслей о будущем, по простому. Согласитесь, откровенная паралель со всеми нами, императорами и рабами: Мы все совершаем различные телодвижения, важно лишь наличие в их оболочке наполнения.
Я сидел в ложе. Где же ещё? Толпа жаждала хлеба и зрелищ, и император был ещё одним зрелищем. Со мной не было моей женщины, была лишь моя жена (тоже прекрасное зрелище). Потому, когда после первых шести поединков одного человека убили, двое или трое оказались серьёзно ранены (один из них вскоре умер), а ещё одному отрубили сначала руку со щитом, а потом и ногу (что вызвало хохот зрителей)… Что же ещё?
Смех и смерть, в Риме они рядом. Следует очень потрудиться, чтобы твоя смерть не вызывала у римлян смех. Немногие смогли. Например, современник Петрония, христианин Пётр. Иногда мне доставляет радость представлять, что автора Сатирикона проносят по улице в носилках, а бывший рыбак и нынешний галилеянин смотрит на него из толпы. И. Быть может, не улыбается.
Смех и смерть. Я бог, а боги люты и радостны. Вот и меня бы могли убить, как Сапажка, а потом посмеяться, но… Я слышал (мне пришлось приложить усилия, чтобы это слышать), христианин Петр сам попросил распять себя вниз головой. Он, победивший в догматическом споре самого императора (тогдашнего), продемонстрировал народу-воину пример невиданной мудрости и невиданного мужества.
Римляне были умны. Они всё поняли. Они стали думать.
Пётр дал им зримость невидимого величия. Дал именно как римлянам: Хлеба небесного и небесного зрелища.
Теперь, вместо моего обречённого Рима, думаю я! Возможно ли моему Риму остаться? И зачем это мне, богу? Затем, что «человекам невозможно. Но невозможное человекам возможно Богу»? Казалось бы, разница в величине буквицы, но я (человек, играющий людьми, поскольку мне ничто животное не чуждо) видел власть логосов.
И думал, что иногда ея использую.
На деле, конечно, всё происходило только тогда, когда я исполнял промысел христов (ежели уж и логосы были согласны меня поддержать); так и с Петром – когда-то: «По прибытии апостола Петра в Иерусалим ему явился в видении Господь и сказал:
– Встань, Пётр, иди на запад, – нужно и западу просветиться твоей проповедью.
Как мы все хотели бы слышать эти слова от Бога:
– Иди, ты нужен. Я буду с тобой!… и как мы их боимся.
Он не испугался. Ему предстояло взять Рим голыми руками. Фантастическая задача.
У Рима было две головы – язычество и армия. С язычеством апостол Павел справился духом, вступив в борьбу с волхвом Симоном. Над воротами Петропавловской крепости в Петербурге изображен финал этого сражения, поворотный в истории мира и Европы. Любимец публики и авторитет горожан, Симон взлетел и рухнул, сраженный Богом, к ногам изумленных римлян.
Петр своей борьбой и проповедью подрубил первый корень античному язычеству. Христиане трудились над ним до тех пор, пока оно через триста лет не рухнуло окончательно.» – так должно было произойти с моим Римом… Я, последний великий император Рима, собирался нарушить эту неизбежность, и логосы (казалось бы) должны были позволить этим скоморошным заговорщикам убить меня.
Если проще: Я хотел бы отыскать какого-нибудь христианина. Настоящего христианина, христианина – полностью и сейчас, а не где-нибудь по частями (пусть даже невидимо составляющим Церковь) и не когда-нибудь в их Царстве Небесном, а досягаемо передо мной.
Ибо в моё время ещё не было догмой, что совокупное тело Церкви – тело Христово. Я мог бы помечтать, что Церковь – это собрание святых, а не толпа кающихся грешников. Святые почти бесплотны, им почти нет места в этом мире. А толпе кающихся грешников ничто не мешает быть смыслом мира.
Можно сказать ещё проще: Я хотел бы отыскать настоящего христианина (как днём с огнём Сократ); можно сказать ещё проще: Я хотел бы отыскать совершенную Церковь, а не такую, о которой сказал (или ещё только скажет) блаженный Августин: Ты спрашиваешь меня, как дела в моей Церкви. С ней обстоит так же, как с моим телом: Всё болит и вполне безнадёжно. (цитата по памяти)
Я бы посягнул на совершенную Церковь святых, раз уж не осмеливаюсь посягнуть на самого Христа.
Хотя, быть может, мне следовало бы изменить прошлое так, чтобы Его не распяли?
Чтобы Он дожил до старости.
Чтобы он умер от дряхлости и воскресал из такой благополучной смерти? Не знаю, хватит ли на это моей административной божественности. Но представляется, что на такое прямое сравнение (меня и Его) следует идти лишь в крайнем случае.
А пока что на деле (а мне приходится иметь дело с реальными христианами), они все (даже величайшие их подвижники) – оказываются меньше себя самих. И лишь в своей смерти они становятся равны себе и друг другу, и своему галиеянину. Составляя из своих тел (здесь) тело Христово. И предъявляя (где-то не здесь) сущность Христа, непредставимо составленную их душ человеческих.
Итак, я хотел отыскать человека. Что может быть банальней?
– Диоклетиан, – ты зануда! – вспомнилось мне, когда я стал смотреть на арену.
Более того, я стал занудливо смотреть на арену. Ведь на свою официальную жену я не мог смотреть столь занудливо, положение обязывало.
– Поставим? – предложил я.
Жена удивилась.
– Хорошо, не будем, – сказал я.
К чему переливать из пустого в порожнее? Она императрица, но я император. У неё были свои личные средства и доходы (что есть разные, по сути, понятия), но у меня были мои средства и расчёты (не расходы, конечно, но – добавление к недостаточному необходимого).
Она услышала моё невысказанное. Но она даже не дала понять, что именно слышит. Она, в отличии от моей женщины, не давала определений неопределимому. Её, императрицу, всё устраивало.
Я мог бы даже подумать: Зачем мне, к примеру, Хлоя, если у меня есть жена, которая мне ровня?
И это моё «я мог бы подумать» она тоже услышала.
Что мне было делать? Только вернуть её (богиню) с Олимпа на землю и в цирк (как известно, являющийся для нас наиважнейшим искусством).
– Так подумай! – могла бы подумать она. Просто-напросто для того, чтобы я (в свой черёд) был вынужден узнать её мысли. Но она (моя жена) была божественно умна. Когда-то я радовался такой своей вынужденной (положенной административно учреждённому божеству) догадливости о чужих помыслах… Нам, богам, женщины нужны для отдохновения от божественности. С жёнами такое недопустимо.
– Именно! – могла бы сказать она. – До гадливости.
Но она не допустила такое сказать, и я (опять) стал ей должен. И она (опять) это знала. Когда-нибудь она попросит вернуть долг. Ввернуть весь её мир, естественный, лишённый отказа от невидимой скверны, лишённый со-вести. Мир, признающий добро и зло естественными, как дыхание.
Будем считать, она уже попросила. Просто потому, что я хотел именно такой просьбы: Вернуть мир без понятия греха. Что, конечно, совершенно невыполнимо.
Тогда я по настоящему стал смотреть на арену.
Я видел: Два гладиатора вместе приблизились к нашей ложе и приветствовали нас обычной фразой:
– Здравствуй, цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя.
Мы ответили на это общепринятым жестом. Сразу же дали сигнал, и бой начался. Один из бойцов (он был явно моложе, вооружён сетью и трезубцем) принялся танцевать вокруг гладиатора, который был экипирован мечом и небольшим круглым щитом с шипом… Я не слишком интересовался поединком и не задумался о словах «идущие на смерть» (и об избавлении от смерти).
Всё и так было предопределено: Победит галиеянин, избавителем от смерти останется только он.
Но ежели и мой проект окажется осмыслен, то каждый человек (когда-нибудь и где-нибудь становясь богом) сам избавит себя (поначалу) от смерти, а потом и от власти мутной и тленной материи над чистотой (и полнотой) человеческих помыслов.
Здесь был интересный момент: В обоих случаях доминантой оставалась ирреальность, но в моей версии она не уничтожала низшие существования, называя их «бытием в преисподней».