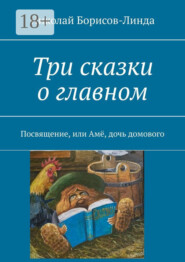По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
По самому, по краю… Избранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, не сплю. Мысли одолевают разные. Думаю, – Ильгиз отвернулся от окна, тяжело вздохнул.
– Брось, пусть лошадь думает, у нее голова большая. А мы своё отдумали. Плюй на все, береги здоровье. Оно тебе ещё пригодится. По первой всегда думаган, одуреть можно. – Голова спряталась. – Это первые пять лет тяжело, а потом привыкнешь.
– Насчёт привычки ты прав. Хоть волосы рви, хоть локти кусай, привыкать придётся. Только вот жить не хочется. Ты не знаешь, куда нас везут?
– Э-э, перестань! Куда, куда… Ты ещё спроси, зачем? Нет, быстрее бы на зону. Там время побежит, скучать не придётся. – И он замурлыкал:
Если вора полюбишь, воровать он завяжет,
Если вора полюбишь и он тоже не прочь.
Но, словно поперхнувшись, замолк. Заворочался.
Ильгиз думал. За свои неполные двадцать четыре года никогда не ворошил так много прошлого. Раньше просто жил себе изо дня в день, почти без воспоминаний. Времени не было задуматься. А сейчас словно прорвало, вспомнилось давно забытое, хотя всякий раз память возвращала к последним событиям. С того самого момента, как забрали из общаги, как захлопнулась дверь КПЗ, лязгнув защелками. Разум ещё на что-то надеялся, а сердце нет, оно знало наперёд – свободе конец, посадят.
Долгое следствие, недолгий суд, и вот он здесь. Увозят дальше и дальше от жизни. А он не хочет, не хочет!
Почему так несправедливо? Кто этот сильный и безжалостный? Зачем лишил его свободы и засунул в металлическую клетку, из которой нет выхода, внутри которой трудно дышать?
Ночь. Сна по-прежнему нет. Стены, потолок, бледный свет зарешеченной лампочки давят. Хочется воздуха, морозного ветра и свободы. Господи! Как хочется на свободу! Ильгиз застонал… Жизнь оборвалась, впереди пугающая пустота. А где-то, за многие сотни километров отсюда, все осталось без изменений, и его, наверное, уже забыли. Друзья попивают винишко. Танцульки, девочки. Катька, милая Катька… Пожалела, называется, успокоила:
– Ты же не в космос летишь, не на Марс! Мне девятнадцать уже. Сам думай. Подвернется кто, замуж выскочу.
И всё. И равнодушие в глазах. Но он-то заметил горечь в судорожно сжатом разрезе губ, отчаяние и усталость, скрытые за яркими румянами. Конечно, тюрьма не Марс, хуже. Обиды на неё нет. Наверное, так и должно быть.
Обрывки воспоминаний перемешивались, словно в детском калейдоскопе, наползая друг на друга, смешивая плохое с хорошим, и Ильгиз, забывшись, заснул.
А поезд грохотал колесами, разрывая чёрное пространство ночи, и всё дальше и дальше увозил горьких людей от их дома, от человеческого тепла, от всего того, что было привычно и любимо.
Утро облегчения не принесло. За окном, как и в душах, было пасмурно и зябко. В купе ехали трое. Ушастый, самый говорливый, бравировал, изображая из себя бывалого парня, но в глазах затаилась тоска. По его словам, это у него вторая ходка, и пел он вроде беззаботно, но со злобой.
«Нет, друг, – думал Ильгиз, – как ты перед нами ни выпендривайся, тебе тоже не сладко. Крылышки подрезали, не вспорхнешь. Это не в отпуск на море».
А попал ушастый за угон машины, покатался по-пьяни без спроса на чужом «жигульке» и превратил его в лепёшку. Ладно, хоть не пострадал никто. Теперь вот – самого катают, тоже без спроса.
Второй был дед. Молчун. Вздыхал всю дорогу да всхлипывал иногда и молитвы читал. А сейчас что молиться? Молись не молись… Тоже водочка подвела. Сам не рассказывал, ушастый поведал.
Дед сторожем работал, телят охранял. Ночью начальства нет, сам себе начальник. Махнул малость самогоночки и в сено примостился, вздремнуть чуток. А самокруточку обронил. Как жив остался, одному Богу известно, но проявил геройство – часть телят спас. Потому и дали мало, всего-то два года. Говорит, в войну пацаном партизанил. Ушастый его подначивает: «Тут, говорит, дед, разобраться надо, против кого партизанил-то. По проступку, видно, война для тебя не кончилась. На диверсанта смахиваешь. Какое задание получил, Джеймс Бонд?»
Сопит обиженно дед. Сопит и вздыхает. «Ну, болтун. А? И как такой смог вылупиться? Эх, болтун, он есть болтун. А про меня в народе говорят: от тюрьмы и сумы не зарекайся».
Ильгиз лежал с закрытыми глазами, но не спал. Тяжело деду, тяжело ушастому. Всем тяжело. «Отпустили бы меня сейчас, ведь не убил никого. Пить бы бросил, на Катьке женился, на все собрания ходил бы, и ни в какие драки, никогда… Почему так много дают? С ума можно сойти – пять лет! Стариком оттуда выйду. Таким же вот дедом слезливым. С матерью, как в армию ушёл, так и не виделся. Четыре года одним днём пролетело. Когда теперь увижу? Да и увижу ли…»
– Ильгиз, ты что дрыхнешь? Ну ты мерин, я скажу. Мы ведь по Башкирии тащимся, по солнечной родине твоей.
Ильгиз вскочил, припал к окну. Как же это он? Раевка, Раевку проехали, вот чёрт. Уфа скоро.
Мелькали станции, полустанки, поезд спешил, торопился довезти своих пассажиров до места назначения. Когда позади осталась станция Дёма и вагоны загрохотали по мосту через Белую, Ильгиз весь сжался. Его лихорадило, кровь гулко била в висках. Все, все здесь ему знакомо. До мелочей, до скрытых подробностей. Он смотрел широко распахнутыми глазами, вбирая в себя увиденное, сравнивая, сопоставляя.
Вон там, напротив памятника Салавату Юлаеву, он купался, загорал, валялся беззаботно на песке, рыбачил… А здесь, на берегу, под самым обрывом была небольшая беседка… остатки её… столбики виднеются. Они просидели в ней с Динкой до утра, встретили солнце, и он ушёл в армию с её поцелуями на губах и с клятвою о возвращении.
И вот – возвращается. Всех забыл: и Динку, и родителей. Что за сон? Что за наваждение? После армии даже на день не приехал. Да что там, писал по три строчки в полгода.
Будто почувствовав его состояние, поезд сбавил ход. Ильгиз верил и не верил своим глазам. Родительский дом, его дом, с коричневой, крашеной крышей, с несколькими белыми латками оцинкованного железа и новыми, ещё не крашеными воротами. Да, да, обо всем сестра писала.
Напротив дома зеленая лужайка упругой травы, по которой он любил бегать босиком – холодную нежность её он явственно вспомнил сейчас. А там у самого забора рос куст паслёна, черная ягода которого никогда не была запретна, и он наедался её до одури, до сладостной икоты.
Вагон медленно, словно спотыкаясь на стыках рельсов, поравнялся с домом. Ильгиз задохнулся. У колодца с журавлём, с коромыслом и ведрами стояла мать. Вода была набрана, она подцепила вёдра, собираясь идти, но, увидев проходящий состав, задержалась.
– Эни, – выдохнул Ильгиз, вцепившись в решетку.
– Эни, – с трудом шевельнулись губы.
– Э-э-н-н-и-и!!! – истерично, во весь голос заорал так, что ушастый сорвался с полки и побелел лицом, а дед часто-часто закрестился.
– Э-э-н-и-и! Мин монда! Вот он я! Ал мине! Энии! Ал мине! Пустите меня! Пустите… гады! – он тряс решетку, кидался на неё грудью. Казалось, ещё мгновение, и он начнёт грызть металл зубами.
Мать словно услышала или почувствовала что-то. Оглянулась и замерла, глядя на их вагон.
Ильгиз отпрянул. «Эни, эни, эни! Мин монда. Ал мине. Ал мине», – шептали губы. И так стоял он в глубине купе, пока мать, поправив коромысло с вёдрами, тяжело ступая, не пошла к дому.
Теперь, прильнув к металлическому холоду решеток, он видел её. В старенькой фуфайке, в носках из белого козьего пуха, в галошах, в чёрном платке и чёрной юбке, она была ему ещё родней, ещё любимей.
Может, это по нему траур? Он жадно смотрел, как она уходит, и слёзы текли нескончаемо, наверное, из самого сердца. Ему становилось легко и покойно.
– Эни-и, – нежно прошептал он. – Вот и свиделись. Прости меня.
Настоящее уже не казалось сном, а будущее таким страшным и беспросветным. Надо жить, Ильгиз. Надо жить, говорил он себе. Пять лет – это ещё не вся жизнь.
Грех
Третьи сутки с небольшим перерывом моросил дождь. Лес вымок насквозь. Земля перестала вбирать в себя воду. Даже стволы деревьев, насытившись, казалось, источали из своей коры влагу.
Среди утренней мглы и монотонного шума дождя было едва слышно чавканье сапог, устало бредущих вооруженных людей. В поднятых капюшонах плащ-палаток они походили на таинственных обитателей ночного леса. Их было четверо. Двое посередине несли грубо срубленные из жердей носилки. Осторожно идущий первым остановился и поднял руку, шедшие следом замерли, бережно опустили свою ношу. Замыкающий группу присел на корточки.
В просвете между деревьев виднелся кусок лесной дороги.
– Привал, – первый сбросил с себя капюшон. – Что за чертовщина? Этой дороги на карте нет. Куда нас занесла нелегкая? – Он, озираясь по сторонам, подошел к носилкам. – Час отдыха и вперед. – Опустился перед носилками на колени.
– Олег! Ты как? Олег! – приподнял край брезента. – Олег, слышишь меня? – Серое пятно лица смотрело невидящим взглядом куда-то в сторону.
– Олег! Ты что?!.. Сашок!.. Ребята! Олежек умер…
Четверо молча сгрудились у носилок. Стащив с головы капюшоны, они стояли с непокрытыми головами и смотрели в невидящие глаза своего товарища.
С самого начала выход в тыл врага, за Днестр, не заладился. Удачно форсировав реку и перейдя минное поле, они неожиданно столкнулись с патрулём противника. Бой был короткий. Скорее не бой, а нападение. Хладнокровно расстреляв, принялись обыскивать убитых, и здесь Никита невольно поймал себя на мысли, что эта процедура ему крайне неприятна.
«Они же ещё тёплые, может жизнь еще не до конца покинула их бренные тела, а с ними уже можно делать все, что угодно. И никто из них себя не защитит», – возникшая мысль поразила Никиту. И еще, когда, перевернув убитого лицом к себе, удивился, что перед ним не моджахед. Забытое число раз, вот так же, переворачивая труп, он знал, чьё лицо увидит. А сейчас, чисто выбритый подбородок заставил вздрогнуть от неожиданности. «Тьфу, —выругался про себя, – без войны кисейной барышней сделался, совсем отвык от запаха свежей крови. Еще с годик такой жизни и, наверное, плакать навзрыд над убитыми буду». Он с интересом заглянул в открытые глаза убитого, словно пытаясь понять, увидеть, что там за жизнью.