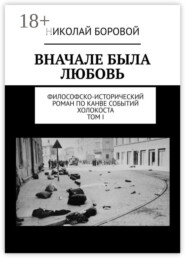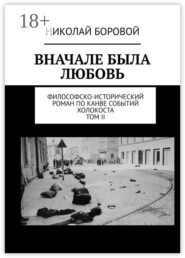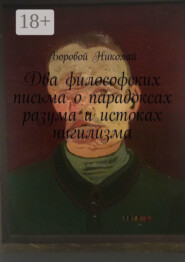По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI
Николай Боровой
Он – профессор философии Ягеллонского университета, смутьян и бунтарь, сын великого еврейского раввина, в далекой юности проклятый и изгнанный из дома. Она – вдохновенная и талантливая пианистка, словно сошедшая с живописных полотен красавица, жаждущая настоящей близости и любви. Чудо и тайна их соединения совершаются в ту страшную и судьбоносную ночь, когда окружающий мир начинает сползать в ад…
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ
Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI
Николай Боровой
© Николай Боровой, 2021
ISBN 978-5-0055-0712-9 (т. 3)
ISBN 978-5-0055-0713-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ТОМ III
Глава двенадцатая
КАЗНИТЬ ПРЕДАТЕЛЯ
Да, тогда они не встретились, не пришлось… Тогда звеньевой Чеслав Рындко, ждавший своего связного в обычном месте, лишь оторопело глядел, как на десять минут раньше условленного времени, этот человек летел по Минской в своей телеге, из которой уже рассыпались бидоны, отчаянно стегая старую клячу и заставляя ее нестись галопом. Перед этим Чеслав слышал отголоски выстрелов, и честно говоря – начал волноваться, потому что те неслись из глубины Минской, как раз оттуда, откуда и должен был со своей клячей приползти на встречу связной, молочник Гжысь. Волнение его было более общим – Чеслав думал только о том, не случилось ли чего-то опасного и неожиданного поблизости от его связного, не нарушит ли это запланированной встречи и не выйдет ли не дай бог из этого какой-нибудь серьезной беды. Однако – предположить какую-то прямую связь между молочником-связным, бывшим университетским профессором и этими выстрелами, чем-то происходящим вдали, в глубине улицы, ему конечно даже не пришло в голову. Даже такая простая, непроизвольная и само собой разумеющаяся для подпольщика в этих обстоятельствах мысль, что случилось неожиданное и трагическое – проверили молочника, к которому уже давно привыкли как к неотъемлемой части повседневной жизни предместья, нашли при нем что-то «не то», или что-нибудь по непонятной причине заподозрили, а он попытался сбежать и т.д. – не пришла в голову Чеславу, довольно опытному в своем деле человеку. Потому что прекрасно вжился связной за полтора года в свою «роль» и «легенду», приучил к своему облику тысячи людей, ни у кого никогда не вызвал подозрения или далеко заходящих вопросов, был надежен и известен в поведении и образе жизни… и чего вдруг подобное должно было бы произойти?.. И хоть полна жизнь под немецкой оккупацией всяческих неожиданностей, и может вызвать внезапное подозрение даже тот, к кому привыкли, да вообще – может статься какая-нибудь «облава», «общая проверка» или черт еще знает что, всё равно, об этом Чеслав не подумал. Но когда увидел несущегося в телеге по Минской, похожего на внезапно разбушевавшегося или обезумевшего медведя «молочника», увидел полетевшую галопом старую клячу, которая, казалось всегда, и шагом-то ходила с трудом и неохотой – сначала оторопел, не поверил себе и подумал спит, а потом понял, конечно, что случилось что-то всё-таки именно со связным, а что – предстояло немедленно выяснить. Потому что представшая глазам Чеслава картина прежде всего означала, что и связной-подпольщик, с его легендой и обстоятельствами, со снятым для него недалеко от этого места домом, и надежный, полтора года использовавшийся канал связи, провалены. И это было очень серьезно и очень плохо, подразумевало целый ряд последствий. И потому, конечно, требовало немедленной, продуманной реакции и оценки, ведь на подобные случаи есть четко обозначенная процедура, как говорят, «сворачивания удочек» и «заметания следов», а кроме того – «отработки» провалившегося подпольщика, и в соответствии с выяснением причин и обстоятельств – либо его спасения и перевода в другое, безопасное место, определения для него возможного по ситуации места проживания и круга деятельности, либо… Либо – это либо. Это то, что они сейчас едут делать со «Словеком» – соратником по подполью из другого звена, приданным ему для выполнения задания…
Основные обстоятельства выяснились быстро. За буквально полтора или два часа, слухи о нападении на немецкий патруль, о похищении прямо из под носа у немцев, на улице и посреди дня, заключенной или арестованной, которое совершил известный всему предместью, угрюмый и чуть странный, уже давно никому не интересный молочник, сформировались в целостную картину. Провал агента и канала связи – это раз. Счастьем было лишь то, что канал и работа связного были организованы очень умно, и ни сам провал, ни возможный арест совершившего налет на патруль «молочника», не могли причинить значительного вреда и представить опасность для большого числа людей. Тех же, которых событие всё-таки могло раскрыть или затронуть, надлежало немедленно перебросить из Варшавы на какое-то ближайшее время, до подробного выяснения ситуации. Совершена открытая антинемецкая акция, то есть агент позволил себе категорически, строжайше воспрещенный для участников организации поступок, причем никем не санкционированный. Позволил себе совершить подобное спонтанно, никого не уведомив, не понятно, из каких причин и мотивов, на свое собственное усмотрение, что является серьезнейшим, подлежащим строгому наказанию нарушением дисциплины, а кроме того – даже и без положенного наказания, снимает вопрос о возможности какого-либо его задействования в работе подполья. Такому человеку в принципе нельзя доверять. Это – два. В третьих – агент провалил этим поступком свою, тщательно и кропотливо выстроенную, важную работу в подполье, и подверг риску соратников… Да, пусть не столь значительному и не многих, но тем не менее. Дело в принципе. Такому человеку, помимо прочего, конечно же нельзя более доверять – кто знает, какая выходка возможна в следующий раз и чем она окажется чревата. Дисциплина и верность долгу – основа дела, и человек, который, как неожиданно выяснилось, по тем или иным причинам не способен на это, может нанести страшный вред. Таким людям не место в польском подполье, и конкретно – в структурах Армии Крайовой, которая создается как основа для будущей борьбы, как инструмент возвращения Польше независимости и государственности, когда для этого настанет историческая возможность, наконец – как единственный легитимный представитель Правительства в польском подполье, и в ней поэтому должны остаться только те люди, которым возможно безоговорочно доверять. Только те люди, которые способны быть верными дисциплине и долгу, общим установкам и целям общей для всех борьбы, существующим на данный момент приказам. Да где и кому вообще может быть нужна такая шушваль? Коммунистам? Да и им конечно нет, в первую очередь нет! Да, в отношении к методам борьбы с немцами они занимают иную позицию, противоположную той, которую официально спускает через Армию Крайову Польское правительство в Лондоне, и за сам факт нападения «левые» организации его конечно не осудили бы, но дисциплина и субординация! У «левых», которые работают с русскими инструкторами, с дисциплиной еще жестче и строже, кто об этом не знает! Нет, конечно – если есть общая установка на открытую и вооруженную борьбу, на восстание и проведение насильственных акций по отношению к немцам, тогда поступок агента мог бы предстать в ином свете… Тогда есть место для спонтанных акций и решений, исходящих из ориентации по обстановке, «на местности», как говорят. Но в том-то и дело – такой установки нет, подобного приказа никто не отдавал, более того – это строжайше запрещено, и оповещены об этом все. И тем более – в организации, в которой они служат. И еще более – для связного, который выполняет совершенно другую, тонкую и важную для общего дела, тщательно и долго выстраивавшуюся работу, и ему конечно объясняли это, когда инструктировали и готовили. Этот человек, не понятно из каких мотивов, по наитию или по безумию, позволил себе несанкционированную, категорически воспрещенную, подвергающую риску его главное дело акцию, нарушение дисциплины, вопиющее для любой подпольной или просто армейской, следующей долгу и приказам структуры… В армии, он что ли, чертов еврей, не служил? Возможно. Так глубоко в его биографии никто наверняка не копал, нет сейчас в распоряжении таких средств. Да подобное приемлемо быть может только в каком-то стихийном партизанском отряде, и то сомнительно… в разбойничьей банде – наверное. Эдакая шушваль и «хлопам» даже наверняка не нужна, точно. Короче – этому человеку нельзя более доверять: таков был немедленный и очевидный вывод, и слава богу, что с подобным выводом согласились все. Он будет наказан и кончит так, как безусловно заслуживает. Его не должно быть. И не будет, конечно – они-то со «Словеком», в отличие от него, делать дело, быть верными долгу и приказам умеют.
Этот вывод как-то враз вошел тогда в Чеслава, стоило ему лишь уяснить самые первые подробности и факты. Он ведь шел на встречу со связным, имея главное задание – присмотреться и проверить, дать личную оценку надежности того, такая директива была спущена из-за событий с Любомиром. Он помнит, как настраивал себя быть объективным и честным, как вспоминал для этого сложившийся в организации облик связного, всё положительное, что было известно о «молочнике Гжысе», об исполнении тем своих обязанностей. И за считанные мгновения всё перевернулось, стало однозначным и очевидным. Какое к черту доверие! Какая «объективность» и «честность» – что не ясно? Поступок этого человека однозначен по сути и говорит сам за себя, и не важно, какие именно мотивы им двигали!..
Треть часа заняло тогда у Чеслава сообщить о случившемся и необходимости немедленных решений, вне зависимости от подробностей и обстоятельств. Еще час или полтора – выяснить подробности, и до конца вечера он уже составил себе целостную картину, которую и доложил вместе со своими соображениями, четкими и ясными. Общие обстоятельства случившегося были установлены, оставалось только понять, что стояло за ними и событием как таковым, и для этого в тот же вечер состоялось собрание. Речь шла о неожиданном и каком-то совершенно необъяснимом поступке, походившем либо на срыв под влиянием личных, неизвестных причин, либо на предательство, и именно о последнем более всего побуждала думать логика в целом происходивших в подполье событий. Однако – хоть как-то поступок связного и случившееся событие всё же нужно было понять, потому что необходимо было принять решение. Очевидным было, что агент провалился и доверять ему больше нельзя, окончательное же решение требовало обсуждения. Вред от поступка связного, кстати, прямой и немедленный, пусть и не вылившийся в конкретные потери, всё-таки был – немцы опешили от подобной наглости, которой еще практически не было в обстоятельствах жизни под оккупацией, и полиция провела в два последовавших за событием дня облавы. Правда – не слишком большие и окончившиеся слава богу ничем, потому что меры предосторожности были приняты. Состоялось похищение заключенной или арестованной (точные подробности и до сих пор не известны), но как такового вооруженного нападения не было, никто не был ранен или убит, и возможно – немцы просто не разогрелись в этот раз на серьезные акции возмездия. Кроме того – развернувшиеся в еврейском гетто департации отнимали у немецких служб много сил и людских ресурсов, и по всей вероятности, им было просто не до серьезных разборок с неожиданно давшим о себе знать подпольем. Но дело было конечно не в этом. Вред, значительный и серьезный, был заключен в самом факте провала надежного, отработанного канала связи, и поражали обстоятельства случившегося – неожиданность, спонтанность, откровенное нарушение долга и существующих приказов. Опасность, причем колоссальная, была очевидна – в организации обнаружился человек, по непонятным мотивам нарушивший приказы и проваливший работу, которому более нельзя было доверять. Возможны были личные причины поступок, но сути дела и выводов это не меняло. Однако – Чеслав особенно подчеркнул это, когда докладывал – всё же нет оснований исключить возможность тайно осуществлявшихся связным «Мышь» контактов с лево-коммунистическими организациями подполья, подбивавшими его на насильственные акции и поступавшими так в желании повредить деятельности Армии Крайовой и тщательно соблюдаемой ею, предписанной Правительством, политике «выжидания и терпения», поколебать сам авторитет Правительства в изгнании и Армии Крайовой как единственного легитимного представителя такового. Чеслав и вправду, когда пытался понять суть и мотивы произошедшего, думал о подобном как о чем-то, более всего вероятном. Потому что мотивы срыва, совершенного связным и в общем конечно же необъяснимого поступка, были неизвестны, и понять так неожиданно случившееся было трудно. Тем более – когда речь шла о «Мыши»: надежном связном, честно и удовлетворительно делавшем свою работу длительное время, весьма предсказуемом и известном в образе жизни, поведении, характере поступков и т. д. И соответственно – надо было искать объяснение именно в чем-то подобном. Ведь даже из протоколов приема этого человека в СВБ следовало, что им двигало желание активно бороться и потому принимать посильное участие в деятельности подпольной патриотической организации, и в особенности отмечалось, что кандидат выглядит искренним и решительным… Так может и вправду – от жажды борьбы и конкретных, ощутимых действий, неразделенной в рамках работы связного и общем принципе деятельности СВБ и Армии Крайовой, человек потерял голову и контроль над собой? Тем более, что он еврей, и с его соплеменниками последние полтора года всё происходит более, чем жестко. Ведь поляков, начни сейчас немцы обходиться с ними точно так же, как с евреями (репрессии первого года оккупации всё же не были такими беспрецедентно жестокими), тоже было бы трудно удержать и от жажды возмездия и активного сопротивления, и от спонтанных акций. Тем более – что именно в этот день начались масштабные департации из гетто, и участь населяющих гетто евреев вырисовывалась еще более печальной, чем была до сих пор. И подобное каким-то образом тоже могло повлиять на настроения агента и подвигнуть того на неожиданный поступок. Такой момент тоже нельзя не учитывать, и Чеслав подчеркнул это. Возможно так же, что из этих мотивов связной вступил в контакт с коммунистическим подпольем, науськивающим население и патриотов-подпольщиков к вооруженной и насильственной борьбе, видя там возможность более близкой своим устремлениям, но по сути, как понятно, глубоко вредоносной, опровергающей авторитет и приказы Правительства в изгнании деятельности. Так или иначе – речь идет о предательстве, ибо присягал на верность связной именно организации СВБ, представляющей интересы и волю официального правительства, ныне сформировавшей и возглавившей Армию Крайову, и значит – был обязан соблюдать общую политику, приказы и установки организации. Чеслав в особенности настаивал именно на этой версии, поскольку связь с поднявшим голову в начале года коммунистическим и «левым» подпольем, могла быть гораздо более близкой агенту еще и вследствие его еврейской национальности, из-за силы «еврейской улицы» в левом движении даже и до войны, распространенности среди евреев соответствующей, зачастую откровенно коммунистической идеологии и т. д. Да и общая логика происходивших в подполье и жизни под оккупацией событий, побуждала думать и усматривать в произошедшем именно это, даже требовала! Ведь речь шла о неожиданном, трудном для понимания поступке вполне проверенного, надежного, длительно рекомендовавшего себя с лучшей стороны агента, и если чем-то и можно было по настоящему серьезно объяснить случившееся, то именно принципиальными вещами и процессами, хорошо всем известными. Усилением влияния «левого» подполья на население вообще, и на настроения активных патриотов из «национального» лагеря – в частности. Воздействием и эффективностью «левой» агитации, таким опасным разжиганием «левыми» и «коммунистами» стремления людей к открытой вооруженной борьбе. И недооценивать произошедшее, пытаться не видеть в поступке связного принципиальных вещей – безответственно, он подчеркнул это. Чеслав подчеркивал в выступлении так же и всем известное: что «левое» подполье – основной конкурент Армии Крайовой среди населения и мужественно настроенных патриотов, ее конкурент и в общем даже противник как представителя официального правительства. И конечно же – будет продолжать попытки колебать авторитет и позиции организации, перевербовывать ее членов, подталкивать на противоречащие общей политике насильственные акции и т. д. Чеслав призывал поэтому отнестись к случаю со связным с максимальной серьезностью и суровостью, как к очень внятной «ласточке» грядущей борьбы внутри самого подполья с коммунистически и «просоветски» настроенными силами – не менее опасными, чем немецкая оккупация, и представляющими значительную угрозу возрождению независимой польской государственности. О, перешагнувший за сорок офицер-артиллерист и всю зрелую жизнь – убежденный «пилсуцник», Чеслав не жалел в своей речи ни слов, ни пафоса, и опыта ему было не занимать! Он и в самом деле думал так, когда именно профессионально, честно пытался понять суть и причины произошедшего, ибо никакого иного, вменяемого и убедительного объяснения не находил, попросту недоумевал. Да – в отношении к деятельности в самой организации, совершенное является грубым нарушением дисциплины и серьезнейшим проступком. Но вполне возможно, что совершено это было всё-таки вовсе не спонтанно и по наитию, не во власти какого-то непонятного по мотивам, безумного порыва – ибо слишком уж ровным, спокойным и надежным в деле и образе жизни выглядел этот человек, а именно в следовании установкам и дисциплине, даже быть может конкретным приказам совсем иной организации. И Чеславу именно это казалось наиболее вероятным, и тогда – речь безусловно шла о предательстве, причем и самой организации, и спускаемой через нее, единственно приемлемой для настоящих патриотов Польши политики законного правительства. О предательстве, тем более преступном и опасном как прецедент, потому что Армия Крайова – единственный полномочный представитель официального правительства довоенной Польши. Та организация, которая преследует главной целью восстановление демократической и независимой республики довоенного образца, строго следует в ее деятельности законам довоенной республики, словно бы продолжает собой так трагически рухнувшее польское государство. И измена ей, ее установкам, приказам и политике, должна оцениваться как измена самой Польше, функционирующему в изгнании и легитимному правительству, самым жизненно важным национальным и патриотическим интересам! А потому – должна караться со всей возможной строгостью и ответственностью за судьбу общего национального дела, с ясным пониманием угрозы, которую заключает в себе подобный случай! Только Армия Крайова есть единственный представитель правительства, правомочный возглавлять подполье и если не полностью определять, то по крайней мере – контролировать его деятельность. Она же – единственный настоящий выразитель национальных польских интересов! Ведь «просоветская» ориентированность левого подполья, уже сейчас агитирующего за отказ от восточных, довоенных территорий Второй Речи Посполитой, предательски аннексированных русскими, всем известна и принципиально опасна для настоящих национальных интересов, противоречит действительно патриотической, национально ориентированной позиции! Да, в грядущей борьбе с немцами придется сотрудничать со многими организациями подполья – тем более, что они уже по факту созданы, но только Армия Крайова, подчиненная Правительству в изгнании, может возродить довоенное польское государство, хранит и несет саму его идею, движимо ею, и авторитет организации равносилен авторитету законного правительства и должен быть внутри подполья незыблем! И для утверждения и сохранения этого авторитета, во имя самых святых национальных и патриотических интересов, должно совершать наиболее суровые поступки, которые в иных обстоятельствах могли бы показаться чрезмерными! Организация «левого» подполья зимой в четкие, готовые к конкретным акциям боевые структуры, как это было справедливо и правильно понято, воочию показала, что совершенно иные силы – и извне, и из довоенного польской политики, предъявляют претензии и виды на Польшу, на возрождение польского государства и организацию польской жизни, и соответственно – на возглавление борьбы с оккупацией и деятельности подполья, на завоевание через это авторитета у самого широкого населения. Говоря проще – за этим конечно же стоят виды и претензии Советов, русских в их вечной имперской политике! Чеслав видел понимающие кивки и взгляды, когда произносил эти слова. Опасность этого трудно недооценить, и потому – авторитет Армиии Крайовой и ее верховная роль в подполье, жизненно важны и должны быть незыблемы, беспрекословны. Верность приказам и политике Армии Крайовой – это лояльность легитимному и пекущемуся о возрождении и будущем страны правительству, настоящим национальным и патриотическим интересам, а ослушание, совершенное по сговору или личным мотивам и побуждениям – измена и предательство, которые должны сурово караться! Причем измена даже не как таковой организации, а именно нации и ее интересам, законному и представляющему ее интересы правительству! Борьба за авторитет и верховную роль в подполье Армии Крайовой, за соблюдение официальной политики «выжидания» и отказа от насильственного и вооруженного сопротивления, за беспрекословную верность членов организации приказам руководства и Правительства в изгнании – это борьба за будущее и судьбу Польши! За то, чем будет страна, когда два зверя, разорвавшие ее на части три года назад, вдоволь изгрызут друг друга и прольют крови. А значит – в этой святой для каждого поляка борьбе, нельзя знать снисхождения! И потому – случаи, когда речь идет о предательстве, о нарушении установок и политики организации, скорее всего совершаемом либо под влиянием другой организации, либо вообще из-за тайного перехода в нее и двойного сотрудничества, должны оцениваться наиболее реалистично и сурово! И караться соответственно. Иначе – конец дисциплине, конец авторитету Правительства и Армии Крайовой, конец надеждам на возрождение былой Польши, потому что «левые» силы поведут нацию и страну в совершенно другом направлении. И то, что речь идет о редком пока и отдельном случае, ничуть не должно слепить глаза и уводить от трезвой и суровой оценки! Этим он тогда закончил, различив отклик и понимание в глазах присутствующих. Он, собственно, и говорил тогда всё это ради такого понимания, чтобы добиться того и повести мысли и настроения соратников в очень определенное русло. Он верил во всё это, конечно же, почти не сомневался, ибо никакого иного объяснения найти и сформировать из имеющихся сведений было не дано. И в общей, принципиальной оценке поступка связного, сути и причин оного, он был уверен – не ошибался. И потому искренне и вдохновенно, не жалея пафоса – без льющегося через край патриотизма и привычки к речам, простому родом дослужиться до майора артиллерии было почти не возможно, Чеслав убеждал собравшихся в кажущейся ему правильной версии события. Впрочем – до конца не давил и не настаивал. И готов был принять любое решение собрания, даже если бы оно было иным от того, к которому он подталкивал достаточно внятно. Дело было в другом. Глядя в глубину души, Чеслав обнаруживал там страх. И вполне понятный, даже неотвратимый страх. Обстановка в подполье была ему хорошо известна – именно от нее проистекали директивы, с которыми он шел тогда на встречу со связным. Подполье «пилсуцников», которому предстояло сплотиться, готовиться в нужный момент вступить в борьбу с немцами, но прежде – противостоять «левым» и утвердить контроль над всеми организациями, безжалостно и откровенно «чистили», выкашивая любого, казавшегося не до конца лояльным или слишком уж своевольным. Так происходило повсеместно – от Варшавы и Вроцлава до лесных отрядов под Тарнополем или Пинском. И вероятность, что в случившемся событии тень и подозрение падут в первую очередь на него, «зама» таинственно исчезнувшего, а на деле конечно же казненного Любомира, была очень сильна. А это совсем не входило в его планы. Он еще хотел пожить на этой земле и послужить родной стране. И единственным умным решением в такой ситуации было «сгущать краски» и настаивать на самой худшей версии случившегося, играя на общих, серьезно и повсеместно обсуждаемых опасениях. Он пришел к такому выводу, пока шел на собрание, одновременно продумывая и речь. Постановят что-то другое – ради бога, но он высказал самое тревожное и обязывающее к ответственным шагам понимание поступка связного. Будут соратники правы и окажутся мотивы поступка сугубо личными, к борьбе внутри подполья отношения не имеющими – не страшно. Проступок агента всё равно серьезен и навряд ли того допустят к продолжению работы, а то, что он, «звеньевой» Рындко, сгустил краски – так он просто патриот и болеет за дело! «Думать худшее лучше, чем в страшной судьбе родной страны носить на глазах очки слепого!» – так он сказал бы в этом случае, и наверняка был бы понят. Ошибутся же соратники по делу и окажется чертов молочник и вправду предателем, как скорее всего и есть – он был догадлив и предупреждал! Так и эдак, а единственным выходом из серьезнейшей передряги, в которую он попал вместе с доставшимся ему в наследство от Любомира связным, было настаивать именно на самой худшей и принципиальной по сути версии случившегося. В конце концов – не он принимал этого человека в организацию, так почему из-за предательства или безумного поступка того, он сам должен не приведи Господь Иисус пропасть, разделить судьбу его недавнего командира?! Он не желает этому еврею-профессору зла, Господь Иисус видел его чувства и мысли как на ладони! Он наоборот – идя на первую встречу, настраивал себя быть предельно честным, ибо «чистка рядов», развернувшаяся в последние месяцы, в глубине души была ему противна, а не только пугала. Но в том, что «молочник» совершил безумный и неприемлемый поступок, его вины нет, а позволить «под общую метлу» сгрести в яму и себя он не даст! И это побуждало его почти до конца верить в свою версию произошедшего, со всей проникновенностью, на которую был способен, стараться убедить в ней собравшихся, но до последней черты очень умно не доходить. Его версия событий к тому же подтверждалась и тем фактом, что царило совершенное молчание. Существует процедура связи на случай провала. А «молочник» пропал, на связь не вышел. Судьба денег, которые он должен был передать на встрече – неизвестна. И это конечно утверждало в самых худших предположениях, и лично он, Чеслав Рындко, «Круль», едущий со «Словеком» для того, чтобы осуществить принятое решение, практически не сомневался в выводах касательно произошедшего. Он боялся другого – что примут недостаточно суровое решение, отнесясь и к хорошей работе этого Гжыся и к известному вышестоящим членам организации прошлому того… Оттого-то он даже не столько «сгущал краски» в докладе, сколько пытался заострить внимание на наиболее принципиальном и опасном, что скорее всего было причиной произошедшего. И будучи почти полностью уверенным, что это действительно так, просто стремился убедить тех, от кого зависело окончательное решение. Отдельно, конечно же, намекнул и на факт вербовки «Мыши», связного-«молочника», Любомиром, пересилил себя и задушил протест в душе – Любомиру и имени того уже не поможешь, а разделить судьбу недавнего командира, только приступив к руководству «звеном» и сразу же попав в серьезнейшую переделку, он не намерен. И если надо для этого еще раз окунуть лицо где-то тайно закопанного покойника в грязь – что же! До события с «молочником» он верил в честность Любомира и несправедливость устранения того почти безоговорочно, потому так и бесила его в душе, заливала гневом развернувшаяся «чистка рядов» с ее совершенно безумной и в большинстве случаев слепой подозрительностью, неразборчивостью и прочим. А теперь, будучи почти «на все сто» уверенным в виновности связного-«молочника» в предательстве – мнение его крепло с каждой следующей мыслью о событии и от слова к слову в распаляющейся и начинающей звенеть пафосом речи – честность Любомира и несправедливость ликвидации того, уже порождали в нем немалые сомнения. Ведь если молочник предал, нарушил приказ и намеренно совершил открытую антинемецкую акцию, перебежав к коммунистам или просто попав под их влияние, то вербовка его Любомиром и сама фигура исчезнувшего командира звена предстают уже в совсем другом свете, и наверное в высших кругах организации решение о чьем-то устранении принимается всё-таки не «с кандалыка», не просто так! И всё это еще более уверяло его в предательстве чертового еврея-связного, наворотившего своим поступком кучу неприятностей для дела и него лично, в правоте его версии события. И он старался, сколько возможно и не доходя откровенно до последней черты, убедить в ней собравшихся, а зудящий в глубине души страх, что судьба Любомира для него более чем вероятна в сложившейся ситуации, придавал ему одновременно и вдохновения, и осторожного чувства меры. Он говорил собравшимся соратникам то, что почти все более-менее значимые члены организации знали и обсуждали между собой при любой выпавшей возможности, о чем почти каждый говорили радио и печатные листки «республиканского» подполья. Он делал это, рассчитывая зацепить их, найти в их сердцах отклик и побудить их к правильному, столь нужному для его собственной безопасности решению, по крайней мере – чтобы убедить их, что он организации и ее идеалам верен и старается относится к делу, и ко всему происходящему в деле с максимальной серьезностью и ответственностью. Ему нужно было в сложившихся обстоятельствах прежде всего выжить и удержаться на только что полученной должности звеньевого. Суровым решением собрания в отношении к оступившемуся агенту – хорошо, правильным поведением и продуманно произведенным впечатлением – еще лучше. Где-то в самой глубине души, на краю ума – насколько он вообще был способен говорить себе правду об обуревающих его чувствах и побуждениях, Чеслав понимал, что хочет именно самого сурового, вполне предсказуемого и заранее представленного им решения. Ведь попытаться хоть намеком выступить на собрании в защиту или оправдание связного, означало поставит себя даже в гораздо большую опасность, быть может – оттого он и выбрал «сгущать краски» и настаивать на суровости решения и приговора, на самой худшей оценке случившегося события, немало постаравшись убедить себя, что его версия верна и объективна, а не только продиктована страхом за собственную шкуру и вынужденностью умно и умело лавировать. И он в момент речи верил в нее, искренне и почти полностью был убежден в ее правильности, ему даже не надо было особенно стараться для этого, потому что и само случившееся событие, и любое логичное размышление о том опытного профессионала, неотвратимо приводили к ней. Ведь и сам поступок странен, не укладывается ни в какие рамки и представления, и сбрасывать со счетов общие процессы и события в подполье последних месяцев тоже конечно нельзя, попросту безответственно! Но капли сомнений всё же оставались и где-то в самой глубине души свербили. И потому, Чеслав в той же глубине души и последним краем ума понимал, что суровое решение соратников по подполью нужно ему, чтобы сомнения отпали и он сам обрел окончательную уверенность. Он что же – будет продолжать сомневаться, когда старшие и авторитетные члены организации разделят его точку зрения, проверят ее собственными доводами и средствами и превратят ее в решение, в приговор? Да помилуйте! И Чеслав не жалел пафоса и проникновенности, не утомлялся брать время, чтобы вновь и вновь возвращаться к вполне трезвым доводам. Еще раз, не побоявшись затянуть, напомнил о том, зачем была создана Армия Крайова, какую опасность для национальных интересов и возрождения довоенной Польши представляют «левые» организации подполья и их усиление. Что позиция руководства однозначна: Армия Крайова есть единственный представитель воли и политики законного правительства, деятельность иных организаций – не легитимна, особенно – если не подчиняется приказам Армии Крайовой и претендует на самостоятельность. Что переход членов Армии Крайовой в другие организации, в особенности – в «коммунистические» и «левые», деятельность которых противоречит национальным интересам и воле законного правительства, считается предательством и должен караться соответственно. Что речь в таких случаях идет о предательстве не просто самой организации, а законного правительства, национальных интересов и борьбы за возрождение независимой довоенной страны. Что подобные случаи принципиально опасны как прецедент, и именно это надо со всей трезвостью видеть в поступке связного «Мыши». Что недопущение и пресечение подобного есть жизненно важная задача, и в ее решении нельзя считаться со средствами. Что борьба с «левым» подпольем не менее важна, чем будущая борьба с немцами, есть борьба за само будущее Польши, за ее возрождение в довоенном формате. Он «звеньевой», в подотчетном ему подразделении случилось чрезвычайное событие, он имел поэтому право первого слова и подробного доклада, и использовал это право по максимуму. В общем – сделал всё, доступное ему, чтобы честно и грамотно подать событие в «звене», которым руководит, и побудить при этом к правильному с его точки зрения решению. И слава богу, он не ошибся – ни в своих расчетах, ни в понимании случившегося! Он конечно же выстроил правильную версию и коллеги просто разделили ее, не надо было даже прилагать особых душевных усилий чтобы их убедить – ни как иначе понять и оценить случившееся было нельзя. А сомнения были просто его «чистоплюйством» как и вправду порядочного и верного делу человека, начавшего службу еще при «великом маршале» офицера, для которого слова «справедливость» и «честь» что-то значат! Решение принимали несколько дней. Возможно – ждали связи от исчезнувшего агента, учитывая прошлое и необычную фигуру того, старались максимально соблюсти справедливость и процедуру. Хотя навряд ли это смогло бы чем-то помочь и в чем-нибудь переубедить – уж слишком серьезен проступок и слишком откровенная опасность таится в нем как прецеденте, да и невозможность больше доверять этому человеку очевидна. А может – просто аккуратно проверяли, что связной не схвачен немцами и не погиб, по крайней мере – что об этом нет доступных сведений. Так или иначе, решение принято, правильное и однозначное – казнить предателя, ликвидировать члена организации, посмевшего нарушить приказ и дисциплину, не подчиниться строгим и совершенно ясным, общим для всех установкам. И преподнести это умело и умно – и с «намеком», в назидание другим, и не выставляя откровенно и напоказ развернувшуюся внутри самого подполья борьбу: как казнь немцами польского подпольщика. Для этого они и трясутся со «Словеком» на поезде в Радом. В Радоме будут в обед, в сельце Конске – ближе к вечеру. Посветлу такие вещи не делаются. Потом – круг по западному направлению, обратно в Варшаву. Он там, конечно же там, где ему еще быть! Он, Чеслав, с самого начала подумал это, хорошо помня дело «молочника». И когда на него возложили осуществление вынесенного приговора, то сразу же, но аккуратно, чтобы не спугнуть, через десятые руки проверил – там. Да куда ему, со всей его историей до подполья и во время того, было еще сейчас бежать? Казнь они должны провернуть вдвоем – порядок требует свидетелей и коллективной ответственности. Кроме того – нужно всё-таки выяснить для отчета, что же там конкретно произошло, и потому тоже нужен свидетель. Да, вонючий еврей и предатель навряд ли расскажет правду, но всё равно – для точной и цельной картины нужно узнать напоследок и его версию, этого требуют устав и процедура, и еще – нужно забрать у него обратно деньги. Конечно же. А вот тут нужен подход. Да и в целом, для осуществления задуманной акции нужен умный и грамотно найденный по ситуации подход. Общий принцип, кажется, должен быть таков – не вызвать подозрений, представить встречу как дружественную попытку соратников по подполью разобраться в произошедшем, вообще тревогу за важного агента (он и вправду, нельзя не сказать, делал свою работу хорошо) – куда исчез, почему, что случилось? Почему, как положено, не вышел на связь и не обратился за помощью? Представить всё как дружеский разговор, результаты которого должны быть донесены до самого верха. Но не как отчет об осуществленной казни, конечно – усмехается Чеслав, а для выработки решения, как же задействовать пана Гжыся, агента «Мышь», дальше и правильно поберечь его после совершенного им необдуманного, но такого понятного сердцу каждого патриота поступка, в условиях необходимости для него теперь покинуть Варшаву. Он, Чеслав, в себе-то уверен, в нужный момент он сможет и притвориться, и надеть на лицо самую искреннюю доброжелательность, и построить правильно разговор, и то, что Гжысь не знает его в лицо, увидит его в первый и последний раз, только на руку целям. Он не уверен в этом «Словеке». Вроде б не сопляк и есть, как сообщили, какой-то опыт в подполье, а посмотрите на его лицо!.. Все два часа пути очевидно думает только о деле, ибо участвует в ликвидации в первый раз, и посмотрите – глаза округлены, желваки на скулах через каждую минуту играют, а общее выражение на лице – ненависть, предельное напряжение и готовность убивать. Так дело не пойдет. Он может в решающий момент выдать истинные цели их прибытия к «пану Гжысю» и черт знает как усложнить дело, вообще всё испортить… Чеслав уже несколько раз выходил с тем в тамбур и объяснял ему необходимость вести себя умно и выдержано – и пока ничего не помогает. Даст бог, хоть во время начавшегося разговора и дела он возьмет себя в руки и поведет себя правильно, умно, как должно по ситуации – ведь не в бирюльки же играть вызвался. Чеслав еще вот о чем думает… его поразил сам поступок… Да-да – поразил, где-то даже с оттенком уважения. Ведь этот «Гжысь» в прошлом – не офицер и не профессиональный подпольщик, а университетский профессор, интеллигентишка и червяк, если копнуть… и делая то, что делал, он ведь не мог не понимать сути и ответственности, которую придется нести. А посмотрите – что сделал и как! Какая дерзость, смелость, решительность! Какая способность моментально, на месте ориентироваться в ситуации и имеющихся в ней возможностях! Да на такое решительности не хватило бы даже у него, Чеслава Рындко, кадрового офицера Войска Польского, встретившего свой последний бой в Бресте, 16 сентября 1939 года! А этот – сделал, провернул, и на волне решительности всё вышло. Сделал то, на что верное правительству подполье до сих пор не осмеливается. Правильно не осмеливается, конечно. В том, чтобы саблей махать да с кулаками бросаться, настоящего патриотизма нет, этого-то все хотят в большей или меньшей степени! Патриотизм в выдержке, мудрости и умении исполнять приказ, отставлять в сторону многое во имя главной цели, которую надо хорошо видеть и сознавать! Да, страшное приходится на своих глазах из-за этого терпеть, и очень важным пренебрегать. Он, Чеслав Рындко, офицер-артиллерист, не любит евреев, к примеру, и даже сильно. Однако и он содрогается, когда видит, что делают с евреями немцы… что, если уж говорить по всей совести, вынуждены позволять делать немцам поляки и патриоты-подпольщики, верные приказам и официальной политике, главным целям. Во имя будущего Польши, которое требует терпения и мудрости, умения ждать и выживать, мириться и с тем, быть может, с чем сердце соглашаться вовсе не хочет. И понимает конечно, что если бы тоже самое делали сейчас с поляками, а не польскими евреями, то всё было бы иначе – били бы во все колокола, отдавались бы совершенно иные, быть может более близкие и любые сердцу приказы. Да, это так. Это правда. Но до тех пор, пока можно сохранять терпение и выдержку – это надо делать, таков всем известный и беспрекословный приказ. И приказы на сегодня таковы, каковы есть, и им нужно следовать. И тот, кто не желает этого делать, по тем или иным причинам, должен быть на науку остальным наказан. И будет наказан. Только нужно всё очень осторожно и продуманно провернуть – то, что сделал и на что решился этот бывший профессор и «молочник», лишний раз внушает тревогу: поди знай, на какой выверт он внезапно окажется способен, если почувствует опасность и назначенный ему конец! Ничего, ничего. Он, Чеслав Рындко, не даром профессиональный и опытный военный, да и этот «Словек», приданный ему в спутники, тоже всё-таки не пальцем делан и крепкий парень, хоть и держать себя в руках не умеет. Ничего. Они тогда не встретились, да… Что же – сегодня у них будет такая возможность. Взгляд Чеслава Рындко, «звеньевого» из Армии Крайовой, начинает при этих мыслях блестеть сталью и ненавистью, а выражение его лица на пару мгновений уподобляет его сидящему рядом, очевидно думающему о предстоящем и внутренне готовящемуся «Словеку». Да – если в произошедшем с Любомиром его еще мучили какие-то сомнения, то этот приказ он исполнит с удовольствием и без малейших колебаний! Ведь этот человек повел себя со всех возможных точек зрения недопустимо для подпольщика, и должен быть сурово, по справедливости наказан! Доверять ему нельзя и быть его не должно. Даже если бы организация и приняла решение о вступлении в вооруженное сопротивление, то во-первых – такие акции должны быть строго санкционированными и спланированными, а во-вторых – конкретно он ни при каких обстоятельствах не имел права раскрывать и обнаруживать себя, фактически провалиться, совершив подобный поступок! Он связной, его работа и «легенда» долго и кропотливо выстраивались, обладали исключительной важностью для общего дела! Он ни в коем случае, чтобы не происходило перед его глазами, не имел права совершать подобного и раскрывать себя, а поступив так, предал и нарушил долг! Такому человеку нельзя более доверять, и потому его не должно быть. Это понятно, и точка. И совершенно не важно, по каким причинам он поступил так – из-за личных мотивов, не ясных и не понятных (что – вдруг захотелось погеройствовать?), или из-за призывов коммунистов к борьбе, воодушевивших и наложившихся на собственную «жажду действия». А «пан молочник», помимо прочего, еще и нарушил строгий, общий для всех членов организации приказ, выражающий волю и прямую политику законного правительства, и изменил этим долгу настоящего патриота, будущему нации и ее истинным интересам! И если он совершил это, поддавшись влиянию и агитации «левого» подполья, в особенности близкого ему как еврею, то тем более велика его вина, и тем суровей он должен быть наказан, потому что прецедент таит в себе огромную опасность. «Леваки» и коммунисты призывают к вооруженной борьбе и делают это недаром – их призывы отзываются в умах и сердцах людей, факт. Однако, делают-то они это вовсе не в интересах Польши, а наоборот – вопреки таковым! За всем этим стоит конечно игра Советов, которые планируют не допустить возрождения довоенной Польши, и потому стремятся ослабить проправительственные силы и организации, вовлечь их и население в целом в кровавую мясорубку, в масштабное вооруженное противостояние, совершенно не нужное сейчас и не своевременное, способное лишь нанести вред. Советы стремятся к очевидному – укрепить влияние собственного, выгодного их политике лагеря: отсюда призывы к борьбе, игры на настроениях людей, попытки завоевать этим сердца и умы! А настоящая цель для патриотов состоит сейчас совсем в ином – терпеливо копить силы и готовиться выступить в тот момент, который наиболее подойдет для восстановления независимости, будет сочтен таковым законным правительством. И дисциплина патриотов, их беспрекословное следование политике и приказам законного правительства сейчас главное, с этим связана сама надежда, и спускать нарушение дисциплины нельзя! Борьба Армии Крайовой за авторитет, контроль над подпольем и соблюдение провозглашенной Правительством политики – это борьба за само будущее Польши, всё так. Возрождение довоенной и независимой Польши зависит только от этого, и усиление влияния «левых» во всех смыслах чревато крахом надежды и самой идеи. Армия Крайова олицетворяет идею довоенной Польши, борьбу за ее возрождение, волю законного и унаследовавшего ее правительства, и так должно быть, от этого зависит всё. Борьба «левого» подполья за усиление и авторитет, за разворачивание вооруженного противостояния и ключевую роль в нем – это затеянная Советами игра на ослабление проправительственных, республиканских сил, игра с очевидной и длительной перспективой: вершить судьбу и жизнь Польши, не допустить ее возрождения и независимости. И если люди вообще, и подпольщики из «национального» лагеря – в частности, начнут массово поддаваться «левой» агитации, нарушать дисциплину и жесткий приказ, провозглашенную законным правительством политику, или еще чего доброго – станут перебегать и идти к «левым», обольщенные идеей «немедленной вооруженной борьбы», не сознавая всей ее опасности и ложности, необходимости сохранять выдержку… О, вот тогда грозит настоящий крах, который только сыграет на руку врагам Польши! Этого Советы и хотят, конечно, кто не понимает! И поскольку в случае с «паном молочником» ничего иного, увы, представить и подумать нельзя, то наказание того тем более важно, и полученный им и «Словеком» приказ всецело справедлив и должен быть исполнен как следует! Армия Крайова должна сохранять свой авторитет незыблемым, ибо в ней – надежда на возрождение Польши, оплот борьбы за это и самой идеи, и карать за предательство и нарушение приказа обязана сурово! Ведь все понимают, для чего и почему была создана Армия Крайова, почему так спешно и мощно разрозненное, состоящее из множества организаций «республиканское», верное правительству подполье, было преобразовано в огромную военизированную организацию с жесткой структурой, готовую к действиям, о масштабах и возможностях которой дано догадаться даже обычному «звеньевому». Сохранить влияние на ситуацию в стране законного правительства и близких, лояльных ему сил. Сохранить власть правительства там, где осталось еще хоть какое-то место для польской власти. Сохранить контроль правительства и «национальных» сил над жизнью, деятельностью и борьбой подполья, над происходящими в подполье процессами, вообще – над самой жизнью страны в условиях оккупации. Не допустить укрепления «левых», с воцарением которых возрождение довоенной независимой Польши станет невозможным. И именно потому, в первую очередь, так поспешили создать Армию Крайову, что «левое» подполье внезапно сорганизовалось – понятно, с каким заделом, под чьей опекой и кем вдохновленное! Дело ведь не только в том, что нацистский зверь впервые надорвался под Сталинградом, забрезжила надежда и стало необходимым конкретно думать о том, как бороться за возрождение независимой Польши. Дело прежде всего в том, что на сцене появились другие игроки, движимые внешними силами и далекими от национальных интересами, стремящиеся повести страну в совершенно ином направлении. Ведь борьба Армии Крайовой с «левым» подпольем и за верховную власть – это борьба за возрождение и независимость Польши, за ее судьбу. Вопрос прост – Польша будет тем, чем была до войны, пока два зверя не разорвали ее, либо же тем, что выгодно и удобно Советам, которые, кажется, рано или поздно сумеют сломать нацистам хребет и в любом случае – через «левое» подполье откровенно претендуют решать, какой быть Польше. Даже он, простой «звеньевой», это понимает… да им собственно и разъясняют это. И главное – сохранить политику «выжидания», мудрого и осторожного терпения, не дать вовлечь широкие слои населения и патриотов в напрасную вооруженную борьбу, из-за несвоевременности обреченную на неудачу и грозящую погубить все самые трепетные надежды, цели и возможности! И во имя этой политики, во имя главных целей – что делать, будущее и независимость нации важнее! – приходится допускать совершение страшных, если призадуматься, вещей, пренебрегать простым моральным долгом и ответственностью по отношению к реалиям. И уж если на собственных глазах – во имя главных целей национальной борьбы, ради терпения, выдержки и сохранения сил – допускают сотнями тысяч вывозить евреев в концлагеря и там уничтожать, и даже не отдают приказ взрывать железнодорожные пути, то казнить одного еврея-предателя, провалившего работу, нарушившего приказ и долг, сам бог велел…
Войцех спокойно курит трубку и наслаждается прохладным, медленно наступающим вечером, когда слышит легкий стук в ворота. Кого могло принести в такое время – непонятно, но идет открывать он совершенно спокойно. Он вообще – после всех случившихся событий – чувствует себя как-то очень уверенно и спокойно… начал полагаться на себя, стал убежден в своей способности сориентироваться в ситуации и почти любую ситуацию разрешить. В иные времена, посмотрев на себя со стороны с привычной и критической иронией, он сказал бы себе что-то вроде «э, брат, да тебя понесло, задрал ты нос и стал слишком уж самоуверен!» И наверное – чуть осадил бы себя и вспомнил про осторожность. Он ведь потому и сумел почти полтора года отработать связным в центре Варшавы и не то что не провалиться, а даже подозрения не вызвать – был продуманно и предельно осторожен, тщательно соблюдал правила и предписанные процедуры. Как учили. Но ныне – он чувствовал себя почти героем. Ведь в глубине души он всю зрелую жизнь, чего уж таить правду, чувствовал некоторую «ущербность» что ли своего белого университетского воротничка – мол, в лицо смерти-то не глядел и ружья с привинченным штыком в руках не держал, и разве же мужчина, гражданин, борец? А уж после того вечера в университетском дворе… да что и говорить… Но спасение Магдалены, его неожиданное для самого себя удальство на Минской, да еще такое успешное по результатам, несмотря на все тревоги и более чем непростые обстоятельства, вселили в него уверенность и спокойствие. Значительную долю тех, по крайней мере. Он теперь не только чувствовал себя в ситуации решительно и твердо, а еще и словно сумел закрыть большую часть того счета с собой. Заглушил, а может даже и искупил перед собой чувство вины за целиком овладевший им, почти обезумевший его тогда страх. Он полтора года успешно и опасно работал связным, каждый день рисковал жизнью. Но только сумев неожиданным поступком спасти Магду, вырвать ее из лап немцев, он впервые почувствовал, что хоть немного простил себя. И еще – впервые по настоящему ощутил себя на равных с соратниками по подполью, большей частью кадровыми военными, перед которыми из описанных причин всё время в глубине души тушевался. И стал необычайно спокойным и уверенным в себе, словно до смешного, вопреки кошмару и зыбкости сложившихся для него с Магдаленой обстоятельств, почувствовал себя хозяином тех. Есть мгновение, оно надежно и удалось выжить – и слава богу. А дальше посмотрим. Он сумеет разобраться, чтобы ни было. И потому, услышав стук, он снимает тяжелое, служащее запором бревно обстоятельно, неторопливо, не испытывая даже тени тревоги и продолжая пыхтеть зажатой в зубах трубкой – с какой стати портить долгожданное, настраивающее душу на добрый лад удовольствие? Да и чего ему, похожему на медведя громиле, не полагаться на себя, и кого бояться в сельце Конске, будучи в доме у своего друга Божика чуть ли не на правах хозяина? Уже давно у них повелось, что ему, как самому хозяину, разрешено открывать ворота гостям. В проеме ворот взгляду Войцеха предстают два совершенно незнакомых, одетых по городскому человека… оба среднего роста, у одного вид весьма неприветлив. Всё сразу должно было бы вызвать в нем догадку, однако летний вечер уж слишком спокоен и хорош, не предвещает ничего тревожного, и этого не происходит. Он думает поначалу, что перед ним два заблудившихся или не успевших посветлу уехать человека, откуда-нибудь из Радома, а может даже из Люблина, которые ищут совета, вероятнее же всего – ночлег. Он уже собирается сказать, что хозяин дома на ночлег не берет, как вдруг слышит:
– А правда ли, что я видел пана однажды в Познани, но только торговал он тогда не молоком, а галантереей?
Эти слова заставляют Войцеха на секунду опешить, задержать дыхание и даже немножко испугаться. Это пароль, используемый только для установления срочной или специальной связи. С таким паролем к нему имели право обратиться только старшие в структуре организации члены, к примеру – если бы кто-то стал его новым непосредственным начальником вместо Любомира, то «распознать» того он должен был бы именно так. Он пытается вглядеться сквозь сумрак в лица обоих и ни одного, ни другого не знает. Очевидно только одно – они из организации, он наконец-то дождался гостей из Варшавы. Он конечно рассчитывал увидеть Любомира, но мало ли… В любом случае – слава богу, наконец-то эта тягостная, повисшая в воздухе ситуация разрешится и он сможет объясниться, расставить всё на свои места. Отвечает автоматически – «да, я три года жил в Познани, пока не стало совсем не вмоготу», впускает обоих во двор. Тот, который видом полюбезнее и поприветливей, представляется как «Круль», второго называет «Словеком». «Круль» – старший, он теперь вместо Любомира. А почему нет Любомира? Того повысили, он теперь занимается другими делами. Они со «Словеком» прибыли к пану Гжысю выяснить, что же тогда случилось на Минской, почему не состоялась встреча, на которую «Круль» пришел вовремя? Где был пан Гжысь, что случилось? Почему пана Гжыся не было в тот вечер дома, почему он вынужден был уехать из Варшавы? В организации волнуются, ведь пан Гжысь – важный связной, и очень важна его работа! Чеслав специально делает вид, что ему неизвестны подробности, рассчитывает услышать рассказ так сказать с «чистого листа», дает этому человеку волю лгать и рассказывать, что вздумается, и удивлен, что «молочник» вправду принимает это за чистую монету да и вообще – ведет себя несколько не так, как предполагалось, кажется чуть ли не рад, невзирая на первый испуг, их появлению. «Да» – говорит – «слава богу, что вы наконец-то приехали. Почему так долго? Что, трудно было понять, что я здесь, что мне больше некуда было ехать? Да, я знаю, я должен был выйти на связь. У меня не было возможности. Я не мог отлучаться отсюда надолго, так сложились обстоятельства… ну, вы сейчас поймете… Пойдемте в дом, сейчас в любом случае будет ужин, сядем и заодно всё обсудим». Чеслав аккуратно пускается в возражения. Пан Гжысь понимает, что им надо поговорить о серьезных вещах и у их разговора поэтому не должно быть лишних ушей, процедура это исключает. В доме разве никого нет? «Конечно есть, Божик, семья, Магдалена. Да кого я должен стесняться – Божика? Так он с самого начала знал о моем вхождении в подполье, сам же меня через пана Матейко и сосватал. Вы же должны знать эти подробности, если и вправду теперь вместо Любомира. Дело-то мое конечно читали?» «Да, естественно. А пан Божик, простите, знает о том, что произошло в Варшаве, про что вы должны рассказать нам? Вы с ним делились?» Этот вопрос человек, назвавшийся «Крулем» задает с короткой, но заметной сталью и остротой во взгляде и Войцех, по наивности души уже готовый признаться, внезапно осторожно сдает назад. Поди знай, чем осведомленность в событиях может обернутся потом для Божика. «Конечно нет, ни в коем случае. Я же знаком с правилами. Божик знает просто, что я отпущен в отпуск на несколько недель, чтобы позаботиться о чудом спасенной из под гестаповского ареста Магдалене, никакие подробности произошедшего ему не известны».
– Очень хорошо, пан Гжысь, мы и рассчитывали на вашу опытность! А Магдалена – это кто, простите?
– Магдалена – это женщина, которую я тогда вырвал у немцев из рук на Минской вместо того, чтобы прийти на встречу с Любомиром… ну, то есть с вами, выходит… Да пойдемте, я всё равно должен познакомить вас, чтобы объяснить суть произошедшего, иначе не будет понятно.
– Нет, пан Гжысь, не стоит… давайте поступим так. Вы пригласите вашу Магдалену сюда, во двор, и мы в приятной темноте и свежести, без лишних ушей поговорим, а хозяину, пану Штыблеру, пожалуйста, не говорите, кто приехал и почему, просто скажите, что хотите посидеть с Магдаленой во дворе.
Войцех смотрит быстро и пристально на этого «Круля»… да нет, Божику он конечно скажет, что к чему, просто попросит не подавать вида, и деньги у того сразу возьмет. А вот пану «Крулю» сообщать подробностей не надо.
– Да, пусть будет так, только вам придется с товарищем подождать. Магдалена не очень хорошо себя чувствует… ну, вы поймете… И мне, к тому же, надо вынуть деньги и отчет, которые я тогда так и не смог передать.
Они соглашаются, и пока «молочник» уходит за этой Магдаленой и деньгами, Чеслав начинает быстро и четко думать, выстраивать в голове все впечатления. Он поражен, почти всем. Перед ним – вовсе не «предатель», не сбежавший и укравший агент, это мягко говоря. Ведет себя «пан Гжысь» спокойно, уверенно. Даже тени страха, подозрительности или ощеренности загнанного зверя, вполне ожидаемых в подобной ситуации, различить нельзя. Ничуть не смущен из-за произошедшего события и возникших осложнений в работе и отношениях с организацией. Особенно не испуган и не ошарашен и самим их появлением. Такое ощущение, что чувствует свою полную правоту во всем случившемся и ждал их прибытия, чтобы всё разъяснить. Однако, каков безумец, если на самом деле не понимает, что сделал и насколько виноват! И деньги, смотри-ка, сохранил и собирается подотчетно передать! Хочет «честненьким» предстать, видимо надеется выйти из передряги сухим! Мол, никого не предавал, долгу не изменял, просто убеждения зовут меня теперь к другим. Это – если собирается сказать правду, конечно. А может – сейчас начнет лгать и изворачиваться, вываливать что-то заранее и тщательно придуманное. Что же – для того они и прибыли сюда, чтобы перед тем, как исполнить приговор, всё тщательно запомнить и после передать, в отчете и лично. Так требует порядок. Однако – что же всё-таки там произошло на самом деле?! Даже интересно! И кто такая эта Магдалена?.. Надо сохранять маску полного неведения, воспринимать всё, что будет рассказываться так, словно слышишь это впервые и безоговорочно веришь каждому слову. И пока «пан молочник» ходит, Чеслав быстро перешептывается обо всем этом со «Словеком». И еще раз, черт раздери, просит того не сидеть с лицом маньяка, внимательно слушать и вникать, быть готовым улавливать и суть истории, и знаки, которые он быть может сочтет нужным подать! Тому ведь, черт раздери, точно так же предстоит потом отчитываться перед подпольем, так что быть внимательным, сосредоточенным на подробностях, а не на переживании предстоящей казни, в его же собственных интересах! Что за дилетанта придали для выполнения задания! Слово «дилетант» обижает и производит впечатление, и на лице «Словека» воцаряется некое подобие спокойствия и выдержанного внимания. Во дворе раздается шум шагов, Чеслав вглядывается в уже почти наступивший мрак и то, что он видит, заставляет его по настоящему опешить… Он кадровый военный, бывал в серьезных боях, видел раны. Слыхал и про гестаповские пытки. И когда ему удается более пристально разглядеть в свете керосинки лицо женщины, пришедшей вслед за «молочником», он почти без сомнений говорит себе – «она бывала в подвалах». Тут скорее всего нельзя ошибиться. Но что это черт раздери всё значит? Кто она, да что там произошло?!
«Молочник» представляет женщину – «Знакомьтесь, пани Магдалена Збигневска, пианистка, моя аспирантка и любимая женщина, чудо из моей прошлой жизни… неожиданно обретенное вновь – тогда, на Минской… Не обижайтесь – как „Гжыся“ она никогда не знала меня и хоть Божик зовет меня Гжысь, привыкнуть не может, и потому в разговоре будет звать меня настоящим именем. Оно ведь вам известно, „Круль“, и процедуры это не нарушит?» Чеслав подтверждает, оторопело смотрит на женщину, и с таким же ощущением и выражением лица выслушивает всё дальнейшее. Рассказывают они оба, он и она, каждый – общую и свою историю, и по ходу Чеслав понимает, что иначе и не получится, ибо всё связано. Рассказывают долго, и в течение всего времени Чеслав Рындко, «звеньевой» из Армии Крайовой, прибывший казнить предателя, оторопело вбирает и впитывает каждое слово, мельчайшую подробность, и лишь успевает бросить пару взглядов на «Словека», убедившись, что тот точно так же полностью поглощен рассказом и забыл обо всем остальном, что так мучило его всю дорогу. Эта женщина, Магдалена, и подлежащий казни связной, рассказывают из самого далека. Он слышит историю их встречи и любви, да иначе и непонятно. Она рассказывает о том, что произошло с ней в Кракове, в декабре и ноябре 39 года, что в конце концов закончилось пытками в подвале на Поморской. Чеслав подмечает, что ни на секунду, даже на йоту не сомневается в правде того, что она рассказывает и кроме этого – по тому, как слушает ее «молочник» понимает, что она тогда многое скрывала от него, наверное, не желая его тревожить. И главное – что подробностей самого страшного, произошедшего с ней, он до этой минуты не знал, выражение муки, смятения и ужаса на его лице обмануть попросту не может. Перед Чеславом разворачивается история жизни и судьбы двух людей, совершенно правдивая, у него нет в этом в момент рассказа никаких сомнений. Опущенными в рассказе остаются по его просьбе только подробности жизни будущего молочника Гжыся после бегства из Кракова – они ему более-менее известны. Оба рассказывают их истории, все случившиеся события с совершенным доверием и спокойствием, словно уверенные в своей правоте и в том, что должны найти понимание и у них со «Словеком». И бросая взгляды на «Словека», Чеслав убеждается, что это вполне возможно. Он и сам в конечном итоге полностью проникается рассказываемым и начинает чувствовать в какой-то момент, что почти целиком становится на сторону этих людей и всего случившегося с ними, особенно – с ней. К ней он вообще начинает испытывать сочувствие чуть ли не до слез и боли в душе, и понимает, что история этой несчастной женщины настолько страшна и правдива, что иначе и быть не может. Да откровенно говоря – он пристально вглядывается во всё время разговора в «молочника» и понимает, что тот ни в чем в общем-то не врет и не обманывает… по крайней мере – он ни разу не уловил никакой тени лжи или измышлений. Из-за всего этого, уже ближе к концу разговора, Чеславом Рындко овладевает такое внутреннее смятение, что ему становится душно, всё в его душе и мыслях спутывается, он чувствует необходимость вскочить, прервать беседу и отойти в сторону, чтобы привести в порядок мысли, и боится, что потеряет контроль над собой, действительно так и сделает и провалит этим всю игру. В особенности добивает его рассказ о последнем и самом важном – о произошедшем посреди дня на Минской. Рассказывают оба, каждый рисует произошедшее со своей стороны, дополняет слова другого, и Чеслав безоговорочно верит тому, что слышит, и понимает, что всё это целиком и полностью скорее всего правда, в любом случае – соответствует тем сведениям, которые он сумел собрать тогда, поговорив с прохожими, посидев в паре ресторанов и зайдя в несколько магазинов на Минской и Гоцлавской. Наконец – тому, что он видел собственными глазами, ибо безумно стегающий клячу и что-то орущий ей «молочник» -связной, точно останется в его памяти до конца дней. А ее он не видел тогда тоже по понятной причине: она же, бедняжка, еще плохо понимающая, что происходит, старалась изо всех сил прижиматься ко дну телеги – чтобы не вылететь и потому, конечно, что похитивший ее из под носа у немцев «молочник» крикнул ей это… В какой-то момент Чеслав приходит в настоящий ужас… Ему становится понятно, что рассказываемое ему от первого до последнего слова скорее всего правда. Что перед ним – страшная, трагическая история жизни, которых много нынче, удивительная история любви, и впрямь кажущаяся чудесной, но от первого до последнего слова правдивая. Что ничего из той чепухи, которую он себе придумал и нагородил тогда, выступая на собрании, сумев убедить в ней всех, не имело отношения к действительности и сути произошедшего. Да, всё это, учитывая обстоятельства, было более чем вероятно и справедливо подумалось, и вместе с тем было чепухой, к сути события не имевшей отношения. И он, во власти страха и пытаясь умно и с наименьшими потерями выйти из очень опасной для него самого ситуации, желал считать правдой именно то, что со всех трезвых мерок ею казалось, но на поверку было чепухой. Перед ним была действительно история срыва, провала и нарушения приказа из чисто личных причин, каких тоже немало бывает в любом деле, и в армейском, и в подпольном, только в этом конкретном случае личные мотивы и причины были сильны и нравственны, как ни в каком ином. Да, привели к нарушению приказа, серьезному и даже очень проступку, к провалу работы, который мог быть чреват риском и большими бедами, всё это так. И так это именно потому, что были максимально сильны и в общем почти предельны. Правдой оказалось то последнее, о чем всерьез думалось так, что возникло как предположение, но было быстро отброшено перед убедительностью и казавшейся несомненностью других, более принципиальных и связанных с реалиями версий. Он слушал то, что ему рассказывали, убеждался от слова к слову, что речь идет о чистой правде и недаром этот Гжысь ощущает себя так спокойно. Ведь он, всё это слыша и представляя воочию, не пожелал бы себе оказаться перед той же дилеммой и в подобной ситуации. Да – долг есть долг, приказ есть приказ и служба в подполье, в предельно серьезном и ответственном деле во имя будущего и блага нации, требует беспрекословной верности и одному, и другому. Это правда. Однако – правда и в том, что наверное еще не родился тот железный и совершенный подпольщик, который попав в такую ситуацию, помня про приказ, дисциплину и долг, не испытал бы самых страшных колебаний. И большинство самых хороших и надежных его соратников, скорее всего и не выдержали бы подобных колебаний и поступили бы точно так же, как этот Гжысь… да только навряд ли сумели бы всё так блестяще обделать. Такова правда, и признаться в этом было страшно. Однако, он спрашивал себя, как бы он сам, со всем его опытом и пафосом на выступлениях, с преданностью делу и невыдуманной верой в дело поступил, выпади ему такой жребий и окажись он перед выбором – бросить любимую женщину в лапы и пытки гестапо или нарушить долг и приказ и попытаться спасти ее, либо же вообще вместе с ней умереть, и проступавший из глубины души ответ говорил очевидное… Да, этот Гжысь, чертов еврей и бывший университетский профессор, спасший его изувеченную гестапо аспирантку и любовь, всё равно конечно оступился и виновен, но не более, чем оказался бы виновен в такой ситуации почти каждый из них. И понимание этого жутко, ибо теперь совершенно не ясно, что делать и как поступить уже конкретно ему. Как конкретно ему, имеющему четкий приказ и ответственному за исполнение этого приказа, в сложившейся ситуации поступить. Чеслав смотрит в очередной раз на этого Гжыся и невольно испытывает к нему то же уважение, которое неоднократно чувствовал за минувшие дни при мысли о совершенном им поступке. И это уважение еще более усиливается от того, что тот не колебался в ситуации, в которой он сам, Чеслав Рындко, опытный офицер-артиллерист, скорее всего мучительно колебался бы, ведь долг есть долг и ситуация, когда два долга – долг службы и присяги и долг любви и совести, схлестываются лицом к лицу и требуют решать и выбирать, нести за это личную и быть может чреватую осуждением и смертью ответственность, по настоящему страшна. И вот – наверное и в той ситуации, которая налицо сейчас, этот человек, готовый рисковать, жертвовать и действовать, но поступить так, как единственно может по совести и сам считает правильным, тоже в отличие от него не колебался бы и не впал в смятение, и знал бы, что делать. А именно – рискнуть всем, собственной жизнью и опасностью безжалостного и унизительного приговора уже самому себе, но отложить исполнение приказа, донести всю правду, признаться в ошибочности своих же доводов и предположений и поставить вопрос о решении заново, в свете открывшихся обстоятельств и сведений. Он смотрит на «молочника», всё это понимает, и в его взгляде над уважением уверенно начинает доминировать лютая ненависть. О нет, он еще хочет пожить на этом свете и послужить делу, и получить пулю в лоб из-за чертового еврея, предателя и провалившего работу слюнтяя, вовсе не намерен! Приговор еврею вынесен и насколько он знает систему – навряд ли будет отменен, даже если он, Чеслав Рындко, поступит так, как поступил бы скорее всего этот человек. А вот шанс, что вместе с повторным вынесением приговора такой же приговор будет вынесен и ему самому, ибо он «заколебался», «не исполнил приказ», «больше не заслуживает доверия» и т.д., более чем вероятен! И вероятно так же и кое-что похуже, да-да! Что чертового еврея-то может быть и оправдают по справедливости или накажут не так строго, войдя в специфику ситуации и мотивов, проникшись жуткими увечьями этой женщины, а вот его самого, за «дезинформацию» и «безответственную, поверхностную оценку обстановки», «утрату и обман доверия», как раз-таки приговорят и пустят в расход, назидательно либо же по тихому! И вместо еврея-профессора, болтаться на каком-нибудь дереве, якобы будучи жертвой немецких расправ, будет он, либо же он вообще, подобно Любомиру просто исчезнет, а на попытку завести речь о его судьбе станут сурово вращать белками и топорщить усы… И чертов жид будет жить, а он – гнить в яме и кормить там червей, и не бывать этому! Евреи – это всегда евреи и доверять тем нельзя, и мало ли что он тут им сейчас порассказал. И еще не известно, не попал ли он, Чеслав Рындко, именно сейчас во власть заблуждения, не купился ли на тщательно подготовленный спектакль с декорациями в виде изувеченного лица! И поди еще знай, как эта Магдалена получила свои шрамы… она может шлюха, об которую пьяная офицерня разбивала бутылки! А что, очень может быть! И даже если кое-что из рассказанного здесь всё же правда, то это не отменяет и факта, что могли быть и влияние коммунистов, и какие-то контакты с ними, а «молочник» просто всё это умело укрыл под жалобной и пробивающей на слезы историей! И скорее всего, это именно так и есть!! А даже если и нет – выяснение этого он, Чеслав Рындко, оставит как-нибудь на потом, как и счеты с совестью, потому что в настоящей яме сейчас именно он и как выбраться – вот о чем он должен думать в первую очередь! И этот Гжысь всё равно нарушил приказ, долг и дисциплину, провалил дело, и приговор вынесен ему справедливо! И этот приговор, и отданный уже самому Чеславу приказ, должны быть исполнены. И будут исполнены, конечно. Во имя политики, провозглашенной законным правительством, ради возрождения былой Польши, сотни тысяч евреев позволяют сейчас убивать в концлагерях, беспрепятственно вывозить туда на верную смерть – кто не знает о том, что на самом деле происходит! И жизнь одного еврея – предателя и слюнтяя, какая-то там правда (еще поди знай, в чем она на самом деле), не стоят жизни хорошего поляка, настоящего патриота и подпольщика, умеющего быть верным приказам и долгу, который подтвердит это и сегодня, и конечно еще много пользы сможет поэтому принести общему и святому делу. И так это и должно быть, и жить и делать дело – именно таким как он. И он будет жить и делать дело. И еврей умрет, а справедливый, отданный не одним человеком приказ, будет исполнен. И если когда-нибудь, лет через двадцать его, Чеслава Рындко совесть, засвербит вдруг и напомнит об этом еврее и настигшей того судьбе, что же – он услышит ее голос и покается, признает быть может свою неправоту… Не ошибается тот, кто не делает дело, а он, Чеслав, всю свою жизнь служил делу беззаветно и если в чем-то и ошибся – Господь милостив, всё видел и простит его. Да будет так.
Пока Чеслав всё это думал, принимал решение и укреплялся в том, рассказ закончился и разговор на какое-то время затих. Еврей-предатель и эта Магдалена обессилели от переживаний и исповеди, или что там на самом деле было, а «Словек», чертов и непонятно откуда достанный для сегодняшней акции идиот, размяк и проникся кажется точно так же, как час назад жил желанием убить и одной только предстоящей казнью. О Господи, с кем только приходится работать! Ничего, с этим то он разберется! С искренне блестящими от слез глазами Чеслав встает, походит к «молочнику», обнимает его и говорит с дрожью в голосе, что всегда был уверен в его порядочности, ведь на самом деле давно заочно знаком с ним и его работой. Что так и сказал на собрании перед отбытием сюда и конечно же – во всех правдивых и точных подробностях передаст страшную историю его и пани Магдалены, будет его заступником и уверен, что хоть пан Гжысь конечно и поступил против долга и приказов, но соратники поймут его, ибо он поступил именно так, как и любой из них в этой ситуации. Конечно же – обнимает после и Магдалену, выражает сочувствие настигшим ее бедам (довольно искреннее, впрочем – и шлюхе такого не пожелаешь), и вместе с сочувствием – надежду и веру в лучшее. С удовлетворением отмечает, что все присутствующие кажется ему поверили. И Магдалена, и «молочник», который кажется и рассчитывал, в тайне надеялся именно на такую реакцию, а уж этот идиот «Словек» (как только тот попал в дело?!), так вообще – готов чуть ли не разрыдаться от умиления. Идиот и есть идиот, и рано или поздно кончит соответственно. Дальше – обращается к «молочнику». Пан Гжысь конечно понимает, что они должны переночевать тут и поэтому он, «Круль», просит дорогого пана о следующем. Пусть вернется в дом, сообщит хозяину, что приехали гости из Варшавы, соратники, что с ними полностью объяснились и они теперь должны переночевать. Ну, неужели же пан Штыблер откажет? Конечно нет. Вот тогда они с удовольствием и поужинают со всеми вместе, и еще многое обсудят, конечно! Только вот перед этим, пока пани Магдалена и хозяева будут накрывать на стол, он просит пана Гжыся пройтись с ними в какое-то недалекое и тихое место. Они должны обсудить с ним что-то очень важное, переданное старшими и касающееся планов по его дальнейшей службе, и вот тут уже точно не должно быть даже пол уха лишнего, а не то что уха. Ах, пан Гжысь не собирается продолжать, должен ныне заботится только о Магдалене и просто еще не успел сказать об этом… Что же – это во многом и понятно, и его право, конечно… Но передать-то они всё равно должны – пан ведь знает процедуру, и приказ есть приказ. И кто знает – может лучше ему как раз и познакомиться с планами во всех подробностях! А вдруг именно в том, что ему хотят предложить, он увидит возможность продолжить службу патриотическому делу и одновременно позаботиться о пани Магдалене? Всё это Чеслав произносит настолько искренне и убедительно, и выглядит сказанное так логично и видимо настолько соответствует скрытым надеждам и желаниям лживого еврея-предателя, что и тот, и Магдалена, кажется полностью ему поверили. Деньги с собой? А, ну и отлично, он может уже прямо сейчас отдать их, чтобы утром, в попыхах и сборах не забыть, с отчетом же они посидят глубоким вечером, после ужина. Пусть пан идет, а они со «Словеком» ждут его. И когда воодушевленный, похожий на большого ребенка «молочник» и вправду удаляется с Магдаленой в дом, Чеслав смотрит ему вслед и думает, что надежда оглупляет человека больше, чем страх, а вера в лучшее слепит, делает слабым и в конечном итоге обрекает на гибель. И если он сам хочет продолжать жить и делать дело, выкручиваться во всевозможных, неотвратимых и в одном, и в другом ситуациях, то эту мысль надо хорошенько запомнить и усвоить…
Они идут к реке. Идут втроем – он, «Словек» и «молочник», конечно же купившийся и попавшийся на удочку, быстро вернувшийся и ничего, кажется, не подозревающий. Заподозрил – не пошел бы, а если пошел – значит либо вправду верит, что всё разрешилось, либо не хочет думать другого и тревожиться, и потому конечно и не захочет, сколько там еще осталось времени, и позволит им со «Словеком» сделать задуманное. А времени осталось совсем не много и всё пройдет отлично, Чеслав уверен. Там, возле реки, он сам сказал, есть небольшая рощица, место тихое – точно можно и душой отойти, и поговорить безопасно о важном. «Ты, сукин сын, отойдешь у меня!» – думает Чеслав – «Нет, ну какой всё-таки идиот, а… как купился… и ведь по настоящему купился! Луной ему чистой бы полюбоваться и понадеяться, да еще помечтать о хорошем и счастье любви! Вот же идиот!» Чеслав не выдерживает при этих мыслях, и пользуясь покровом темноты, позволяет себе чуть оскаблиться. «Такому дурачку и правда не место в подполье, о чем и речь! Вообще не понятно, как он сумел с такой слепотой и наивностью отработать полтора года связным, выполняя серьезнейшие задания, всех убедив и провалившись только по случаю! Ведь это же надо понимать, под каким риском находилось дело! Да нет ничего более святого, чем исполнить приказ, казнить этого дурачка и избавить от него мир, и совесть под старость мучить не будет, о чем вообще речь!» Всё продумано. И всё получится. Они застрелят его, как только зайдут в тихое место. Крепкая веревка, чтобы после подвесить бугая на дереве – у него, Чеслава, на поясе. Табличка из плотного картона с надписью по немецки «опасный польский бандит» – за полой пиджака у «Словека». Когда всё будет готово, то есть минут через десять или пятнадцать, даст бог, у них будет еще не меньше часа, чтобы в западном направлении уйти в лес. В Опочном их ждет человек с запряженной бричкой, там они будут часам к двум или трем ночи, а утром – будут уже в Варшаве. И всё провернут в точности и как задумано, еще и будут отмечены благодарностью, вот посмотрим! Он даже уже в «Словеке» не сомневается. Тот идет с прежним выражением лица, с ненавистью и готовностью убить, по счастью – мрак всё прячет, а идиот профессор, который через несколько минут попрощается навсегда с миром, пребывает в таком воодушевлении, что приглядеться и различить это не способен. Еще бы «Словек» не вернулся к прежнему настроению, которое сейчас уже как раз весьма кстати! Ведь только этот «Гжысь» удалился в дом, как «Словек» чуть не бросился на него с объятиями и облегчением, со словами «нет, пан Круль, какая история, я чуть не расплакался!». Вот тут он и вмазал тому, наотмашь – словами конечно и полуслышным шипением, но зато как! Может хоть научится чему-то, что поможет в работе. Как он, малодушный идиот, позволил себе купиться на все эти еврейские истории?! Он что – вправду поверил?! Он конечно выглядит дилетантом и человеком невыдержанным, для серьезного задания не пригодным, но всё же на законченного идиота, на деревенского дурачка, над которым можно откровенно посмеяться, с первого взгляда не похож! А вот же – именно так и выходит! Да как он мог воспринять всё это серьезно? Он, «Круль», с трудом сдерживал и смех, и ярость во время всей истории, так это было откровенно выдумано и лживо! Он даже думал, что этот еврей-предатель выдумает что-нибудь более убедительное! Ах, ее лицо! Да ты, мальчик, мало в жизни еще вещей видывал! Как «Словек» посмел поверить и подумать, что приказ подполья не будет исполнен?! Приказ конечно будет исполнен и хитрый, наверняка переметнувшийся к коммунистам предатель, который всё же кажется поверил ему, «Крулю», ибо он то свое дело знает, будет казнен и именно так, как спланировано! С табличкой на груди, якобы как жертва расправы немцев. И если наивный и легковерный идиот «Словек» только посмеет уклониться от выполнения приказа или хотя бы заикнется, он казнит того вместе с предателем и по справедливости! Нет, ну как «Словек», вроде бы всё же не глупый, пусть и не привыкший к такого рода делам человек, мог так дешево купиться на еврейские штучки и поверить! Нет, ну честное слово! Да когда предателя припирают и ловят, он, чтобы жить, и не такое тебе расскажет и придумает, и польку на голове станцует! Он потому и ждал их, что думал – приедут легковерные дурачки, которых он сумеет убедить, потрясет для этого деньгами, мол вот, честный я до последнего, да пожалобит историями и лицом этой Магдалены, еще не понятно кем и как изуродованным, и всё тихо и мирно разрешится! И ему дадут полюбовно уйти! Ну уж нет – если «Словек» такой идиот и готов изменить приказу, то у него, «Круля», глаза и ум на месте, долгу своему он верен и приказ исполнит, чего бы это не стоило!
Чеслав шипел всё это в темном дворе и видел, как на ходу лицо и душевное состояние «Словека» меняются и тот и вправду начинал верить, что позволил дешево обмануть себя, а прежняя ненависть и готовность убить возвращались к нему, но уже с какой-то настоящей лютостью. Чеслав даже испугался, что переборщил и соратничек не дай бог не сдержит себя. С одной стороны – в решающий момент, который вот-вот наступит, это и кстати, а с другой, не случилось бы чего раньше и не заподозрил бы чего-нибудь «молочник», которому предстоит умереть. Но тут на помощь пришел уже густейший мрак, да и сам «молочник» вернулся на каком-то почти детском подъеме в душе, с графинчиком и маленькими чекушками, мол, панство, давайте выпьем по капле «первача», чтоб разговор наш был ладным и на душе чтоб полегчало. Клоун дешевый, ничтожество. И вправду поверил, что прошла его дурно смастыренная легенда! Ну, что же – поделом будет то, что ждет его. Осталось совсем немного. Метров сто до рощицы на берегу, а там – пара удобных минут, и дело сделано. Он, Чеслав Рындко, профессиональный военный и даже в густой темноте из «вальтера» с глушителем не промахнется. А «Словек»… да тому уже через час собственные сомнения покажутся памороком, он даже вспоминать их стесняться будет! И отчитаются они перед соратниками как надо, комар носа не подточит. Кровью они ведь теперь будут повязаны, одним провернутым как надо делом, исполненным приказом о казни… на жизнь и смерть повязаны, если что.
Войцех в эти секунды и вправду чуть ли не по детски счастлив, почти так же, как был счастлив в то чудесное, далекое утро первого сентября… Ну, вот всё и разрешилось, слава богу. Всё же с нормальными людьми он имел дело эти годы и хороших, нормальных ребят прислали для выяснения обстоятельств. И всё те поняли и восприняли как должно, он же видел это на их лицах, и у одного, и у другого. Да и как можно было не понять?.. Как, глядя на лицо Магдалены и выслушав весь перерезавший их судьбы ужас, можно было не понять?! И слава богу, всё нормально. Хотят предложить что-то другое. Он, конечно, думал оставить дело. Слишком опасно теперь, учитывая положение Магдалены. Но мало ли… почему нет, если ничего лучшего не отыщется? Делал он свою работу хорошо, поступок его – поймут и примут, конечно, и если не будет ничего более безопасного и обнадеживающего, то ни что не помешает ему продолжить посильно трудиться во славу польского подполья, которое, кажется, наконец-то начинает потихоньку поворачиваться в сторону конкретных дел, ради которых стоит рисковать жизнью. В основном – благодаря клеймимым на всех углах коммунистам… Он и сам всегда терпеть не мог коммунистов, но ныне начал их хоть чуть-чуть уважать и именно за призывы к борьбе, чем бы те ни были продиктованы. Борьба – это всегда хорошо и точно – лучше молчания покорных, пинаемых на бойню ягнят… лучше бессловесного свидетельствования жутким вещам и преступлениям, происходящим перед глазами… В борьбе есть великая правда и коммунисты, в сорок три года и так неожиданно, но стали ему чуточку близки этой правдой… При всем, конечно же, критическом взгляде на них, на их идею и мало чем отличающееся от Рейха огромное государство. Его соратнички, «пилсуцники» и «республиканцы» – те коммунистов готовы кажется стрелять более охотно, чем немцев, и по прежнему горой стоят за «выжидание» и «терпение»… тоже во имя борьбы, конечно, но только когда-нибудь «потом», когда карты лягут чуть получше… Он знает… Он потому так и боялся, что не поймут его демарша с немецким патрулем и похищением Магдалены, ибо строжайше запрещено. Однако, и у соратников скоро не останется выхода… И коммунисты начали передергивать затворы, и немцы гайки закручивают в своем безумии до последнего, и потому даже если и не хочешь – уже не отвертишься… И чем раньше поймут это «республиканцы» и обратятся к борьбе – тем для них же лучше. Эта их боязнь мобилизовать людей, затеять серьезную и честную драку, им же самим потом боком и выйдет… потеряют инициативу, веру людей, а русские за «левое» польское подполье кажется взялись всерьез и дай им шанс и место – своего не упустят… Не суть – если не будет ничего лучше, он продолжит работу в подполье, и потому с удовольствием идет с ребятами на любимое место возле реки, послушать, что там еще для него возможно… Четкого плана у него в голове еще не было, но… можно было попытаться прятаться вот так, по селам… В еврействе его пока еще никто не уличил и не заподозрил, а с Магдаленой рядом вообще и не должны были. О профессоре Войцехе Житковски все уже давно забыли, а слух о нем как о подпольщике, что-то там начудившем в Варшаве, навряд ли дойдет до глубинки… До какой-то другой, конечно, отсюда надо будет, как ни жаль, уехать… Слишком тут всё связано с его недавней варшавской жизнью. А может – что-то еще придумается… Может – попытаться укрыться в монастыре, как делала это Магдалена до их встречи?.. Ведь в Радоме ее до сих пор ждут! Одну конечно… но может – войдут в положение… Да мало ли как, мало ли что еще обнаружится как возможность! Главное – верить, надеяться и бороться, и есть, есть во имя чего бороться и ему, и теперь уже и ей, красотуле, никуда не отвертится! Забудет возле ребенка, который даст бог появится, обо всем, а потом, глядишь – сломаются немцы, придет когда-нибудь мир, откроются те возможности, о которых сейчас и не решаешься подумать… Она еще узнает счастье игры, преподавания, близости музыке эдак или так… написания книг с ним рядом – вот об этом он точно позаботится! Главное – бороться и верить, надеяться и не бояться броситься в омут, по принципу «будь что будет», как он тогда, на Минской… Ведь как он на самом деле переживал из-за того, что провалил работу… что не поймут, не войдут в ситуацию… А вот – какие хорошие ребята… Сейчас главное – выжить… перейти реку судьбы в брод… отыскать брод, как бы не казалось, что его нет. Вот и она – решилась сегодня открыть, рассказать то, что предшествовало в Кракове ее аресту, наверное поняла, как важен разговор и насколько важно быть до последнего честной и убедить ребят… Да – он конечно виноват, как и предполагал… Однако, он сейчас так по детски воодушевлен и счастлив, полон внезапных надежд, что от теперь уже ясной правды даже не пришел в ужас, хотя от одних мыслей о ней, от подозрений и предчувствий – приходил. У него есть причины – на пути к их спасению разрешилось важное препятствие, спала тяжелая и страшная тревога, которая, сколько не прячь, почти две недели висела над душой и умом словно «дамоклов меч», делала будущее совершенно неопределенным. И вот – он теперь счастлив еще и именно тому, что Магдалена открылась, рассказала про то, в чем боялась признаться раньше. Это хорошо, очень хорошо! Значит – близки они теперь до конца и о том, за чем он ее застиг в амбаре, она уже больше не думает. И значит – есть, есть надежда, и надо только бороться и верить! И от этого, хоть теперь он точно знает всю правду и вину свою, хочется не идти, а лететь, любоваться чистой луной и проступающими под ее светом контурами полей и скалистых, укрытых лесом холмов… Да – он виноват. Но он теперь будет жить ею, дышать ею и ее возможностями, будущим и надеждами для нее. Будет бороться за это – уж что-что, а за это стоит! Будет спасать ее, до конца дней жить любовью к ней и искуплением своей вины. И разве не стоит? И вот – всё это стало чуть-чуть реальней, посреди торжествующего в их судьбе мрака забрезжил лучик света. Как же тут не быть по детски счастливым?..
Обо всем этом Войцех думает, пока шагает с «ребятами» к реке, ничего дурного конечно же не предполагая и не подозревая. А когда оказывается на самом берегу, под любимыми ясенями, вдыхает ноздрями запах тины и слышит волны – так вообще обо всем забывает и чуть даже закрывает глаза. Он полюбил это место еще в те времена, когда работал у Божика, и любил приходить сюда, если не был слишком утомлен, именно поздним вечером – чуть отдохнуть душой, ощутить покой и помечтать о лучшем, глядя на луну… Он бы конечно так и погиб на этом своем любимом месте, стоя под луной и ночным небом с закрытыми глазами, ничего не видя и не замечая, не слыша, как один из «ребят», с самого начала назвавшийся «Крулем», передернул «вальтер», прежде надев на тот возле ствола ясеня глушитель… Он рывком обернулся, потому что услышал дикий крик Божика, всаживавшего со всей силы топор в того другого парня, которого звали «Словеком». Этот крик его и спас, собственно. «Круль», который должен был казнить его и неслышно подойдя к нему, уже поднял «вальтер», как и он сам обернулся на неожиданный крик и шум сзади. Войцех как-то всё в один момент понял – не умом, а глазами, смотрящими в чуть приспущенный, упертый ему в живот «вальтер», и с таким же, как у Божика диким криком, моментально ударил «Круля» огромной ручищей в подставленный висок. Тот упал на землю, непроизвольно нажав курок, но выстрел ушел в сторону. Продолжая кричать, Войцех бросился на него со всего размаху огромным телом, упал ему на лопатки коленями, услышав хруст и какой-то странный то ли стон, то ли выдох, со всей возможной силы ударил его кулаком в затылок и одним ударом сломал шею так же, как позвоночник секунду перед этим, своим падением. Дело было кончено в несколько мгновений, потому что Божик убил этого «Словека» самым первым ударом топора и совершенно напрасно продолжал кромсать его – «на всякий случай»… Через минуту они оба уже сидели рядом, оба по своему оторопевшие… И до одного, и до другого, пусть и с разных сторон, начинало доходить, что случилось… Войцех думал о том, что не поумнеет до конца дней и подобному идиоту конечно же нельзя иметь детей… «Ребята», оказывается, приехали его казнить, исполнить уже вынесенный ему кем-то, прежде всех объяснений приговор… И обвели его, великовозрастного идиота, вокруг пальца обыкновенным лицемерием… Если бы не Божик, его тело сейчас уже наверное топили бы в реке, или что там они еще планировали сделать… Странно – вот, его сейчас могло уже не быть, всё могло закончиться… Тогда, в тот растреклятый вечер 6 ноября, он от сознания этого чуть не задохнулся в ужасе и панически бросился по крышам и по улицам… А сейчас… он глядит в лицо смерти, которой чудом избегнул, и практически спокоен… Гораздо больше взволнован самой своей глупостью и слепотой, чреватой однажды погубить его и Магдалену, их будущего ребенка и еще поди знай кого… Так нельзя, он уже не мальчик… что-что, а уж приготовления убить его всё-таки должен был как-нибудь подметить, уловить, знаете ли… из колебаний воздуха, во «флюидах»… Привык к постоянной близости смерти – хорошо, но это не значит, что имеешь право стать слепым и безразличным…
– Ты как тут? – наконец выдавливает он с хрипом, обращаясь к Божику. Сам Божик сидит растерянный как ребенок и кажется, всё никак не может понять сути произошедшего…
– Как-как… почуял неладное, пошел следом… Слишком уж всё хорошо из твоих слов выходило… А зачем тогда тебя в поле тянуть?.. Взял топор, пошел тихо следом, чуть понизу, ты знаешь… Подошел сюда, смотрю – ты стоишь, а тот гад сзади тебя пистолет передергивает… Ну, думаю, одного попытаюсь забрать и заору, чтобы другой обернулся или испугался, а там – как уж выйдет… И слава богу, видишь – сложилось… Божик говорит «слава богу», а голос его всё так же растерян, он словно бы исподволь спрашивает интонациями – «как же всё это?»
– Странный ты, Гжысю… вроде б умный, а как ребенок. Тот тебе в затылок пулю готовиться всадить, а ты и не слышишь даже… Черт тебя разберет…
– Я исправлюсь, Бодька, у меня выхода нет. Вот, ты мне уже второй или даже третий раз жизнь спасаешь… Если есть бог на этом свете – даст он мне возможность когда-нибудь тебе вернуть, сполна…
– Да ты живи, главное… А то за тобой хоть как мамка ходи…
Войцех обнимает Божика огромной ручищей и они сидят так, и вправду словно два брата, сродненные навечно судьбой и пролитой кровью, самой спасенной друг другу жизнью… Божик вдруг начинает плакать, трястись в рыданиях – Гжысю, как же это всё, а? Что же – мне теперь в ад, да? А разве ж я мог дать им тебя убить? Да за что же, по какому праву? А девочка как же? Как она без тебя бы выжила?!
Войцех почему-то, для самого себя неожиданно, остается совершенно спокоен. Вот, Божик начинает труситься, ибо убил… Оно и понятно, конечно… Хотя у них тут, в деревнях, по нравам их простым, не редкость. Да где это редкость нынче… И когда было редкостью? Вон тот, который хотел его убить, «Круль» – небось привычен был, а? Он, профессор философии, хотел тогда кромсать немцев и поляков-«шуцманов», чтобы спасти Магдалену, и было бы надо – кромсал бы, конечно, но вот же – сумел сделать всё и кулаком не взмахнув. А этот приехал его казнить, исполнить кем-то данный приказ, сделать «привычную работу»… «Ну, что, как оно – самому привычного дела вкусить, хорошо? Доволен? Полегчало?» – он спрашивает это мысленно, глядя на распластанный на земле труп с как-то неестественно, словно у сломанной куклы, вывернутой в сторону головой. Ах ты ж, господи! Сколько исписано страниц о муках совести, терзаниях и раскаянии при виде человека, умершего от собственных рук… Какие талантливые писатели пробовали себя на этой важнейшей ниве!.. И кому же, как не ему, философу и гуманисту, исчеркавшему недавно сотни страниц на тему ценности человека и человеческой жизни, было бы сейчас эти самые муки испытывать… А вот – он глядит на бессмысленно прожившее жизнь и до отвращения глупо, бессмысленно закончившее ее тело, и не чувствует ничего… Даже страха перед наказанием и тем, что неотвратимо грядет – наверное и того не чувствует. Этот человек хотел его убить, отнять его жизнь – а за что? По какому праву? За то, что жизнь и судьбу любимой женщины он поставил выше всей этой игры в «подполье» и «дело родины», в передачу записок с информацией о том, как массово казнят евреев и какие страшные немцы преступники, но экие молодцы поляки, что находят в себе мужество если не спасать сограждан, так по крайней мере – собирать сведения? И никому, уверен, в конечном итоге не причинил этим вреда? Потому что кто-то и где-то, не взглянув в лицо ни ему, ни Магдалене, вынес приговор, решив, что для дела так будет справедливее и полезнее? Потому что он, университетский профессор философии, вынужденный стать подпольщиком, спас от смерти и пыток заключенную, то есть сделал именно то, что они, профессиональные вояки, уже давно, сообразно своему долгу, обязаны были делать по всей стране, не давая немцам ни секунды покоя? Потому что кто-то и где-то решил, что давать пока тысячам таких заключенных, сотням тысяч евреев подыхать как собакам, даже имея возможность бороться и что-нибудь делать – это во имя каких-то «высших» и главных целей правильнее? Да пошли вы к чертовой или собачьей матери! И никаких мук совести… Если ему за что-то и стыдно, так за другое. Он тогда, пока не разглядел в женщине-калеке возле «мерседеса» Магдалену, готов был – ведь недаром ученый подпольщик и связной! – встать и пойти на запланированную встречу… Вот за это стыд, а не за другое. Он не сделал ничего, за что по праву, по совести и справедливости, а не из каких-то там «высших и целесообразных» измышлений, могли бы отобрать у него жизнь. Он никогда бы не счел возможным отнять по совести жизнь у кого-то, кто поступил бы как он, и значит – ни у кого нет права отобрать жизнь у него. «Что, брат, хотел исполнить приказ и сделать дело, убить меня, не понятно за что, да не вышло, не сложилось, судьба зла, да?» – он смотрит на раскорячившееся на земле тело и словно спрашивает то, уже не способное ответить. – «Что же – это всегда так… Взял в руки оружие и готов убить – значит, будь готов и умереть, принять ту же судьбу, которую уготовил для другого… И не забудь поэтому прежде покумекать малость и решить для себя, а стоит ли, и во имя чего».
– Гжысю, что же теперь будет, а? До Божика всё наконец-то начало доходить и тот глядит на него с почти детским, беспомощным испугом… Что же – может и вправду было бы лучше, чтобы два этих скота его наконец-то убили. Что и кому он приносил когда-то, если разобраться, кроме горя?.. Может и вправду – не должно его быть, а? Бодьке-то – за что всё это выпало? Он что – не понимал, что подвергает того опасности, оставаясь здесь? Да понимал, конечно… Даже если и хочешь прожить без греха – всё равно не проживешь. И если не дай бог свалится на Бодьку беда из-за него, то будет он отвечать за это когда-нибудь точно так же, как за изувеченную судьбу Магдалены, ибо слишком поздно решился бросить ее… А может – и сам себя накажет… пришло время, нет?.. А с ней, с ней что будет?! Нет, пока еще не пришло… Надо подумать, как сделать так, чтобы ничего с Бодькой не случилось… Смешно, как они оба бывают ребячливы и упрекают друг друга в этом – кто в мыслях, а кто вслух. Войцех спокойно набивает вечную в кармане трубку, выкуривает ее в молчании.
– Слушай, Бодька-брат, что ты сейчас будешь делать… Положение твое, брат, тоже серьезное и бед ты избегнешь только в том случае, если послушаешь меня и поступишь, как я скажу… Нет, не так… я тебе предложу, а ты уж сам решай, умно и правильно, или нет. Войцех делает паузу, набивает еще одну трубку медленно закуривает и продолжает:
– Эти скоты приехали меня казнить, Бодя. А значит это простое – что приговор мне вынесен и никто, конечно, никогда его уже не отменит и меня не выслушает. И значит – придется мне бежать, сколько там еще отпущено судьбой, жить в бегах, и Магдалене со мной… Да, смешно – и среди поляков места и права жить нет, и среди евреев общий с ними конец ждет… Ей-богу – хоть надень на рукав эту проклятую повязку, к которой ни разу за все годы не прикоснулся, да иди сдавайся в гетто и будь, что будет… И всё потому, что понесчастилось мне родиться евреем и стать профессором философии, влюбиться в самую красивую женщину на свете, в «живую мадонну»… Войцех смеется с горечью и продолжает – со мной всё понятно и Магдалена разделит мою судьбу, как та сложится… Ты же не знаешь – я ее на днях почти из петли вынул… Войцех снова вынужден сделать паузу, потому что Божик в ужасе уставился на него – Сейчас главное – понять, как тебя и семью твою из под подозрения вывести… Ты будешь всё валить на меня… мне это, как я уже сказал, без разницы, а для тебя – единственный выход. Я сейчас докурю и сделаем мы так. Я возьму топор и шандарахну этого кретина напоследок, будто и его я топором кончил. Получится как бы такая картина, что я их сам обоих порешил, а тебя тут конечно же не было. Я огромный медведь, все это знают и поверят, и ладонью я своей след на рукояти хороший оставлю, чтоб наверняка. Пистолеты я обоих заберу, деньги – возьмешь себе. Да ты помолчи, давай, глупостями не сыпь! Я не вор, у меня своих на первое время хватит, а тебе нужны, мало ли как сложится… А там сумма приличная… Я всё равно по легенде их должен буду с собой забрать, так что – в реке их топить, деньги-то, что ли? Вот то-то и оно! Возьми и спрячь хорошо. Хочешь – потрать, а хочешь – сохрани, пока когда-нибудь не увидимся, да за упокой этих двух кретинов не выпьем, хоть и не стоят они… Ты пойдешь за Магдаленой, скажешь – я жду ее в поле. Она знает, что взять с собой… Да и брать-то почти нечего… Дома ей ничего не говори, только когда хорошо выйдете по дороге сюда в поле. Конечно – можно было бы их подальше оттащить и в реку, к чертовой матери, и дело с концом, да не выйдет. Их будут искать, скрыть мой приезд к тебе не получится, и ты не отнекаешься. Когда мы с ней уйдем, ты сделаешь так. Подождешь час-другой, запряжешь лошадь и понесешься к пану Матейко. Расскажешь почти правду. Что приехал я к тебе почти две недели назад с какой-то женщиной, сказал – чудом спасли ее из лап немцев и послали позаботиться о ней какое-то время, скрыть ее. А ты что – поверил, конечно, ведь знаешь, что я на подполье работаю честь по чести, ни о чем другом – ни сном, ни духом. А сегодня – приехали «мои», из Варшавы, о чем-то поговорить. И вроде бы поладил я с ними и всё хорошо, и предложили они пойти прогуляться перед ужином. Ну, нет меня с ними и нет, уже и ужин закончился. Ты – в тревогу, пошел искать и долго искал, а потом вспомнил про это место на реке. Пришел – а тут картина: эти двое из Варшавы лежат зарубленные, меня нет и пока ты ходил – и женщина тоже пропала. Ну, ты конечно ничего не трогал и сразу к пану Матейко, чтобы шум не поднимать. Что случилось – ты ни сном, ни духом, конечно же. Только так, если сможешь всё хорошо соврать, брат – учись, жизненное дело, никуда не деться! – выберешься… Ты-то причем, с тебя какой спрос? Всё я, проклятый и лживый еврей, вали на меня… Я тут пока потопчусь хорошо, а ты давай – вставай и за Магдаленой… мне еще руки хорошо отмыть надо будет… Да, когда будешь рассказывать про Магду – не называй ее по имени, зови как-нибудь иначе, и Ганке с детьми скажи… не надо давать кому-то больших шансов найти нас, чем итак есть… И о ранах ее тоже – постарайся не упоминать, если получится. Это всё равно, что пустить по следу. Слухи и соседи донесут, скорее всего… Но чем позже – тем больше надежд. Решай по ситуации. Пан Матейко конечно захочет сам всё увидеть. Пока доберетесь вместе – будет уже почти утро. Пока он решит, как со своими тела припрятать и сообщить обо всем в Варшаву – мы с Магдаленой будем, даст бог, уже далеко. Вот так брат, другого выхода нет. Как тебе?..
Божик всё это время смотрит на него со смесью страха и растерянности… дослушивает… потом внезапно берет Войцеха за плечи, заглядывает ему в самые глаза и чуть не с плачем и мольбой, но тихо спрашивает – Гжысю… вот как перед Христом-богом скажи мне – не будет греха на моей совести? Ты правду рассказал мне? Ты ничего такого не сделал, за что эти… имели бы право… ну… Потому что если нет – так кончи меня сейчас здесь, всё равно толку не будет, не простит Господь Иисус!
Войцех выслушивает неумелую тираду Божика, спокойно глядит ему при этом в глаза, а после улыбается ему своей детской улыбкой, которая даже из под бороды делает заметно круглым его лицо, и отвечает:
– Я, Бодька, сделал ровно то, что рассказал тебе. И было в моей жизни то, что я тебе рассказал, и что Магдалена рассказала… И поскольку ничего более святого, чем она, в моей жизни теперь нет, ты знаешь, так вот я ею тебе в этом клянусь. А уж ты брат сам решай, правду я говорю или нет, и как поступить. Устал я, дай посидеть пару минут… Он и вправду отворачивается, кладет голову на колени, смотрит на воду. Будь что будет. Чтобы не было. Судьбе надо уметь глядеть в лицо.
Божик уходит за Магдаленой. Он же встает, за четверть часа, со слезами ненависти и отвращения делает с телами этих двух то, что вынужден, потом – воет и ревет, уткнув лицо в ствол ясеня и отдавая тому часть ада из своей души, а потом – старается хорошо отмыть руки и успевает как раз, когда на контуре залитого луной неба появляются Божик и Магдалена с небольшой котомкой в руках. Странно – Магдалена воспринимает эту адскую по сути картину гораздо спокойнее, чем он предполагал… Да она, бедняжка, видывала наверное и более адское. Они прощаются с Божиком, долго прощаются, обнимаются конечно и плачут, говорят то и другое, желают друг другу… Потом уходят по дороге в сторону Страховице… Если их будут искать, то в этом направлении – не должны… Уже по дороге он рассказывает Магдалене все подробности случившегося… Они не знают, куда идти и что делать, просто идут… До Страховице – километров пятнадцать, там, если они решатся на что-то конкретное, то смогут сесть на поезд… С рассветом надо будет посмотреть, нет ли крови на одежде… Внезапно Магдалена изрекает:
– Ты знаешь… Родители, когда приехали в монастырь, в одном из разговоров рассказали, что пан Юлиуш Мигульчек уехал в январе 40-го к своим родственникам на юг, то ли в само Закопане, то ли в какую-то горную деревню рядом… Что думаешь… может рискнем, а? Он же и меня хорошо знает, и тебя знает всю жизнь… может хоть он поверит, поможет чем-то?..
Войцех задумывается… Странно, за все эти годы он почему-то ни разу не вспоминал о пане Юлиуше, хотя знал того с самых студенческих времен, и уважали они друг друга по настоящему… Да при такой жизни и о себе вспоминаешь с трудом… Пан Юлиуш… Поди знай, как и что… люди меняются, а в таких обстоятельствах – быстро и страшно, до не узнаваемости… Он, который час назад мыл в реке окровавленные руки, смотрел безразлично или с иронией на убитого им же человека – это тот «неистовый» и респектабельный профессор философии, который остался у пана Юлиуша в памяти?.. И да, и нет… Закопане так Закопане, чем черт не шутит… Денег хватит, а другого выхода всё равно нет. Он то ладно – но ей, ей за что все это?!.
Глава тринадцатая
ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ
Закопане – как раз тот городок, о котором можно было бы сказать народной поговоркой «мал, да удал». Егерская деревушка на границе трех королевств в 17-ом веке, горняцкий поселок в течение века 19-го, на рубеже 19-20-го веков городок обрел такое значение, что к нему была проложена даже железная дорога. Та самая, по которой, с удачей для себя, в него и прибыли Войцех и Магдалена. И дело конечно было не только в добыче руды. Красота видов и увлечение австро-венгерской и вообще европейской аристократии лыжным спортом, еще до первой мировой бойни превратили городок в популярнейшее место. Во времена Польши Пилсуцкого он обрел еще большее значение, как горнолыжный курорт, место отдыха и развлечения «сливок» и богатеев, а кроме того, потому что располагался как раз посередине двух областей – Оравы и Спиша, которые с конца первой бойни по самое начало второй, служили предметом территориального раздора и спора между Польшей и сначала Чехословакией, а потом – Независимой Словацкой Республикой. Беспринципность и рвачество, иногда доходящий до самозабвения и откровенной циничной наглости империализм – таковы основные черты, которыми можно было бы охарактеризовать политику Польши времен Пилсуцкого, продлившуюся вплоть до ее почти моментального краха в сентябре 1939-го года. Редкий кто решался делать это внутри Польши в те времена. Рисковавшего безумца немедленно клеймили – как и должно быть это в по настоящему консолидированном обществе – предателем, отщепенцем и отступником от национальных интересов, и позволяли себе это либо видные представители левых партий, либо отчаянные одиночки с авторитетом и правом голоса, для которых совесть, истина и диктуемая разумом и совестью ответственность по отношению к реалиям, были всем или же стояли «над всем», в том числе над карьерой, опасностью широкого общественного поругания и многим иным. К числу их относился и Войцех, причем еще в те времена, когда не был профессором и излишняя смелость речей и несогласной с курсом и действиями правительства позиции, могла стоить ему получения профессорской степени, увольнения и иных неприятностей, о чем его неоднократно и предупреждали многочисленные коллеги, и откровенно расположенные к нему, и даже не слишком. Однако – Войцех был Войцехом. Он был и оставался собой в молодости, в годы расцвета и зрелости, и учась в университете, и скитаясь, и после вернувшись в «альма матер» и став легендарным лектором и профессором, его личность, свобода, верность разуму и совести, определяли разнообразные и подчас драматичные конфликты и противоречия его судьбы, были их истоком. Это проступало во всем, зачастую в очень разном – и в метаниях, в борьбе за честную, не вмещающуюся в рамки университетского интеллектуализма мысль, за правду и открытость гражданской позиции… И в бывало выходящей за рамки приличий бескомпромиссности и ярости дискуссий, высказываемых суждений, в резкости рецензий… Во многом, говоря коротко. Суть человека не изменить. «Горбатого могила исправит» – смеялся он над собой всю жизнь из-за этого и подобного… Однако, если копнуть глубоко – именно за эту верность себе, решимость быть и оставаться собой, способность оставаться собой даже посреди самого откровенного ада и «последних» обстоятельств, он на самом деле всю жизнь себя и уважал, и ценил в себе означенное именно превыше всего. Всё это и было тем, что позволяло ему, невзирая даже на ад настоящего и рушащийся мир вокруг, сохранять последнее уважение к себе, было каким-то последним, несломимым нравственным стержнем и источником нравственных сил для борьбы. Такова правда, и это в особенности подтверждалось теми событиями его жизни, когда гладко выбритым, подстриженным на немецкий манер и одетым весьма респектабельно, он вышел под руку с Магдаленой на станции в Закопане, и услышал немедленные предложения «экипажа досточтимому пану», причем пара из них были произнесены по немецки, и чтобы до бесспорности усилить и утвердить произведенное его появлением впечатление, он с удовольствием бросил несколько немецких слов в ответ. Пусть думают, что он и Магдалена – те сотрудничающие с немцами и генерал-губернаторством поляки, которым и при жутких временах вокруг живется ой как неплохо, оттого и способные позволить себе выбраться на поезде в Закопане. Лучшего сейчас для их спасения не придумать, и вот – даже к изувеченному, сразу бросающемуся глаза лицу Магдалены, относятся с уважением – мало ли, что да как. Он выучился лгать – смешно, но именно во имя правды и самого важного, и это не мешало ему оставаться собой и сегодня… «Если не совесть и разум, не правда жизни и дел, не служение истине, то зачем всё?» – этот принцип двигал его жизнью с ранней молодости, прошел через самые разные, подчас невероятно сложные этапы его пути, становился борениями, бурлением конфликтов, резкостью решений, и удивительно продолжал держать его, проносить его сквозь ад и во все последние годы… В те страшные и не такие давние дни, когда кажется, помнить о самом себе, о себе настоящем, не оставалось никакой возможности. В том числе – и ныне, когда бывший профессор, недавний «молочник Гжысь», запятнавший себя в глазах соратников подпольщик и вынужденный обагрить руки кровью беглец, он казался извозчикам возле станции Закопане немецким чиновником или сумевшим устроиться и посреди ада коллаборантом, одним из тех людей, которым, даже ненавидя их, оказывают уважение до того последнего момента, пока обстоятельства не разрешат вцепиться им в горло. А уж в лучшие годы… О, тогда он горел, жил, дышал этим принципом, позволял себе целиком отдаваться тому в жизни, делах, творчестве, отношениях с миром и окружающими людьми! И конечно – это становилось откровенными, дерзкими выступлениями против политики и конкретных действий правительства, которые он позволял себе, и когда его голос был лишь голосом простого лектора и доцента, и в те времена, когда речь шла о профессоре и авторе известных трудов. Зачем и заигрывать с немцами, демонстрируя слабость, бесхребетность и беспринципность, и одновременно откровенно и нагло лезть к ним на рожон, когда им, «встающим с колен» и распаляющим себя до безумия риторикой о «национальной безопасности», только этого и надо? Это и многое другое он говорил в 36-ом, когда обнаружились планы правительства по захвату Данцига, а так же об откровенно притеснительской политике в отношении немцам в Силезии. Либо готовьтесь к войне, действуйте серьезно и решительно, не заигрывайте с поднимающим голову под боком врагом, заставляя всем этим бояться себя, либо берегите хрупкий и законный порядок, более полутора десятилетий поддерживающий мир, не побуждайте врага своими бессмысленными авантюрами относиться к закону и договорам с откровенным цинизмом. Собственным цинизмом не подталкивайте врага смотреть на закон, обязательства и подписанные документы сквозь пальцы. Главное – не заигрывайте просто так с безумцами, не провоцируйте и не распаляйте их, не зная точно, для чего это надо, ведь ценой такой игры может стать катастрофа… Да, всё верно – он уже тогда предчувствовал возможную катастрофу… Оттого-то, в тот страшный первый день катастрофы, в разговоре с Кшиштофом, сам с горечью и посмеялся над собой, над собственным шоком и изумлением, над тем, как умудрился утонуть в иллюзии нормальной, безопасной, полной надежд и неожиданного счастья любви жизни… Как будто бы не предчувствовал катастрофы – многие годы и по разным причинам. И будто всё на глазах и неумолимо не шло к ней – за цепью политических событий, нараставших словно снежный ком, за усиливающейся радикальностью риторики кажется со всех сторон политической игры. За цинизмом и беспринципностью в политике его собственной, по настоящему и до глубины души любимой страны… Он многим рисковал тогда, ведь именно в 36-ом году, после издания его книги по философии музыки, всё стало идти к присвоению ему профессорской степени. Эти уродливые черты политики Польши Пилсуцкого, которой не стало в сентябре 1939 года, как на лакмусовой бумаге проступили в последний год перед трагедией, с событиями раздела и уничтожения Чехословакии, в занятой тогда правительством позиции. Разве можно так откровенно, цинично и безумно рвачествовать, пилить сук, на котором сидишь, попирать законность и участвовать в разрушающей все основы мира и порядка политике, жертвой которой может оказаться завтра уже любой, в том числе – и ты сам? Как же можно так откровенно и цинично участвовать в средневековом фарсе, разделяя и оправдывая политику силы, принцип «пришел и взял», рьяно и жалко участвовать в уничтожении законности и последних основ мира? Способствовать возрождению средневековой дикости, лишь норовя жадно урвать куски пирога там и сям, и не желая понимать и видеть, что грядет с этим дальше? Он говорил всё это тогда, причем уже с той кафедры, с которой наверняка мог быть расслышан. И рисковал конечно, и понимал всю напрасность этого и необратимость совершающихся событий… наверное – и неотвратимость катастрофы… И всё равно говорил. В наибольшей степени – для самого себя, чтобы как и всю жизнь остаться верным разуму, совести и правде… И чтобы никто, и в первую очередь – он сам, не мог упрекнуть его впоследствии, мол, ты то где был в это время, почему молчал и прятал всё, что видишь, чувствуешь и понимаешь за пазуху, в глубине себя? Во имя этого, последнего и главного, пусть практически это было и напрасно, и довольно рискованно. Да – с крушением Чехословакии Польша оставалась единственной, более-менее вменяемой страной Центральной и Восточной Европы, в которой сохранялись закон и свободы, цивилизация в самом лучшем смысле этого слова… И всё же – и в ней тогда уже вовсю горела и кипела патриотическая и провластная истерия, и голос против, голос разума, трезвости и совести, как и всегда в подобных случаях, получал причитающееся… И вот, всё шло к катастрофе и он чувствовал это, и говорил об этом, и вместе с тем – не поверил, когда случилось и прорвалось, словно очнулся в то утро из сладкого забытья нормальной, полной надежд, планов и счастья любви жизни, которая, как оказалось, висела всё время над самой адской и страшной бездной. И всё это в частности касалось и событий вокруг того места, в котором ныне они с Магдаленой, два беглеца с надломленными судьбами, пытались найти последнее спасение. Цинизм польской политики тогда был невообразим, он помнит. Оставалось только раскрыть глаза. Не имея тех ресурсов и сил, которым обладали нацисты, Польша старалась с такой же откровенностью и наглостью, с тем же самым преступным цинизмом грабить «по маленькому», где дают и плохо лежит, а у жертвы нет сил защитить последний грош в руке. Желая забрать Заольшье, разжигала и поддерживала сепаратизм словаков, и почти сразу же, как только выпала возможность, взяла и отобрала у обессилевших и со всех сторон раздираемых словаков земли с запада и востока от Закопане, на которые так давно зарилась. «Так стоило ли удивляться» – думал он потом множество раз – «что катастрофа и ее первый день начались именно с вторжения словаков в те городки и села, которые менее года перед этим были у них предательски и с откровенным цинизмом, с возрожденным из Средневековья, из кошмаров безвластия и древнеегипетских бунтов правом сильного, отняты»? Всё так, увы… Кто принял право силы, тот должен быть готов к тому, что у кого-то сил может оказаться поболе… А горделивые усатые маршалы не хотели этого понимать и видеть, и не пытались готовиться, и даже не думали о подобном, были уверены в себе… Только почему тогда вся эта отдавшаяся рвачеству, решившая опять поиграть в империю и якобы непобедимая страна, рухнула как карточный домик за считанные дни?! Куда в борьбе за страну делась та дерзость и уверенность, с которой ловили перед этим крохи с разрезанного нацистами пирога?! Почему уже три года миллионы людей платят адскую цену за эти циничные, наглые и безответственные игры?! Где же всё это у нынешних подпольщиков, приговоривших его к смерти, не способных пикнуть и никак не могущих ощутить, что «настал час» и «сил достаточно»?! А тогда силы были, да, и уверенность в них тоже была?! Все так и думали… только не было за этим на самом деле ничего, кроме пустоты, глупой и безответственной дерзости, пафосных и наглых претензий, желания мнить себя вновь возродившейся и великой империей… Расплатой стали шок, глубочайший испуг, страх действовать, ощущение бессилия и безнадежности перед разорвавшими тогда страну силами, и вот – три года прошло, и до сих пор ни в душах и умах обычных людей, ни в умах тех, от которых что-то зависит, не удалось всё это преодолеть… И «ждать с оружием у ног», «терпеть и готовиться» несется как главный призыв, и всё откладывают «на потом» то, что уже давно должно было делаться… А тех, кто рискует и позволяет себе то, что должно, готовы признать предателями и даже приговорить… И дело не в нем, а в сути… А что же было тогда, во время всей этой игры в «империю» и «право сильного»? Зачем тогда всё это делали, на что, безумцы, надеялись? Почему не умели смотреть трезво в лицо вещам, собственным возможностям и назревающим, неотвратимым событиям? Почему силы хоть что-то видеть и чувствовать были у немногих одиночек, а не у тех, кто принимал решения? Вопросы… Он с болью задает эти вопросы, как с болью делал это тогда… Потому что поляк. Потому что любит Польшу, гибнущую ныне во власти собственных ошибок и торжествующего, разбушевавшегося вовсю безумия… Потому что гибнет и страдает его страна… И хоть эта страна и ее герои, во власти страха и во имя химер, сейчас спокойно позволяют губить сотни тысяч таких как он – евреев, ставших плоть от плоти поляками, считая их всё-таки «не своими» и будучи готовыми поэтому ими пожертвовать, он чувствует – что это его страна… И бегущий по ее дорогам и весям от вынесенного приговора, напившись под ее небом муками, он чувствует, что любит ее еще больше, неотделим от нее сутью, жизнью, судьбой… И сейчас разражается в мыслях тирадами и гневными вопросами с той же любовью к ней, с которой тогда делал это вслух… Он иногда думает, что неотделим от этой страны и его судьба и жизнь где-то в другом месте невозможны… Что оторвать его от Польши можно только с корнями и с кровью, то есть равнозначно тому, чтобы погубить… Он настолько сращен с ней и часть ее, так привычно и словно само собой разумеясь ощущает себя связанным с нею, связанным неразрывно, что представить себя где-то в другом месте просто не может, а когда смотрит со стороны и по философски, то лишь изумляется и думает – а как вообще может быть иначе? Сколько веков его предки жили здесь и говорили по польски? Пять, восемь, еще больше? Сколько веков его семья прожила в Казимеже? С каких пор осела там? Еще с тех, наверное, когда небольшая еврейская деревенька вырастала у стен города-крепости, возведенного, чтобы укрепить Краков с юга… Он помнит местечки и города Галиции, Волыни… эти огромные, кажущиеся нарисованными синагоги-крепости… его служившие полякам предки, веками молились в них, сражались с их стен и крыш с татарами, казаками, шведами… Как, как оторвать себя от всего этого, представить себя отдельно?! Даже сейчас, когда ему в его родной и любимой стране нет места и скорее всего – не жить, а так или иначе, от рук одних или других, слепцов или озверевших безумцев погибнуть, он не способен на это… А что же делать?.. Как выжить?.. Желание и силы бороться есть, но как суметь обмануть и перебороть судьбу?.. Он должен найти ответ на этот вопрос – от такого ответа зависит жизнь не только его, а еще и Магдалены и того ребенка, которого она даст бог понесла в себе, но он не видит ответа… За этим ответом они и приехали сюда, при всей рискованности и отчаянности затеи… Еще конце двадцатых готов Закопане стало известнейшим местом, в котором проводились соревнования лыжников… А в тот же самый год, когда разверзлись пропасть и ад, в этом месте состоялся всемирный чемпионат по лыжам. И большую часть медалей на нем забрали те самые дети Рейха и великой арийской нации, который спустя восемь месяцев понесли на польскую землю смерть, безумие и кровь. В то самое время, когда делилось последнее, вызревали безумные и кровожадные, обещающие миллионные жертвоприношения планы, и стороны будущей адской бойни потихоньку занимали позиции, десятки тысяч быть может и чувствующих что-то, но боящихся глядеть в лицо правде людей, стояли здесь, на покрытых снегом склонах, как ни в чем ни бывало, и глядели на виртуозные трюки спортсменов… Эти люди принадлежали как раз тем странам, которые кромсали в этот момент друг друга или готовились воевать, но перед адом были еще капельки времени и мира, и вот – красота окружающих Закопане гор, фантастические прыжки и полеты на высоте десятков метров, создавали усыпляющую, обольстительную иллюзию, что всё нормально и ничего страшного не происходит. После событий Закопане стало принадлежать к генерал-губернаторству и превратилось в излюбленное место отдыха нацистских «сливок» и бонз, и ехать сюда конечно было опасно, тем более им. В их положении, с изувеченным в подвалах краковского «гестапо» лицом Магдалены. Но другого выхода не было. Они ехали, собственно, не в само Закопане. Взятый возле станции экипаж повез их в Малую Циху, село в двенадцати километрах – именно там жили родственники пана Юлиуша и там он осел, уехав из Кракова. Село находилось теперь почти у самой границы со Словакией… О, не было никакого удивления в том, что в самые первые минуты войны словаки ринулись в те деревни, которые несколько месяцев перед этим у них отобрали, дошли до самого Закопане! Он помнит, какая неожиданная ярость его обуяла во время разговора с Кшиштофом, при упоминании о родственниках пана Юлиуша, с раннего утра сообщивших о нападении словаков – а чего еще было ждать?! Кто выбирает силу, должен быть готов к тому, что сам окажется жертвой этого… Он был настолько откровенным, дерзким и яростным противником и политики «санации», и авторитарного, иногда похожего на фашистский режима Пилсуцкого вообще, что часто казался то ли просто анархистом и смутьяном, то ли даже коммунистом. И многие из уверенных в этом окружающих после удивлялись, обнаруживая из его лекций и статей, что коммунизм точно так же чуть ли не ненавистен ему глубоко присущим тому и обреченным стать реалиями и практикой тоталитаризмом. А как можно было иначе?! Патриотизм – патриотизмом, но есть ценности гораздо более высокие, чем «благо и интересы нации», зачастую такие же иллюзорные, как и ее якобы политическое процветание под крепкой рукой, и настоящий патриотизм может состоять не в лояльности власти и позиции рвачества и «закручивания гаек», а именно в верности таким ценностям. Да – Польше двадцатых и тридцатых приходилось выживать посреди пространства и мира, раздираемых множественными силами и по истине драматическими противоречиями, и это подразумевало конечно же известный авторитаризм власти и государства. Он много думал над этим в разные годы, и в этом была часть правды. Но это конечно же совершенно не означало права душить и лишать голоса оппозицию, раньше нацистов создавать концлагеря и заточать в них многие тысячи несогласных и политических противников! Да, он сам не любил коммунизма и коммунистов, был патриотом национального государства и желал своей стране настоящего блага… но польские коммунисты, из каких бы соображений не действовали, решались выступать и произносить что-то против, и часто – говорили из-за этого чистую, безжалостно отрезвляющую правду. И если исключить возможность слышать голос против – то что же окажется способным отрезвить, обнажить ведущие в пропасть заблуждения, в особенности опасные и торжествующие именно в монолитности общества и нации, которую иногда так ошибочно принимают за факт и условие их процветания, их силы и готовности к испытаниям?! Разве же не только та страна и то общество сильны, которые способны выслушать голос против и позволить ему прозвучать? Разве не обернулось всё это в конечном итоге гибелью и крахом?.. Разве не клеймились предателями те, кто говорили – отхапывая подобно нацистам там и тут у Чехии, Словакии и Литвы, где вообще возможно, в конечном итоге оправдывают подобную политику и могут стать ее же жертвами?.. Кто это слышал тогда, в самом преддверии бездны… Кто желал слышать на кураже от успехов и во власти слепоты, в лживой уверенности в собственных силах, обратившейся вскоре крахом, шоком… параличом воли… утратой той способности бороться за свободу, которая, кажется была неотделима от слов Польша и «поляк»… Село, в которое они ехали, было на данный момент их единственной надеждой на спасение, и они конечно же боялись… кто не задрожал бы внутренне от волнения и сомнений в такой ситуации? «Кужин» пана Юлиуша держал гостиницу в Малой Цихе, почти у самых гор, близко к трассам, по которым летали сломя голову лыжники. Отбоя от посетителей не было круглый год и потому – хоть и стояла гостиница посреди маленького села и вдалеке от самого Закопане, в ней была такая исключительная по временам роскошь, как телефон… Они ехали по принципу «будь что будет» и были готовы к тому, что даже не просто неприятно поразят, а испугают пана Юлиуша Мигульчека своим появлением… поди знай… Пожилой человек, нашедший тихую нишу посреди бушующего ада, мог быть вовсе не рад появлению в своей жизни людей, настолько истерзанных и гонимых обстоятельствами, несущих в их судьбе словно бы все страхи, беды и опасности времени. Им просто ничего больше не оставалось…
Николай Боровой
Он – профессор философии Ягеллонского университета, смутьян и бунтарь, сын великого еврейского раввина, в далекой юности проклятый и изгнанный из дома. Она – вдохновенная и талантливая пианистка, словно сошедшая с живописных полотен красавица, жаждущая настоящей близости и любви. Чудо и тайна их соединения совершаются в ту страшную и судьбоносную ночь, когда окружающий мир начинает сползать в ад…
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ
Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI
Николай Боровой
© Николай Боровой, 2021
ISBN 978-5-0055-0712-9 (т. 3)
ISBN 978-5-0055-0713-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ТОМ III
Глава двенадцатая
КАЗНИТЬ ПРЕДАТЕЛЯ
Да, тогда они не встретились, не пришлось… Тогда звеньевой Чеслав Рындко, ждавший своего связного в обычном месте, лишь оторопело глядел, как на десять минут раньше условленного времени, этот человек летел по Минской в своей телеге, из которой уже рассыпались бидоны, отчаянно стегая старую клячу и заставляя ее нестись галопом. Перед этим Чеслав слышал отголоски выстрелов, и честно говоря – начал волноваться, потому что те неслись из глубины Минской, как раз оттуда, откуда и должен был со своей клячей приползти на встречу связной, молочник Гжысь. Волнение его было более общим – Чеслав думал только о том, не случилось ли чего-то опасного и неожиданного поблизости от его связного, не нарушит ли это запланированной встречи и не выйдет ли не дай бог из этого какой-нибудь серьезной беды. Однако – предположить какую-то прямую связь между молочником-связным, бывшим университетским профессором и этими выстрелами, чем-то происходящим вдали, в глубине улицы, ему конечно даже не пришло в голову. Даже такая простая, непроизвольная и само собой разумеющаяся для подпольщика в этих обстоятельствах мысль, что случилось неожиданное и трагическое – проверили молочника, к которому уже давно привыкли как к неотъемлемой части повседневной жизни предместья, нашли при нем что-то «не то», или что-нибудь по непонятной причине заподозрили, а он попытался сбежать и т.д. – не пришла в голову Чеславу, довольно опытному в своем деле человеку. Потому что прекрасно вжился связной за полтора года в свою «роль» и «легенду», приучил к своему облику тысячи людей, ни у кого никогда не вызвал подозрения или далеко заходящих вопросов, был надежен и известен в поведении и образе жизни… и чего вдруг подобное должно было бы произойти?.. И хоть полна жизнь под немецкой оккупацией всяческих неожиданностей, и может вызвать внезапное подозрение даже тот, к кому привыкли, да вообще – может статься какая-нибудь «облава», «общая проверка» или черт еще знает что, всё равно, об этом Чеслав не подумал. Но когда увидел несущегося в телеге по Минской, похожего на внезапно разбушевавшегося или обезумевшего медведя «молочника», увидел полетевшую галопом старую клячу, которая, казалось всегда, и шагом-то ходила с трудом и неохотой – сначала оторопел, не поверил себе и подумал спит, а потом понял, конечно, что случилось что-то всё-таки именно со связным, а что – предстояло немедленно выяснить. Потому что представшая глазам Чеслава картина прежде всего означала, что и связной-подпольщик, с его легендой и обстоятельствами, со снятым для него недалеко от этого места домом, и надежный, полтора года использовавшийся канал связи, провалены. И это было очень серьезно и очень плохо, подразумевало целый ряд последствий. И потому, конечно, требовало немедленной, продуманной реакции и оценки, ведь на подобные случаи есть четко обозначенная процедура, как говорят, «сворачивания удочек» и «заметания следов», а кроме того – «отработки» провалившегося подпольщика, и в соответствии с выяснением причин и обстоятельств – либо его спасения и перевода в другое, безопасное место, определения для него возможного по ситуации места проживания и круга деятельности, либо… Либо – это либо. Это то, что они сейчас едут делать со «Словеком» – соратником по подполью из другого звена, приданным ему для выполнения задания…
Основные обстоятельства выяснились быстро. За буквально полтора или два часа, слухи о нападении на немецкий патруль, о похищении прямо из под носа у немцев, на улице и посреди дня, заключенной или арестованной, которое совершил известный всему предместью, угрюмый и чуть странный, уже давно никому не интересный молочник, сформировались в целостную картину. Провал агента и канала связи – это раз. Счастьем было лишь то, что канал и работа связного были организованы очень умно, и ни сам провал, ни возможный арест совершившего налет на патруль «молочника», не могли причинить значительного вреда и представить опасность для большого числа людей. Тех же, которых событие всё-таки могло раскрыть или затронуть, надлежало немедленно перебросить из Варшавы на какое-то ближайшее время, до подробного выяснения ситуации. Совершена открытая антинемецкая акция, то есть агент позволил себе категорически, строжайше воспрещенный для участников организации поступок, причем никем не санкционированный. Позволил себе совершить подобное спонтанно, никого не уведомив, не понятно, из каких причин и мотивов, на свое собственное усмотрение, что является серьезнейшим, подлежащим строгому наказанию нарушением дисциплины, а кроме того – даже и без положенного наказания, снимает вопрос о возможности какого-либо его задействования в работе подполья. Такому человеку в принципе нельзя доверять. Это – два. В третьих – агент провалил этим поступком свою, тщательно и кропотливо выстроенную, важную работу в подполье, и подверг риску соратников… Да, пусть не столь значительному и не многих, но тем не менее. Дело в принципе. Такому человеку, помимо прочего, конечно же нельзя более доверять – кто знает, какая выходка возможна в следующий раз и чем она окажется чревата. Дисциплина и верность долгу – основа дела, и человек, который, как неожиданно выяснилось, по тем или иным причинам не способен на это, может нанести страшный вред. Таким людям не место в польском подполье, и конкретно – в структурах Армии Крайовой, которая создается как основа для будущей борьбы, как инструмент возвращения Польше независимости и государственности, когда для этого настанет историческая возможность, наконец – как единственный легитимный представитель Правительства в польском подполье, и в ней поэтому должны остаться только те люди, которым возможно безоговорочно доверять. Только те люди, которые способны быть верными дисциплине и долгу, общим установкам и целям общей для всех борьбы, существующим на данный момент приказам. Да где и кому вообще может быть нужна такая шушваль? Коммунистам? Да и им конечно нет, в первую очередь нет! Да, в отношении к методам борьбы с немцами они занимают иную позицию, противоположную той, которую официально спускает через Армию Крайову Польское правительство в Лондоне, и за сам факт нападения «левые» организации его конечно не осудили бы, но дисциплина и субординация! У «левых», которые работают с русскими инструкторами, с дисциплиной еще жестче и строже, кто об этом не знает! Нет, конечно – если есть общая установка на открытую и вооруженную борьбу, на восстание и проведение насильственных акций по отношению к немцам, тогда поступок агента мог бы предстать в ином свете… Тогда есть место для спонтанных акций и решений, исходящих из ориентации по обстановке, «на местности», как говорят. Но в том-то и дело – такой установки нет, подобного приказа никто не отдавал, более того – это строжайше запрещено, и оповещены об этом все. И тем более – в организации, в которой они служат. И еще более – для связного, который выполняет совершенно другую, тонкую и важную для общего дела, тщательно и долго выстраивавшуюся работу, и ему конечно объясняли это, когда инструктировали и готовили. Этот человек, не понятно из каких мотивов, по наитию или по безумию, позволил себе несанкционированную, категорически воспрещенную, подвергающую риску его главное дело акцию, нарушение дисциплины, вопиющее для любой подпольной или просто армейской, следующей долгу и приказам структуры… В армии, он что ли, чертов еврей, не служил? Возможно. Так глубоко в его биографии никто наверняка не копал, нет сейчас в распоряжении таких средств. Да подобное приемлемо быть может только в каком-то стихийном партизанском отряде, и то сомнительно… в разбойничьей банде – наверное. Эдакая шушваль и «хлопам» даже наверняка не нужна, точно. Короче – этому человеку нельзя более доверять: таков был немедленный и очевидный вывод, и слава богу, что с подобным выводом согласились все. Он будет наказан и кончит так, как безусловно заслуживает. Его не должно быть. И не будет, конечно – они-то со «Словеком», в отличие от него, делать дело, быть верными долгу и приказам умеют.
Этот вывод как-то враз вошел тогда в Чеслава, стоило ему лишь уяснить самые первые подробности и факты. Он ведь шел на встречу со связным, имея главное задание – присмотреться и проверить, дать личную оценку надежности того, такая директива была спущена из-за событий с Любомиром. Он помнит, как настраивал себя быть объективным и честным, как вспоминал для этого сложившийся в организации облик связного, всё положительное, что было известно о «молочнике Гжысе», об исполнении тем своих обязанностей. И за считанные мгновения всё перевернулось, стало однозначным и очевидным. Какое к черту доверие! Какая «объективность» и «честность» – что не ясно? Поступок этого человека однозначен по сути и говорит сам за себя, и не важно, какие именно мотивы им двигали!..
Треть часа заняло тогда у Чеслава сообщить о случившемся и необходимости немедленных решений, вне зависимости от подробностей и обстоятельств. Еще час или полтора – выяснить подробности, и до конца вечера он уже составил себе целостную картину, которую и доложил вместе со своими соображениями, четкими и ясными. Общие обстоятельства случившегося были установлены, оставалось только понять, что стояло за ними и событием как таковым, и для этого в тот же вечер состоялось собрание. Речь шла о неожиданном и каком-то совершенно необъяснимом поступке, походившем либо на срыв под влиянием личных, неизвестных причин, либо на предательство, и именно о последнем более всего побуждала думать логика в целом происходивших в подполье событий. Однако – хоть как-то поступок связного и случившееся событие всё же нужно было понять, потому что необходимо было принять решение. Очевидным было, что агент провалился и доверять ему больше нельзя, окончательное же решение требовало обсуждения. Вред от поступка связного, кстати, прямой и немедленный, пусть и не вылившийся в конкретные потери, всё-таки был – немцы опешили от подобной наглости, которой еще практически не было в обстоятельствах жизни под оккупацией, и полиция провела в два последовавших за событием дня облавы. Правда – не слишком большие и окончившиеся слава богу ничем, потому что меры предосторожности были приняты. Состоялось похищение заключенной или арестованной (точные подробности и до сих пор не известны), но как такового вооруженного нападения не было, никто не был ранен или убит, и возможно – немцы просто не разогрелись в этот раз на серьезные акции возмездия. Кроме того – развернувшиеся в еврейском гетто департации отнимали у немецких служб много сил и людских ресурсов, и по всей вероятности, им было просто не до серьезных разборок с неожиданно давшим о себе знать подпольем. Но дело было конечно не в этом. Вред, значительный и серьезный, был заключен в самом факте провала надежного, отработанного канала связи, и поражали обстоятельства случившегося – неожиданность, спонтанность, откровенное нарушение долга и существующих приказов. Опасность, причем колоссальная, была очевидна – в организации обнаружился человек, по непонятным мотивам нарушивший приказы и проваливший работу, которому более нельзя было доверять. Возможны были личные причины поступок, но сути дела и выводов это не меняло. Однако – Чеслав особенно подчеркнул это, когда докладывал – всё же нет оснований исключить возможность тайно осуществлявшихся связным «Мышь» контактов с лево-коммунистическими организациями подполья, подбивавшими его на насильственные акции и поступавшими так в желании повредить деятельности Армии Крайовой и тщательно соблюдаемой ею, предписанной Правительством, политике «выжидания и терпения», поколебать сам авторитет Правительства в изгнании и Армии Крайовой как единственного легитимного представителя такового. Чеслав и вправду, когда пытался понять суть и мотивы произошедшего, думал о подобном как о чем-то, более всего вероятном. Потому что мотивы срыва, совершенного связным и в общем конечно же необъяснимого поступка, были неизвестны, и понять так неожиданно случившееся было трудно. Тем более – когда речь шла о «Мыши»: надежном связном, честно и удовлетворительно делавшем свою работу длительное время, весьма предсказуемом и известном в образе жизни, поведении, характере поступков и т. д. И соответственно – надо было искать объяснение именно в чем-то подобном. Ведь даже из протоколов приема этого человека в СВБ следовало, что им двигало желание активно бороться и потому принимать посильное участие в деятельности подпольной патриотической организации, и в особенности отмечалось, что кандидат выглядит искренним и решительным… Так может и вправду – от жажды борьбы и конкретных, ощутимых действий, неразделенной в рамках работы связного и общем принципе деятельности СВБ и Армии Крайовой, человек потерял голову и контроль над собой? Тем более, что он еврей, и с его соплеменниками последние полтора года всё происходит более, чем жестко. Ведь поляков, начни сейчас немцы обходиться с ними точно так же, как с евреями (репрессии первого года оккупации всё же не были такими беспрецедентно жестокими), тоже было бы трудно удержать и от жажды возмездия и активного сопротивления, и от спонтанных акций. Тем более – что именно в этот день начались масштабные департации из гетто, и участь населяющих гетто евреев вырисовывалась еще более печальной, чем была до сих пор. И подобное каким-то образом тоже могло повлиять на настроения агента и подвигнуть того на неожиданный поступок. Такой момент тоже нельзя не учитывать, и Чеслав подчеркнул это. Возможно так же, что из этих мотивов связной вступил в контакт с коммунистическим подпольем, науськивающим население и патриотов-подпольщиков к вооруженной и насильственной борьбе, видя там возможность более близкой своим устремлениям, но по сути, как понятно, глубоко вредоносной, опровергающей авторитет и приказы Правительства в изгнании деятельности. Так или иначе – речь идет о предательстве, ибо присягал на верность связной именно организации СВБ, представляющей интересы и волю официального правительства, ныне сформировавшей и возглавившей Армию Крайову, и значит – был обязан соблюдать общую политику, приказы и установки организации. Чеслав в особенности настаивал именно на этой версии, поскольку связь с поднявшим голову в начале года коммунистическим и «левым» подпольем, могла быть гораздо более близкой агенту еще и вследствие его еврейской национальности, из-за силы «еврейской улицы» в левом движении даже и до войны, распространенности среди евреев соответствующей, зачастую откровенно коммунистической идеологии и т. д. Да и общая логика происходивших в подполье и жизни под оккупацией событий, побуждала думать и усматривать в произошедшем именно это, даже требовала! Ведь речь шла о неожиданном, трудном для понимания поступке вполне проверенного, надежного, длительно рекомендовавшего себя с лучшей стороны агента, и если чем-то и можно было по настоящему серьезно объяснить случившееся, то именно принципиальными вещами и процессами, хорошо всем известными. Усилением влияния «левого» подполья на население вообще, и на настроения активных патриотов из «национального» лагеря – в частности. Воздействием и эффективностью «левой» агитации, таким опасным разжиганием «левыми» и «коммунистами» стремления людей к открытой вооруженной борьбе. И недооценивать произошедшее, пытаться не видеть в поступке связного принципиальных вещей – безответственно, он подчеркнул это. Чеслав подчеркивал в выступлении так же и всем известное: что «левое» подполье – основной конкурент Армии Крайовой среди населения и мужественно настроенных патриотов, ее конкурент и в общем даже противник как представителя официального правительства. И конечно же – будет продолжать попытки колебать авторитет и позиции организации, перевербовывать ее членов, подталкивать на противоречащие общей политике насильственные акции и т. д. Чеслав призывал поэтому отнестись к случаю со связным с максимальной серьезностью и суровостью, как к очень внятной «ласточке» грядущей борьбы внутри самого подполья с коммунистически и «просоветски» настроенными силами – не менее опасными, чем немецкая оккупация, и представляющими значительную угрозу возрождению независимой польской государственности. О, перешагнувший за сорок офицер-артиллерист и всю зрелую жизнь – убежденный «пилсуцник», Чеслав не жалел в своей речи ни слов, ни пафоса, и опыта ему было не занимать! Он и в самом деле думал так, когда именно профессионально, честно пытался понять суть и причины произошедшего, ибо никакого иного, вменяемого и убедительного объяснения не находил, попросту недоумевал. Да – в отношении к деятельности в самой организации, совершенное является грубым нарушением дисциплины и серьезнейшим проступком. Но вполне возможно, что совершено это было всё-таки вовсе не спонтанно и по наитию, не во власти какого-то непонятного по мотивам, безумного порыва – ибо слишком уж ровным, спокойным и надежным в деле и образе жизни выглядел этот человек, а именно в следовании установкам и дисциплине, даже быть может конкретным приказам совсем иной организации. И Чеславу именно это казалось наиболее вероятным, и тогда – речь безусловно шла о предательстве, причем и самой организации, и спускаемой через нее, единственно приемлемой для настоящих патриотов Польши политики законного правительства. О предательстве, тем более преступном и опасном как прецедент, потому что Армия Крайова – единственный полномочный представитель официального правительства довоенной Польши. Та организация, которая преследует главной целью восстановление демократической и независимой республики довоенного образца, строго следует в ее деятельности законам довоенной республики, словно бы продолжает собой так трагически рухнувшее польское государство. И измена ей, ее установкам, приказам и политике, должна оцениваться как измена самой Польше, функционирующему в изгнании и легитимному правительству, самым жизненно важным национальным и патриотическим интересам! А потому – должна караться со всей возможной строгостью и ответственностью за судьбу общего национального дела, с ясным пониманием угрозы, которую заключает в себе подобный случай! Только Армия Крайова есть единственный представитель правительства, правомочный возглавлять подполье и если не полностью определять, то по крайней мере – контролировать его деятельность. Она же – единственный настоящий выразитель национальных польских интересов! Ведь «просоветская» ориентированность левого подполья, уже сейчас агитирующего за отказ от восточных, довоенных территорий Второй Речи Посполитой, предательски аннексированных русскими, всем известна и принципиально опасна для настоящих национальных интересов, противоречит действительно патриотической, национально ориентированной позиции! Да, в грядущей борьбе с немцами придется сотрудничать со многими организациями подполья – тем более, что они уже по факту созданы, но только Армия Крайова, подчиненная Правительству в изгнании, может возродить довоенное польское государство, хранит и несет саму его идею, движимо ею, и авторитет организации равносилен авторитету законного правительства и должен быть внутри подполья незыблем! И для утверждения и сохранения этого авторитета, во имя самых святых национальных и патриотических интересов, должно совершать наиболее суровые поступки, которые в иных обстоятельствах могли бы показаться чрезмерными! Организация «левого» подполья зимой в четкие, готовые к конкретным акциям боевые структуры, как это было справедливо и правильно понято, воочию показала, что совершенно иные силы – и извне, и из довоенного польской политики, предъявляют претензии и виды на Польшу, на возрождение польского государства и организацию польской жизни, и соответственно – на возглавление борьбы с оккупацией и деятельности подполья, на завоевание через это авторитета у самого широкого населения. Говоря проще – за этим конечно же стоят виды и претензии Советов, русских в их вечной имперской политике! Чеслав видел понимающие кивки и взгляды, когда произносил эти слова. Опасность этого трудно недооценить, и потому – авторитет Армиии Крайовой и ее верховная роль в подполье, жизненно важны и должны быть незыблемы, беспрекословны. Верность приказам и политике Армии Крайовой – это лояльность легитимному и пекущемуся о возрождении и будущем страны правительству, настоящим национальным и патриотическим интересам, а ослушание, совершенное по сговору или личным мотивам и побуждениям – измена и предательство, которые должны сурово караться! Причем измена даже не как таковой организации, а именно нации и ее интересам, законному и представляющему ее интересы правительству! Борьба за авторитет и верховную роль в подполье Армии Крайовой, за соблюдение официальной политики «выжидания» и отказа от насильственного и вооруженного сопротивления, за беспрекословную верность членов организации приказам руководства и Правительства в изгнании – это борьба за будущее и судьбу Польши! За то, чем будет страна, когда два зверя, разорвавшие ее на части три года назад, вдоволь изгрызут друг друга и прольют крови. А значит – в этой святой для каждого поляка борьбе, нельзя знать снисхождения! И потому – случаи, когда речь идет о предательстве, о нарушении установок и политики организации, скорее всего совершаемом либо под влиянием другой организации, либо вообще из-за тайного перехода в нее и двойного сотрудничества, должны оцениваться наиболее реалистично и сурово! И караться соответственно. Иначе – конец дисциплине, конец авторитету Правительства и Армии Крайовой, конец надеждам на возрождение былой Польши, потому что «левые» силы поведут нацию и страну в совершенно другом направлении. И то, что речь идет о редком пока и отдельном случае, ничуть не должно слепить глаза и уводить от трезвой и суровой оценки! Этим он тогда закончил, различив отклик и понимание в глазах присутствующих. Он, собственно, и говорил тогда всё это ради такого понимания, чтобы добиться того и повести мысли и настроения соратников в очень определенное русло. Он верил во всё это, конечно же, почти не сомневался, ибо никакого иного объяснения найти и сформировать из имеющихся сведений было не дано. И в общей, принципиальной оценке поступка связного, сути и причин оного, он был уверен – не ошибался. И потому искренне и вдохновенно, не жалея пафоса – без льющегося через край патриотизма и привычки к речам, простому родом дослужиться до майора артиллерии было почти не возможно, Чеслав убеждал собравшихся в кажущейся ему правильной версии события. Впрочем – до конца не давил и не настаивал. И готов был принять любое решение собрания, даже если бы оно было иным от того, к которому он подталкивал достаточно внятно. Дело было в другом. Глядя в глубину души, Чеслав обнаруживал там страх. И вполне понятный, даже неотвратимый страх. Обстановка в подполье была ему хорошо известна – именно от нее проистекали директивы, с которыми он шел тогда на встречу со связным. Подполье «пилсуцников», которому предстояло сплотиться, готовиться в нужный момент вступить в борьбу с немцами, но прежде – противостоять «левым» и утвердить контроль над всеми организациями, безжалостно и откровенно «чистили», выкашивая любого, казавшегося не до конца лояльным или слишком уж своевольным. Так происходило повсеместно – от Варшавы и Вроцлава до лесных отрядов под Тарнополем или Пинском. И вероятность, что в случившемся событии тень и подозрение падут в первую очередь на него, «зама» таинственно исчезнувшего, а на деле конечно же казненного Любомира, была очень сильна. А это совсем не входило в его планы. Он еще хотел пожить на этой земле и послужить родной стране. И единственным умным решением в такой ситуации было «сгущать краски» и настаивать на самой худшей версии случившегося, играя на общих, серьезно и повсеместно обсуждаемых опасениях. Он пришел к такому выводу, пока шел на собрание, одновременно продумывая и речь. Постановят что-то другое – ради бога, но он высказал самое тревожное и обязывающее к ответственным шагам понимание поступка связного. Будут соратники правы и окажутся мотивы поступка сугубо личными, к борьбе внутри подполья отношения не имеющими – не страшно. Проступок агента всё равно серьезен и навряд ли того допустят к продолжению работы, а то, что он, «звеньевой» Рындко, сгустил краски – так он просто патриот и болеет за дело! «Думать худшее лучше, чем в страшной судьбе родной страны носить на глазах очки слепого!» – так он сказал бы в этом случае, и наверняка был бы понят. Ошибутся же соратники по делу и окажется чертов молочник и вправду предателем, как скорее всего и есть – он был догадлив и предупреждал! Так и эдак, а единственным выходом из серьезнейшей передряги, в которую он попал вместе с доставшимся ему в наследство от Любомира связным, было настаивать именно на самой худшей и принципиальной по сути версии случившегося. В конце концов – не он принимал этого человека в организацию, так почему из-за предательства или безумного поступка того, он сам должен не приведи Господь Иисус пропасть, разделить судьбу его недавнего командира?! Он не желает этому еврею-профессору зла, Господь Иисус видел его чувства и мысли как на ладони! Он наоборот – идя на первую встречу, настраивал себя быть предельно честным, ибо «чистка рядов», развернувшаяся в последние месяцы, в глубине души была ему противна, а не только пугала. Но в том, что «молочник» совершил безумный и неприемлемый поступок, его вины нет, а позволить «под общую метлу» сгрести в яму и себя он не даст! И это побуждало его почти до конца верить в свою версию произошедшего, со всей проникновенностью, на которую был способен, стараться убедить в ней собравшихся, но до последней черты очень умно не доходить. Его версия событий к тому же подтверждалась и тем фактом, что царило совершенное молчание. Существует процедура связи на случай провала. А «молочник» пропал, на связь не вышел. Судьба денег, которые он должен был передать на встрече – неизвестна. И это конечно утверждало в самых худших предположениях, и лично он, Чеслав Рындко, «Круль», едущий со «Словеком» для того, чтобы осуществить принятое решение, практически не сомневался в выводах касательно произошедшего. Он боялся другого – что примут недостаточно суровое решение, отнесясь и к хорошей работе этого Гжыся и к известному вышестоящим членам организации прошлому того… Оттого-то он даже не столько «сгущал краски» в докладе, сколько пытался заострить внимание на наиболее принципиальном и опасном, что скорее всего было причиной произошедшего. И будучи почти полностью уверенным, что это действительно так, просто стремился убедить тех, от кого зависело окончательное решение. Отдельно, конечно же, намекнул и на факт вербовки «Мыши», связного-«молочника», Любомиром, пересилил себя и задушил протест в душе – Любомиру и имени того уже не поможешь, а разделить судьбу недавнего командира, только приступив к руководству «звеном» и сразу же попав в серьезнейшую переделку, он не намерен. И если надо для этого еще раз окунуть лицо где-то тайно закопанного покойника в грязь – что же! До события с «молочником» он верил в честность Любомира и несправедливость устранения того почти безоговорочно, потому так и бесила его в душе, заливала гневом развернувшаяся «чистка рядов» с ее совершенно безумной и в большинстве случаев слепой подозрительностью, неразборчивостью и прочим. А теперь, будучи почти «на все сто» уверенным в виновности связного-«молочника» в предательстве – мнение его крепло с каждой следующей мыслью о событии и от слова к слову в распаляющейся и начинающей звенеть пафосом речи – честность Любомира и несправедливость ликвидации того, уже порождали в нем немалые сомнения. Ведь если молочник предал, нарушил приказ и намеренно совершил открытую антинемецкую акцию, перебежав к коммунистам или просто попав под их влияние, то вербовка его Любомиром и сама фигура исчезнувшего командира звена предстают уже в совсем другом свете, и наверное в высших кругах организации решение о чьем-то устранении принимается всё-таки не «с кандалыка», не просто так! И всё это еще более уверяло его в предательстве чертового еврея-связного, наворотившего своим поступком кучу неприятностей для дела и него лично, в правоте его версии события. И он старался, сколько возможно и не доходя откровенно до последней черты, убедить в ней собравшихся, а зудящий в глубине души страх, что судьба Любомира для него более чем вероятна в сложившейся ситуации, придавал ему одновременно и вдохновения, и осторожного чувства меры. Он говорил собравшимся соратникам то, что почти все более-менее значимые члены организации знали и обсуждали между собой при любой выпавшей возможности, о чем почти каждый говорили радио и печатные листки «республиканского» подполья. Он делал это, рассчитывая зацепить их, найти в их сердцах отклик и побудить их к правильному, столь нужному для его собственной безопасности решению, по крайней мере – чтобы убедить их, что он организации и ее идеалам верен и старается относится к делу, и ко всему происходящему в деле с максимальной серьезностью и ответственностью. Ему нужно было в сложившихся обстоятельствах прежде всего выжить и удержаться на только что полученной должности звеньевого. Суровым решением собрания в отношении к оступившемуся агенту – хорошо, правильным поведением и продуманно произведенным впечатлением – еще лучше. Где-то в самой глубине души, на краю ума – насколько он вообще был способен говорить себе правду об обуревающих его чувствах и побуждениях, Чеслав понимал, что хочет именно самого сурового, вполне предсказуемого и заранее представленного им решения. Ведь попытаться хоть намеком выступить на собрании в защиту или оправдание связного, означало поставит себя даже в гораздо большую опасность, быть может – оттого он и выбрал «сгущать краски» и настаивать на суровости решения и приговора, на самой худшей оценке случившегося события, немало постаравшись убедить себя, что его версия верна и объективна, а не только продиктована страхом за собственную шкуру и вынужденностью умно и умело лавировать. И он в момент речи верил в нее, искренне и почти полностью был убежден в ее правильности, ему даже не надо было особенно стараться для этого, потому что и само случившееся событие, и любое логичное размышление о том опытного профессионала, неотвратимо приводили к ней. Ведь и сам поступок странен, не укладывается ни в какие рамки и представления, и сбрасывать со счетов общие процессы и события в подполье последних месяцев тоже конечно нельзя, попросту безответственно! Но капли сомнений всё же оставались и где-то в самой глубине души свербили. И потому, Чеслав в той же глубине души и последним краем ума понимал, что суровое решение соратников по подполью нужно ему, чтобы сомнения отпали и он сам обрел окончательную уверенность. Он что же – будет продолжать сомневаться, когда старшие и авторитетные члены организации разделят его точку зрения, проверят ее собственными доводами и средствами и превратят ее в решение, в приговор? Да помилуйте! И Чеслав не жалел пафоса и проникновенности, не утомлялся брать время, чтобы вновь и вновь возвращаться к вполне трезвым доводам. Еще раз, не побоявшись затянуть, напомнил о том, зачем была создана Армия Крайова, какую опасность для национальных интересов и возрождения довоенной Польши представляют «левые» организации подполья и их усиление. Что позиция руководства однозначна: Армия Крайова есть единственный представитель воли и политики законного правительства, деятельность иных организаций – не легитимна, особенно – если не подчиняется приказам Армии Крайовой и претендует на самостоятельность. Что переход членов Армии Крайовой в другие организации, в особенности – в «коммунистические» и «левые», деятельность которых противоречит национальным интересам и воле законного правительства, считается предательством и должен караться соответственно. Что речь в таких случаях идет о предательстве не просто самой организации, а законного правительства, национальных интересов и борьбы за возрождение независимой довоенной страны. Что подобные случаи принципиально опасны как прецедент, и именно это надо со всей трезвостью видеть в поступке связного «Мыши». Что недопущение и пресечение подобного есть жизненно важная задача, и в ее решении нельзя считаться со средствами. Что борьба с «левым» подпольем не менее важна, чем будущая борьба с немцами, есть борьба за само будущее Польши, за ее возрождение в довоенном формате. Он «звеньевой», в подотчетном ему подразделении случилось чрезвычайное событие, он имел поэтому право первого слова и подробного доклада, и использовал это право по максимуму. В общем – сделал всё, доступное ему, чтобы честно и грамотно подать событие в «звене», которым руководит, и побудить при этом к правильному с его точки зрения решению. И слава богу, он не ошибся – ни в своих расчетах, ни в понимании случившегося! Он конечно же выстроил правильную версию и коллеги просто разделили ее, не надо было даже прилагать особых душевных усилий чтобы их убедить – ни как иначе понять и оценить случившееся было нельзя. А сомнения были просто его «чистоплюйством» как и вправду порядочного и верного делу человека, начавшего службу еще при «великом маршале» офицера, для которого слова «справедливость» и «честь» что-то значат! Решение принимали несколько дней. Возможно – ждали связи от исчезнувшего агента, учитывая прошлое и необычную фигуру того, старались максимально соблюсти справедливость и процедуру. Хотя навряд ли это смогло бы чем-то помочь и в чем-нибудь переубедить – уж слишком серьезен проступок и слишком откровенная опасность таится в нем как прецеденте, да и невозможность больше доверять этому человеку очевидна. А может – просто аккуратно проверяли, что связной не схвачен немцами и не погиб, по крайней мере – что об этом нет доступных сведений. Так или иначе, решение принято, правильное и однозначное – казнить предателя, ликвидировать члена организации, посмевшего нарушить приказ и дисциплину, не подчиниться строгим и совершенно ясным, общим для всех установкам. И преподнести это умело и умно – и с «намеком», в назидание другим, и не выставляя откровенно и напоказ развернувшуюся внутри самого подполья борьбу: как казнь немцами польского подпольщика. Для этого они и трясутся со «Словеком» на поезде в Радом. В Радоме будут в обед, в сельце Конске – ближе к вечеру. Посветлу такие вещи не делаются. Потом – круг по западному направлению, обратно в Варшаву. Он там, конечно же там, где ему еще быть! Он, Чеслав, с самого начала подумал это, хорошо помня дело «молочника». И когда на него возложили осуществление вынесенного приговора, то сразу же, но аккуратно, чтобы не спугнуть, через десятые руки проверил – там. Да куда ему, со всей его историей до подполья и во время того, было еще сейчас бежать? Казнь они должны провернуть вдвоем – порядок требует свидетелей и коллективной ответственности. Кроме того – нужно всё-таки выяснить для отчета, что же там конкретно произошло, и потому тоже нужен свидетель. Да, вонючий еврей и предатель навряд ли расскажет правду, но всё равно – для точной и цельной картины нужно узнать напоследок и его версию, этого требуют устав и процедура, и еще – нужно забрать у него обратно деньги. Конечно же. А вот тут нужен подход. Да и в целом, для осуществления задуманной акции нужен умный и грамотно найденный по ситуации подход. Общий принцип, кажется, должен быть таков – не вызвать подозрений, представить встречу как дружественную попытку соратников по подполью разобраться в произошедшем, вообще тревогу за важного агента (он и вправду, нельзя не сказать, делал свою работу хорошо) – куда исчез, почему, что случилось? Почему, как положено, не вышел на связь и не обратился за помощью? Представить всё как дружеский разговор, результаты которого должны быть донесены до самого верха. Но не как отчет об осуществленной казни, конечно – усмехается Чеслав, а для выработки решения, как же задействовать пана Гжыся, агента «Мышь», дальше и правильно поберечь его после совершенного им необдуманного, но такого понятного сердцу каждого патриота поступка, в условиях необходимости для него теперь покинуть Варшаву. Он, Чеслав, в себе-то уверен, в нужный момент он сможет и притвориться, и надеть на лицо самую искреннюю доброжелательность, и построить правильно разговор, и то, что Гжысь не знает его в лицо, увидит его в первый и последний раз, только на руку целям. Он не уверен в этом «Словеке». Вроде б не сопляк и есть, как сообщили, какой-то опыт в подполье, а посмотрите на его лицо!.. Все два часа пути очевидно думает только о деле, ибо участвует в ликвидации в первый раз, и посмотрите – глаза округлены, желваки на скулах через каждую минуту играют, а общее выражение на лице – ненависть, предельное напряжение и готовность убивать. Так дело не пойдет. Он может в решающий момент выдать истинные цели их прибытия к «пану Гжысю» и черт знает как усложнить дело, вообще всё испортить… Чеслав уже несколько раз выходил с тем в тамбур и объяснял ему необходимость вести себя умно и выдержано – и пока ничего не помогает. Даст бог, хоть во время начавшегося разговора и дела он возьмет себя в руки и поведет себя правильно, умно, как должно по ситуации – ведь не в бирюльки же играть вызвался. Чеслав еще вот о чем думает… его поразил сам поступок… Да-да – поразил, где-то даже с оттенком уважения. Ведь этот «Гжысь» в прошлом – не офицер и не профессиональный подпольщик, а университетский профессор, интеллигентишка и червяк, если копнуть… и делая то, что делал, он ведь не мог не понимать сути и ответственности, которую придется нести. А посмотрите – что сделал и как! Какая дерзость, смелость, решительность! Какая способность моментально, на месте ориентироваться в ситуации и имеющихся в ней возможностях! Да на такое решительности не хватило бы даже у него, Чеслава Рындко, кадрового офицера Войска Польского, встретившего свой последний бой в Бресте, 16 сентября 1939 года! А этот – сделал, провернул, и на волне решительности всё вышло. Сделал то, на что верное правительству подполье до сих пор не осмеливается. Правильно не осмеливается, конечно. В том, чтобы саблей махать да с кулаками бросаться, настоящего патриотизма нет, этого-то все хотят в большей или меньшей степени! Патриотизм в выдержке, мудрости и умении исполнять приказ, отставлять в сторону многое во имя главной цели, которую надо хорошо видеть и сознавать! Да, страшное приходится на своих глазах из-за этого терпеть, и очень важным пренебрегать. Он, Чеслав Рындко, офицер-артиллерист, не любит евреев, к примеру, и даже сильно. Однако и он содрогается, когда видит, что делают с евреями немцы… что, если уж говорить по всей совести, вынуждены позволять делать немцам поляки и патриоты-подпольщики, верные приказам и официальной политике, главным целям. Во имя будущего Польши, которое требует терпения и мудрости, умения ждать и выживать, мириться и с тем, быть может, с чем сердце соглашаться вовсе не хочет. И понимает конечно, что если бы тоже самое делали сейчас с поляками, а не польскими евреями, то всё было бы иначе – били бы во все колокола, отдавались бы совершенно иные, быть может более близкие и любые сердцу приказы. Да, это так. Это правда. Но до тех пор, пока можно сохранять терпение и выдержку – это надо делать, таков всем известный и беспрекословный приказ. И приказы на сегодня таковы, каковы есть, и им нужно следовать. И тот, кто не желает этого делать, по тем или иным причинам, должен быть на науку остальным наказан. И будет наказан. Только нужно всё очень осторожно и продуманно провернуть – то, что сделал и на что решился этот бывший профессор и «молочник», лишний раз внушает тревогу: поди знай, на какой выверт он внезапно окажется способен, если почувствует опасность и назначенный ему конец! Ничего, ничего. Он, Чеслав Рындко, не даром профессиональный и опытный военный, да и этот «Словек», приданный ему в спутники, тоже всё-таки не пальцем делан и крепкий парень, хоть и держать себя в руках не умеет. Ничего. Они тогда не встретились, да… Что же – сегодня у них будет такая возможность. Взгляд Чеслава Рындко, «звеньевого» из Армии Крайовой, начинает при этих мыслях блестеть сталью и ненавистью, а выражение его лица на пару мгновений уподобляет его сидящему рядом, очевидно думающему о предстоящем и внутренне готовящемуся «Словеку». Да – если в произошедшем с Любомиром его еще мучили какие-то сомнения, то этот приказ он исполнит с удовольствием и без малейших колебаний! Ведь этот человек повел себя со всех возможных точек зрения недопустимо для подпольщика, и должен быть сурово, по справедливости наказан! Доверять ему нельзя и быть его не должно. Даже если бы организация и приняла решение о вступлении в вооруженное сопротивление, то во-первых – такие акции должны быть строго санкционированными и спланированными, а во-вторых – конкретно он ни при каких обстоятельствах не имел права раскрывать и обнаруживать себя, фактически провалиться, совершив подобный поступок! Он связной, его работа и «легенда» долго и кропотливо выстраивались, обладали исключительной важностью для общего дела! Он ни в коем случае, чтобы не происходило перед его глазами, не имел права совершать подобного и раскрывать себя, а поступив так, предал и нарушил долг! Такому человеку нельзя более доверять, и потому его не должно быть. Это понятно, и точка. И совершенно не важно, по каким причинам он поступил так – из-за личных мотивов, не ясных и не понятных (что – вдруг захотелось погеройствовать?), или из-за призывов коммунистов к борьбе, воодушевивших и наложившихся на собственную «жажду действия». А «пан молочник», помимо прочего, еще и нарушил строгий, общий для всех членов организации приказ, выражающий волю и прямую политику законного правительства, и изменил этим долгу настоящего патриота, будущему нации и ее истинным интересам! И если он совершил это, поддавшись влиянию и агитации «левого» подполья, в особенности близкого ему как еврею, то тем более велика его вина, и тем суровей он должен быть наказан, потому что прецедент таит в себе огромную опасность. «Леваки» и коммунисты призывают к вооруженной борьбе и делают это недаром – их призывы отзываются в умах и сердцах людей, факт. Однако, делают-то они это вовсе не в интересах Польши, а наоборот – вопреки таковым! За всем этим стоит конечно игра Советов, которые планируют не допустить возрождения довоенной Польши, и потому стремятся ослабить проправительственные силы и организации, вовлечь их и население в целом в кровавую мясорубку, в масштабное вооруженное противостояние, совершенно не нужное сейчас и не своевременное, способное лишь нанести вред. Советы стремятся к очевидному – укрепить влияние собственного, выгодного их политике лагеря: отсюда призывы к борьбе, игры на настроениях людей, попытки завоевать этим сердца и умы! А настоящая цель для патриотов состоит сейчас совсем в ином – терпеливо копить силы и готовиться выступить в тот момент, который наиболее подойдет для восстановления независимости, будет сочтен таковым законным правительством. И дисциплина патриотов, их беспрекословное следование политике и приказам законного правительства сейчас главное, с этим связана сама надежда, и спускать нарушение дисциплины нельзя! Борьба Армии Крайовой за авторитет, контроль над подпольем и соблюдение провозглашенной Правительством политики – это борьба за само будущее Польши, всё так. Возрождение довоенной и независимой Польши зависит только от этого, и усиление влияния «левых» во всех смыслах чревато крахом надежды и самой идеи. Армия Крайова олицетворяет идею довоенной Польши, борьбу за ее возрождение, волю законного и унаследовавшего ее правительства, и так должно быть, от этого зависит всё. Борьба «левого» подполья за усиление и авторитет, за разворачивание вооруженного противостояния и ключевую роль в нем – это затеянная Советами игра на ослабление проправительственных, республиканских сил, игра с очевидной и длительной перспективой: вершить судьбу и жизнь Польши, не допустить ее возрождения и независимости. И если люди вообще, и подпольщики из «национального» лагеря – в частности, начнут массово поддаваться «левой» агитации, нарушать дисциплину и жесткий приказ, провозглашенную законным правительством политику, или еще чего доброго – станут перебегать и идти к «левым», обольщенные идеей «немедленной вооруженной борьбы», не сознавая всей ее опасности и ложности, необходимости сохранять выдержку… О, вот тогда грозит настоящий крах, который только сыграет на руку врагам Польши! Этого Советы и хотят, конечно, кто не понимает! И поскольку в случае с «паном молочником» ничего иного, увы, представить и подумать нельзя, то наказание того тем более важно, и полученный им и «Словеком» приказ всецело справедлив и должен быть исполнен как следует! Армия Крайова должна сохранять свой авторитет незыблемым, ибо в ней – надежда на возрождение Польши, оплот борьбы за это и самой идеи, и карать за предательство и нарушение приказа обязана сурово! Ведь все понимают, для чего и почему была создана Армия Крайова, почему так спешно и мощно разрозненное, состоящее из множества организаций «республиканское», верное правительству подполье, было преобразовано в огромную военизированную организацию с жесткой структурой, готовую к действиям, о масштабах и возможностях которой дано догадаться даже обычному «звеньевому». Сохранить влияние на ситуацию в стране законного правительства и близких, лояльных ему сил. Сохранить власть правительства там, где осталось еще хоть какое-то место для польской власти. Сохранить контроль правительства и «национальных» сил над жизнью, деятельностью и борьбой подполья, над происходящими в подполье процессами, вообще – над самой жизнью страны в условиях оккупации. Не допустить укрепления «левых», с воцарением которых возрождение довоенной независимой Польши станет невозможным. И именно потому, в первую очередь, так поспешили создать Армию Крайову, что «левое» подполье внезапно сорганизовалось – понятно, с каким заделом, под чьей опекой и кем вдохновленное! Дело ведь не только в том, что нацистский зверь впервые надорвался под Сталинградом, забрезжила надежда и стало необходимым конкретно думать о том, как бороться за возрождение независимой Польши. Дело прежде всего в том, что на сцене появились другие игроки, движимые внешними силами и далекими от национальных интересами, стремящиеся повести страну в совершенно ином направлении. Ведь борьба Армии Крайовой с «левым» подпольем и за верховную власть – это борьба за возрождение и независимость Польши, за ее судьбу. Вопрос прост – Польша будет тем, чем была до войны, пока два зверя не разорвали ее, либо же тем, что выгодно и удобно Советам, которые, кажется, рано или поздно сумеют сломать нацистам хребет и в любом случае – через «левое» подполье откровенно претендуют решать, какой быть Польше. Даже он, простой «звеньевой», это понимает… да им собственно и разъясняют это. И главное – сохранить политику «выжидания», мудрого и осторожного терпения, не дать вовлечь широкие слои населения и патриотов в напрасную вооруженную борьбу, из-за несвоевременности обреченную на неудачу и грозящую погубить все самые трепетные надежды, цели и возможности! И во имя этой политики, во имя главных целей – что делать, будущее и независимость нации важнее! – приходится допускать совершение страшных, если призадуматься, вещей, пренебрегать простым моральным долгом и ответственностью по отношению к реалиям. И уж если на собственных глазах – во имя главных целей национальной борьбы, ради терпения, выдержки и сохранения сил – допускают сотнями тысяч вывозить евреев в концлагеря и там уничтожать, и даже не отдают приказ взрывать железнодорожные пути, то казнить одного еврея-предателя, провалившего работу, нарушившего приказ и долг, сам бог велел…
Войцех спокойно курит трубку и наслаждается прохладным, медленно наступающим вечером, когда слышит легкий стук в ворота. Кого могло принести в такое время – непонятно, но идет открывать он совершенно спокойно. Он вообще – после всех случившихся событий – чувствует себя как-то очень уверенно и спокойно… начал полагаться на себя, стал убежден в своей способности сориентироваться в ситуации и почти любую ситуацию разрешить. В иные времена, посмотрев на себя со стороны с привычной и критической иронией, он сказал бы себе что-то вроде «э, брат, да тебя понесло, задрал ты нос и стал слишком уж самоуверен!» И наверное – чуть осадил бы себя и вспомнил про осторожность. Он ведь потому и сумел почти полтора года отработать связным в центре Варшавы и не то что не провалиться, а даже подозрения не вызвать – был продуманно и предельно осторожен, тщательно соблюдал правила и предписанные процедуры. Как учили. Но ныне – он чувствовал себя почти героем. Ведь в глубине души он всю зрелую жизнь, чего уж таить правду, чувствовал некоторую «ущербность» что ли своего белого университетского воротничка – мол, в лицо смерти-то не глядел и ружья с привинченным штыком в руках не держал, и разве же мужчина, гражданин, борец? А уж после того вечера в университетском дворе… да что и говорить… Но спасение Магдалены, его неожиданное для самого себя удальство на Минской, да еще такое успешное по результатам, несмотря на все тревоги и более чем непростые обстоятельства, вселили в него уверенность и спокойствие. Значительную долю тех, по крайней мере. Он теперь не только чувствовал себя в ситуации решительно и твердо, а еще и словно сумел закрыть большую часть того счета с собой. Заглушил, а может даже и искупил перед собой чувство вины за целиком овладевший им, почти обезумевший его тогда страх. Он полтора года успешно и опасно работал связным, каждый день рисковал жизнью. Но только сумев неожиданным поступком спасти Магду, вырвать ее из лап немцев, он впервые почувствовал, что хоть немного простил себя. И еще – впервые по настоящему ощутил себя на равных с соратниками по подполью, большей частью кадровыми военными, перед которыми из описанных причин всё время в глубине души тушевался. И стал необычайно спокойным и уверенным в себе, словно до смешного, вопреки кошмару и зыбкости сложившихся для него с Магдаленой обстоятельств, почувствовал себя хозяином тех. Есть мгновение, оно надежно и удалось выжить – и слава богу. А дальше посмотрим. Он сумеет разобраться, чтобы ни было. И потому, услышав стук, он снимает тяжелое, служащее запором бревно обстоятельно, неторопливо, не испытывая даже тени тревоги и продолжая пыхтеть зажатой в зубах трубкой – с какой стати портить долгожданное, настраивающее душу на добрый лад удовольствие? Да и чего ему, похожему на медведя громиле, не полагаться на себя, и кого бояться в сельце Конске, будучи в доме у своего друга Божика чуть ли не на правах хозяина? Уже давно у них повелось, что ему, как самому хозяину, разрешено открывать ворота гостям. В проеме ворот взгляду Войцеха предстают два совершенно незнакомых, одетых по городскому человека… оба среднего роста, у одного вид весьма неприветлив. Всё сразу должно было бы вызвать в нем догадку, однако летний вечер уж слишком спокоен и хорош, не предвещает ничего тревожного, и этого не происходит. Он думает поначалу, что перед ним два заблудившихся или не успевших посветлу уехать человека, откуда-нибудь из Радома, а может даже из Люблина, которые ищут совета, вероятнее же всего – ночлег. Он уже собирается сказать, что хозяин дома на ночлег не берет, как вдруг слышит:
– А правда ли, что я видел пана однажды в Познани, но только торговал он тогда не молоком, а галантереей?
Эти слова заставляют Войцеха на секунду опешить, задержать дыхание и даже немножко испугаться. Это пароль, используемый только для установления срочной или специальной связи. С таким паролем к нему имели право обратиться только старшие в структуре организации члены, к примеру – если бы кто-то стал его новым непосредственным начальником вместо Любомира, то «распознать» того он должен был бы именно так. Он пытается вглядеться сквозь сумрак в лица обоих и ни одного, ни другого не знает. Очевидно только одно – они из организации, он наконец-то дождался гостей из Варшавы. Он конечно рассчитывал увидеть Любомира, но мало ли… В любом случае – слава богу, наконец-то эта тягостная, повисшая в воздухе ситуация разрешится и он сможет объясниться, расставить всё на свои места. Отвечает автоматически – «да, я три года жил в Познани, пока не стало совсем не вмоготу», впускает обоих во двор. Тот, который видом полюбезнее и поприветливей, представляется как «Круль», второго называет «Словеком». «Круль» – старший, он теперь вместо Любомира. А почему нет Любомира? Того повысили, он теперь занимается другими делами. Они со «Словеком» прибыли к пану Гжысю выяснить, что же тогда случилось на Минской, почему не состоялась встреча, на которую «Круль» пришел вовремя? Где был пан Гжысь, что случилось? Почему пана Гжыся не было в тот вечер дома, почему он вынужден был уехать из Варшавы? В организации волнуются, ведь пан Гжысь – важный связной, и очень важна его работа! Чеслав специально делает вид, что ему неизвестны подробности, рассчитывает услышать рассказ так сказать с «чистого листа», дает этому человеку волю лгать и рассказывать, что вздумается, и удивлен, что «молочник» вправду принимает это за чистую монету да и вообще – ведет себя несколько не так, как предполагалось, кажется чуть ли не рад, невзирая на первый испуг, их появлению. «Да» – говорит – «слава богу, что вы наконец-то приехали. Почему так долго? Что, трудно было понять, что я здесь, что мне больше некуда было ехать? Да, я знаю, я должен был выйти на связь. У меня не было возможности. Я не мог отлучаться отсюда надолго, так сложились обстоятельства… ну, вы сейчас поймете… Пойдемте в дом, сейчас в любом случае будет ужин, сядем и заодно всё обсудим». Чеслав аккуратно пускается в возражения. Пан Гжысь понимает, что им надо поговорить о серьезных вещах и у их разговора поэтому не должно быть лишних ушей, процедура это исключает. В доме разве никого нет? «Конечно есть, Божик, семья, Магдалена. Да кого я должен стесняться – Божика? Так он с самого начала знал о моем вхождении в подполье, сам же меня через пана Матейко и сосватал. Вы же должны знать эти подробности, если и вправду теперь вместо Любомира. Дело-то мое конечно читали?» «Да, естественно. А пан Божик, простите, знает о том, что произошло в Варшаве, про что вы должны рассказать нам? Вы с ним делились?» Этот вопрос человек, назвавшийся «Крулем» задает с короткой, но заметной сталью и остротой во взгляде и Войцех, по наивности души уже готовый признаться, внезапно осторожно сдает назад. Поди знай, чем осведомленность в событиях может обернутся потом для Божика. «Конечно нет, ни в коем случае. Я же знаком с правилами. Божик знает просто, что я отпущен в отпуск на несколько недель, чтобы позаботиться о чудом спасенной из под гестаповского ареста Магдалене, никакие подробности произошедшего ему не известны».
– Очень хорошо, пан Гжысь, мы и рассчитывали на вашу опытность! А Магдалена – это кто, простите?
– Магдалена – это женщина, которую я тогда вырвал у немцев из рук на Минской вместо того, чтобы прийти на встречу с Любомиром… ну, то есть с вами, выходит… Да пойдемте, я всё равно должен познакомить вас, чтобы объяснить суть произошедшего, иначе не будет понятно.
– Нет, пан Гжысь, не стоит… давайте поступим так. Вы пригласите вашу Магдалену сюда, во двор, и мы в приятной темноте и свежести, без лишних ушей поговорим, а хозяину, пану Штыблеру, пожалуйста, не говорите, кто приехал и почему, просто скажите, что хотите посидеть с Магдаленой во дворе.
Войцех смотрит быстро и пристально на этого «Круля»… да нет, Божику он конечно скажет, что к чему, просто попросит не подавать вида, и деньги у того сразу возьмет. А вот пану «Крулю» сообщать подробностей не надо.
– Да, пусть будет так, только вам придется с товарищем подождать. Магдалена не очень хорошо себя чувствует… ну, вы поймете… И мне, к тому же, надо вынуть деньги и отчет, которые я тогда так и не смог передать.
Они соглашаются, и пока «молочник» уходит за этой Магдаленой и деньгами, Чеслав начинает быстро и четко думать, выстраивать в голове все впечатления. Он поражен, почти всем. Перед ним – вовсе не «предатель», не сбежавший и укравший агент, это мягко говоря. Ведет себя «пан Гжысь» спокойно, уверенно. Даже тени страха, подозрительности или ощеренности загнанного зверя, вполне ожидаемых в подобной ситуации, различить нельзя. Ничуть не смущен из-за произошедшего события и возникших осложнений в работе и отношениях с организацией. Особенно не испуган и не ошарашен и самим их появлением. Такое ощущение, что чувствует свою полную правоту во всем случившемся и ждал их прибытия, чтобы всё разъяснить. Однако, каков безумец, если на самом деле не понимает, что сделал и насколько виноват! И деньги, смотри-ка, сохранил и собирается подотчетно передать! Хочет «честненьким» предстать, видимо надеется выйти из передряги сухим! Мол, никого не предавал, долгу не изменял, просто убеждения зовут меня теперь к другим. Это – если собирается сказать правду, конечно. А может – сейчас начнет лгать и изворачиваться, вываливать что-то заранее и тщательно придуманное. Что же – для того они и прибыли сюда, чтобы перед тем, как исполнить приговор, всё тщательно запомнить и после передать, в отчете и лично. Так требует порядок. Однако – что же всё-таки там произошло на самом деле?! Даже интересно! И кто такая эта Магдалена?.. Надо сохранять маску полного неведения, воспринимать всё, что будет рассказываться так, словно слышишь это впервые и безоговорочно веришь каждому слову. И пока «пан молочник» ходит, Чеслав быстро перешептывается обо всем этом со «Словеком». И еще раз, черт раздери, просит того не сидеть с лицом маньяка, внимательно слушать и вникать, быть готовым улавливать и суть истории, и знаки, которые он быть может сочтет нужным подать! Тому ведь, черт раздери, точно так же предстоит потом отчитываться перед подпольем, так что быть внимательным, сосредоточенным на подробностях, а не на переживании предстоящей казни, в его же собственных интересах! Что за дилетанта придали для выполнения задания! Слово «дилетант» обижает и производит впечатление, и на лице «Словека» воцаряется некое подобие спокойствия и выдержанного внимания. Во дворе раздается шум шагов, Чеслав вглядывается в уже почти наступивший мрак и то, что он видит, заставляет его по настоящему опешить… Он кадровый военный, бывал в серьезных боях, видел раны. Слыхал и про гестаповские пытки. И когда ему удается более пристально разглядеть в свете керосинки лицо женщины, пришедшей вслед за «молочником», он почти без сомнений говорит себе – «она бывала в подвалах». Тут скорее всего нельзя ошибиться. Но что это черт раздери всё значит? Кто она, да что там произошло?!
«Молочник» представляет женщину – «Знакомьтесь, пани Магдалена Збигневска, пианистка, моя аспирантка и любимая женщина, чудо из моей прошлой жизни… неожиданно обретенное вновь – тогда, на Минской… Не обижайтесь – как „Гжыся“ она никогда не знала меня и хоть Божик зовет меня Гжысь, привыкнуть не может, и потому в разговоре будет звать меня настоящим именем. Оно ведь вам известно, „Круль“, и процедуры это не нарушит?» Чеслав подтверждает, оторопело смотрит на женщину, и с таким же ощущением и выражением лица выслушивает всё дальнейшее. Рассказывают они оба, он и она, каждый – общую и свою историю, и по ходу Чеслав понимает, что иначе и не получится, ибо всё связано. Рассказывают долго, и в течение всего времени Чеслав Рындко, «звеньевой» из Армии Крайовой, прибывший казнить предателя, оторопело вбирает и впитывает каждое слово, мельчайшую подробность, и лишь успевает бросить пару взглядов на «Словека», убедившись, что тот точно так же полностью поглощен рассказом и забыл обо всем остальном, что так мучило его всю дорогу. Эта женщина, Магдалена, и подлежащий казни связной, рассказывают из самого далека. Он слышит историю их встречи и любви, да иначе и непонятно. Она рассказывает о том, что произошло с ней в Кракове, в декабре и ноябре 39 года, что в конце концов закончилось пытками в подвале на Поморской. Чеслав подмечает, что ни на секунду, даже на йоту не сомневается в правде того, что она рассказывает и кроме этого – по тому, как слушает ее «молочник» понимает, что она тогда многое скрывала от него, наверное, не желая его тревожить. И главное – что подробностей самого страшного, произошедшего с ней, он до этой минуты не знал, выражение муки, смятения и ужаса на его лице обмануть попросту не может. Перед Чеславом разворачивается история жизни и судьбы двух людей, совершенно правдивая, у него нет в этом в момент рассказа никаких сомнений. Опущенными в рассказе остаются по его просьбе только подробности жизни будущего молочника Гжыся после бегства из Кракова – они ему более-менее известны. Оба рассказывают их истории, все случившиеся события с совершенным доверием и спокойствием, словно уверенные в своей правоте и в том, что должны найти понимание и у них со «Словеком». И бросая взгляды на «Словека», Чеслав убеждается, что это вполне возможно. Он и сам в конечном итоге полностью проникается рассказываемым и начинает чувствовать в какой-то момент, что почти целиком становится на сторону этих людей и всего случившегося с ними, особенно – с ней. К ней он вообще начинает испытывать сочувствие чуть ли не до слез и боли в душе, и понимает, что история этой несчастной женщины настолько страшна и правдива, что иначе и быть не может. Да откровенно говоря – он пристально вглядывается во всё время разговора в «молочника» и понимает, что тот ни в чем в общем-то не врет и не обманывает… по крайней мере – он ни разу не уловил никакой тени лжи или измышлений. Из-за всего этого, уже ближе к концу разговора, Чеславом Рындко овладевает такое внутреннее смятение, что ему становится душно, всё в его душе и мыслях спутывается, он чувствует необходимость вскочить, прервать беседу и отойти в сторону, чтобы привести в порядок мысли, и боится, что потеряет контроль над собой, действительно так и сделает и провалит этим всю игру. В особенности добивает его рассказ о последнем и самом важном – о произошедшем посреди дня на Минской. Рассказывают оба, каждый рисует произошедшее со своей стороны, дополняет слова другого, и Чеслав безоговорочно верит тому, что слышит, и понимает, что всё это целиком и полностью скорее всего правда, в любом случае – соответствует тем сведениям, которые он сумел собрать тогда, поговорив с прохожими, посидев в паре ресторанов и зайдя в несколько магазинов на Минской и Гоцлавской. Наконец – тому, что он видел собственными глазами, ибо безумно стегающий клячу и что-то орущий ей «молочник» -связной, точно останется в его памяти до конца дней. А ее он не видел тогда тоже по понятной причине: она же, бедняжка, еще плохо понимающая, что происходит, старалась изо всех сил прижиматься ко дну телеги – чтобы не вылететь и потому, конечно, что похитивший ее из под носа у немцев «молочник» крикнул ей это… В какой-то момент Чеслав приходит в настоящий ужас… Ему становится понятно, что рассказываемое ему от первого до последнего слова скорее всего правда. Что перед ним – страшная, трагическая история жизни, которых много нынче, удивительная история любви, и впрямь кажущаяся чудесной, но от первого до последнего слова правдивая. Что ничего из той чепухи, которую он себе придумал и нагородил тогда, выступая на собрании, сумев убедить в ней всех, не имело отношения к действительности и сути произошедшего. Да, всё это, учитывая обстоятельства, было более чем вероятно и справедливо подумалось, и вместе с тем было чепухой, к сути события не имевшей отношения. И он, во власти страха и пытаясь умно и с наименьшими потерями выйти из очень опасной для него самого ситуации, желал считать правдой именно то, что со всех трезвых мерок ею казалось, но на поверку было чепухой. Перед ним была действительно история срыва, провала и нарушения приказа из чисто личных причин, каких тоже немало бывает в любом деле, и в армейском, и в подпольном, только в этом конкретном случае личные мотивы и причины были сильны и нравственны, как ни в каком ином. Да, привели к нарушению приказа, серьезному и даже очень проступку, к провалу работы, который мог быть чреват риском и большими бедами, всё это так. И так это именно потому, что были максимально сильны и в общем почти предельны. Правдой оказалось то последнее, о чем всерьез думалось так, что возникло как предположение, но было быстро отброшено перед убедительностью и казавшейся несомненностью других, более принципиальных и связанных с реалиями версий. Он слушал то, что ему рассказывали, убеждался от слова к слову, что речь идет о чистой правде и недаром этот Гжысь ощущает себя так спокойно. Ведь он, всё это слыша и представляя воочию, не пожелал бы себе оказаться перед той же дилеммой и в подобной ситуации. Да – долг есть долг, приказ есть приказ и служба в подполье, в предельно серьезном и ответственном деле во имя будущего и блага нации, требует беспрекословной верности и одному, и другому. Это правда. Однако – правда и в том, что наверное еще не родился тот железный и совершенный подпольщик, который попав в такую ситуацию, помня про приказ, дисциплину и долг, не испытал бы самых страшных колебаний. И большинство самых хороших и надежных его соратников, скорее всего и не выдержали бы подобных колебаний и поступили бы точно так же, как этот Гжысь… да только навряд ли сумели бы всё так блестяще обделать. Такова правда, и признаться в этом было страшно. Однако, он спрашивал себя, как бы он сам, со всем его опытом и пафосом на выступлениях, с преданностью делу и невыдуманной верой в дело поступил, выпади ему такой жребий и окажись он перед выбором – бросить любимую женщину в лапы и пытки гестапо или нарушить долг и приказ и попытаться спасти ее, либо же вообще вместе с ней умереть, и проступавший из глубины души ответ говорил очевидное… Да, этот Гжысь, чертов еврей и бывший университетский профессор, спасший его изувеченную гестапо аспирантку и любовь, всё равно конечно оступился и виновен, но не более, чем оказался бы виновен в такой ситуации почти каждый из них. И понимание этого жутко, ибо теперь совершенно не ясно, что делать и как поступить уже конкретно ему. Как конкретно ему, имеющему четкий приказ и ответственному за исполнение этого приказа, в сложившейся ситуации поступить. Чеслав смотрит в очередной раз на этого Гжыся и невольно испытывает к нему то же уважение, которое неоднократно чувствовал за минувшие дни при мысли о совершенном им поступке. И это уважение еще более усиливается от того, что тот не колебался в ситуации, в которой он сам, Чеслав Рындко, опытный офицер-артиллерист, скорее всего мучительно колебался бы, ведь долг есть долг и ситуация, когда два долга – долг службы и присяги и долг любви и совести, схлестываются лицом к лицу и требуют решать и выбирать, нести за это личную и быть может чреватую осуждением и смертью ответственность, по настоящему страшна. И вот – наверное и в той ситуации, которая налицо сейчас, этот человек, готовый рисковать, жертвовать и действовать, но поступить так, как единственно может по совести и сам считает правильным, тоже в отличие от него не колебался бы и не впал в смятение, и знал бы, что делать. А именно – рискнуть всем, собственной жизнью и опасностью безжалостного и унизительного приговора уже самому себе, но отложить исполнение приказа, донести всю правду, признаться в ошибочности своих же доводов и предположений и поставить вопрос о решении заново, в свете открывшихся обстоятельств и сведений. Он смотрит на «молочника», всё это понимает, и в его взгляде над уважением уверенно начинает доминировать лютая ненависть. О нет, он еще хочет пожить на этом свете и послужить делу, и получить пулю в лоб из-за чертового еврея, предателя и провалившего работу слюнтяя, вовсе не намерен! Приговор еврею вынесен и насколько он знает систему – навряд ли будет отменен, даже если он, Чеслав Рындко, поступит так, как поступил бы скорее всего этот человек. А вот шанс, что вместе с повторным вынесением приговора такой же приговор будет вынесен и ему самому, ибо он «заколебался», «не исполнил приказ», «больше не заслуживает доверия» и т.д., более чем вероятен! И вероятно так же и кое-что похуже, да-да! Что чертового еврея-то может быть и оправдают по справедливости или накажут не так строго, войдя в специфику ситуации и мотивов, проникшись жуткими увечьями этой женщины, а вот его самого, за «дезинформацию» и «безответственную, поверхностную оценку обстановки», «утрату и обман доверия», как раз-таки приговорят и пустят в расход, назидательно либо же по тихому! И вместо еврея-профессора, болтаться на каком-нибудь дереве, якобы будучи жертвой немецких расправ, будет он, либо же он вообще, подобно Любомиру просто исчезнет, а на попытку завести речь о его судьбе станут сурово вращать белками и топорщить усы… И чертов жид будет жить, а он – гнить в яме и кормить там червей, и не бывать этому! Евреи – это всегда евреи и доверять тем нельзя, и мало ли что он тут им сейчас порассказал. И еще не известно, не попал ли он, Чеслав Рындко, именно сейчас во власть заблуждения, не купился ли на тщательно подготовленный спектакль с декорациями в виде изувеченного лица! И поди еще знай, как эта Магдалена получила свои шрамы… она может шлюха, об которую пьяная офицерня разбивала бутылки! А что, очень может быть! И даже если кое-что из рассказанного здесь всё же правда, то это не отменяет и факта, что могли быть и влияние коммунистов, и какие-то контакты с ними, а «молочник» просто всё это умело укрыл под жалобной и пробивающей на слезы историей! И скорее всего, это именно так и есть!! А даже если и нет – выяснение этого он, Чеслав Рындко, оставит как-нибудь на потом, как и счеты с совестью, потому что в настоящей яме сейчас именно он и как выбраться – вот о чем он должен думать в первую очередь! И этот Гжысь всё равно нарушил приказ, долг и дисциплину, провалил дело, и приговор вынесен ему справедливо! И этот приговор, и отданный уже самому Чеславу приказ, должны быть исполнены. И будут исполнены, конечно. Во имя политики, провозглашенной законным правительством, ради возрождения былой Польши, сотни тысяч евреев позволяют сейчас убивать в концлагерях, беспрепятственно вывозить туда на верную смерть – кто не знает о том, что на самом деле происходит! И жизнь одного еврея – предателя и слюнтяя, какая-то там правда (еще поди знай, в чем она на самом деле), не стоят жизни хорошего поляка, настоящего патриота и подпольщика, умеющего быть верным приказам и долгу, который подтвердит это и сегодня, и конечно еще много пользы сможет поэтому принести общему и святому делу. И так это и должно быть, и жить и делать дело – именно таким как он. И он будет жить и делать дело. И еврей умрет, а справедливый, отданный не одним человеком приказ, будет исполнен. И если когда-нибудь, лет через двадцать его, Чеслава Рындко совесть, засвербит вдруг и напомнит об этом еврее и настигшей того судьбе, что же – он услышит ее голос и покается, признает быть может свою неправоту… Не ошибается тот, кто не делает дело, а он, Чеслав, всю свою жизнь служил делу беззаветно и если в чем-то и ошибся – Господь милостив, всё видел и простит его. Да будет так.
Пока Чеслав всё это думал, принимал решение и укреплялся в том, рассказ закончился и разговор на какое-то время затих. Еврей-предатель и эта Магдалена обессилели от переживаний и исповеди, или что там на самом деле было, а «Словек», чертов и непонятно откуда достанный для сегодняшней акции идиот, размяк и проникся кажется точно так же, как час назад жил желанием убить и одной только предстоящей казнью. О Господи, с кем только приходится работать! Ничего, с этим то он разберется! С искренне блестящими от слез глазами Чеслав встает, походит к «молочнику», обнимает его и говорит с дрожью в голосе, что всегда был уверен в его порядочности, ведь на самом деле давно заочно знаком с ним и его работой. Что так и сказал на собрании перед отбытием сюда и конечно же – во всех правдивых и точных подробностях передаст страшную историю его и пани Магдалены, будет его заступником и уверен, что хоть пан Гжысь конечно и поступил против долга и приказов, но соратники поймут его, ибо он поступил именно так, как и любой из них в этой ситуации. Конечно же – обнимает после и Магдалену, выражает сочувствие настигшим ее бедам (довольно искреннее, впрочем – и шлюхе такого не пожелаешь), и вместе с сочувствием – надежду и веру в лучшее. С удовлетворением отмечает, что все присутствующие кажется ему поверили. И Магдалена, и «молочник», который кажется и рассчитывал, в тайне надеялся именно на такую реакцию, а уж этот идиот «Словек» (как только тот попал в дело?!), так вообще – готов чуть ли не разрыдаться от умиления. Идиот и есть идиот, и рано или поздно кончит соответственно. Дальше – обращается к «молочнику». Пан Гжысь конечно понимает, что они должны переночевать тут и поэтому он, «Круль», просит дорогого пана о следующем. Пусть вернется в дом, сообщит хозяину, что приехали гости из Варшавы, соратники, что с ними полностью объяснились и они теперь должны переночевать. Ну, неужели же пан Штыблер откажет? Конечно нет. Вот тогда они с удовольствием и поужинают со всеми вместе, и еще многое обсудят, конечно! Только вот перед этим, пока пани Магдалена и хозяева будут накрывать на стол, он просит пана Гжыся пройтись с ними в какое-то недалекое и тихое место. Они должны обсудить с ним что-то очень важное, переданное старшими и касающееся планов по его дальнейшей службе, и вот тут уже точно не должно быть даже пол уха лишнего, а не то что уха. Ах, пан Гжысь не собирается продолжать, должен ныне заботится только о Магдалене и просто еще не успел сказать об этом… Что же – это во многом и понятно, и его право, конечно… Но передать-то они всё равно должны – пан ведь знает процедуру, и приказ есть приказ. И кто знает – может лучше ему как раз и познакомиться с планами во всех подробностях! А вдруг именно в том, что ему хотят предложить, он увидит возможность продолжить службу патриотическому делу и одновременно позаботиться о пани Магдалене? Всё это Чеслав произносит настолько искренне и убедительно, и выглядит сказанное так логично и видимо настолько соответствует скрытым надеждам и желаниям лживого еврея-предателя, что и тот, и Магдалена, кажется полностью ему поверили. Деньги с собой? А, ну и отлично, он может уже прямо сейчас отдать их, чтобы утром, в попыхах и сборах не забыть, с отчетом же они посидят глубоким вечером, после ужина. Пусть пан идет, а они со «Словеком» ждут его. И когда воодушевленный, похожий на большого ребенка «молочник» и вправду удаляется с Магдаленой в дом, Чеслав смотрит ему вслед и думает, что надежда оглупляет человека больше, чем страх, а вера в лучшее слепит, делает слабым и в конечном итоге обрекает на гибель. И если он сам хочет продолжать жить и делать дело, выкручиваться во всевозможных, неотвратимых и в одном, и в другом ситуациях, то эту мысль надо хорошенько запомнить и усвоить…
Они идут к реке. Идут втроем – он, «Словек» и «молочник», конечно же купившийся и попавшийся на удочку, быстро вернувшийся и ничего, кажется, не подозревающий. Заподозрил – не пошел бы, а если пошел – значит либо вправду верит, что всё разрешилось, либо не хочет думать другого и тревожиться, и потому конечно и не захочет, сколько там еще осталось времени, и позволит им со «Словеком» сделать задуманное. А времени осталось совсем не много и всё пройдет отлично, Чеслав уверен. Там, возле реки, он сам сказал, есть небольшая рощица, место тихое – точно можно и душой отойти, и поговорить безопасно о важном. «Ты, сукин сын, отойдешь у меня!» – думает Чеслав – «Нет, ну какой всё-таки идиот, а… как купился… и ведь по настоящему купился! Луной ему чистой бы полюбоваться и понадеяться, да еще помечтать о хорошем и счастье любви! Вот же идиот!» Чеслав не выдерживает при этих мыслях, и пользуясь покровом темноты, позволяет себе чуть оскаблиться. «Такому дурачку и правда не место в подполье, о чем и речь! Вообще не понятно, как он сумел с такой слепотой и наивностью отработать полтора года связным, выполняя серьезнейшие задания, всех убедив и провалившись только по случаю! Ведь это же надо понимать, под каким риском находилось дело! Да нет ничего более святого, чем исполнить приказ, казнить этого дурачка и избавить от него мир, и совесть под старость мучить не будет, о чем вообще речь!» Всё продумано. И всё получится. Они застрелят его, как только зайдут в тихое место. Крепкая веревка, чтобы после подвесить бугая на дереве – у него, Чеслава, на поясе. Табличка из плотного картона с надписью по немецки «опасный польский бандит» – за полой пиджака у «Словека». Когда всё будет готово, то есть минут через десять или пятнадцать, даст бог, у них будет еще не меньше часа, чтобы в западном направлении уйти в лес. В Опочном их ждет человек с запряженной бричкой, там они будут часам к двум или трем ночи, а утром – будут уже в Варшаве. И всё провернут в точности и как задумано, еще и будут отмечены благодарностью, вот посмотрим! Он даже уже в «Словеке» не сомневается. Тот идет с прежним выражением лица, с ненавистью и готовностью убить, по счастью – мрак всё прячет, а идиот профессор, который через несколько минут попрощается навсегда с миром, пребывает в таком воодушевлении, что приглядеться и различить это не способен. Еще бы «Словек» не вернулся к прежнему настроению, которое сейчас уже как раз весьма кстати! Ведь только этот «Гжысь» удалился в дом, как «Словек» чуть не бросился на него с объятиями и облегчением, со словами «нет, пан Круль, какая история, я чуть не расплакался!». Вот тут он и вмазал тому, наотмашь – словами конечно и полуслышным шипением, но зато как! Может хоть научится чему-то, что поможет в работе. Как он, малодушный идиот, позволил себе купиться на все эти еврейские истории?! Он что – вправду поверил?! Он конечно выглядит дилетантом и человеком невыдержанным, для серьезного задания не пригодным, но всё же на законченного идиота, на деревенского дурачка, над которым можно откровенно посмеяться, с первого взгляда не похож! А вот же – именно так и выходит! Да как он мог воспринять всё это серьезно? Он, «Круль», с трудом сдерживал и смех, и ярость во время всей истории, так это было откровенно выдумано и лживо! Он даже думал, что этот еврей-предатель выдумает что-нибудь более убедительное! Ах, ее лицо! Да ты, мальчик, мало в жизни еще вещей видывал! Как «Словек» посмел поверить и подумать, что приказ подполья не будет исполнен?! Приказ конечно будет исполнен и хитрый, наверняка переметнувшийся к коммунистам предатель, который всё же кажется поверил ему, «Крулю», ибо он то свое дело знает, будет казнен и именно так, как спланировано! С табличкой на груди, якобы как жертва расправы немцев. И если наивный и легковерный идиот «Словек» только посмеет уклониться от выполнения приказа или хотя бы заикнется, он казнит того вместе с предателем и по справедливости! Нет, ну как «Словек», вроде бы всё же не глупый, пусть и не привыкший к такого рода делам человек, мог так дешево купиться на еврейские штучки и поверить! Нет, ну честное слово! Да когда предателя припирают и ловят, он, чтобы жить, и не такое тебе расскажет и придумает, и польку на голове станцует! Он потому и ждал их, что думал – приедут легковерные дурачки, которых он сумеет убедить, потрясет для этого деньгами, мол вот, честный я до последнего, да пожалобит историями и лицом этой Магдалены, еще не понятно кем и как изуродованным, и всё тихо и мирно разрешится! И ему дадут полюбовно уйти! Ну уж нет – если «Словек» такой идиот и готов изменить приказу, то у него, «Круля», глаза и ум на месте, долгу своему он верен и приказ исполнит, чего бы это не стоило!
Чеслав шипел всё это в темном дворе и видел, как на ходу лицо и душевное состояние «Словека» меняются и тот и вправду начинал верить, что позволил дешево обмануть себя, а прежняя ненависть и готовность убить возвращались к нему, но уже с какой-то настоящей лютостью. Чеслав даже испугался, что переборщил и соратничек не дай бог не сдержит себя. С одной стороны – в решающий момент, который вот-вот наступит, это и кстати, а с другой, не случилось бы чего раньше и не заподозрил бы чего-нибудь «молочник», которому предстоит умереть. Но тут на помощь пришел уже густейший мрак, да и сам «молочник» вернулся на каком-то почти детском подъеме в душе, с графинчиком и маленькими чекушками, мол, панство, давайте выпьем по капле «первача», чтоб разговор наш был ладным и на душе чтоб полегчало. Клоун дешевый, ничтожество. И вправду поверил, что прошла его дурно смастыренная легенда! Ну, что же – поделом будет то, что ждет его. Осталось совсем немного. Метров сто до рощицы на берегу, а там – пара удобных минут, и дело сделано. Он, Чеслав Рындко, профессиональный военный и даже в густой темноте из «вальтера» с глушителем не промахнется. А «Словек»… да тому уже через час собственные сомнения покажутся памороком, он даже вспоминать их стесняться будет! И отчитаются они перед соратниками как надо, комар носа не подточит. Кровью они ведь теперь будут повязаны, одним провернутым как надо делом, исполненным приказом о казни… на жизнь и смерть повязаны, если что.
Войцех в эти секунды и вправду чуть ли не по детски счастлив, почти так же, как был счастлив в то чудесное, далекое утро первого сентября… Ну, вот всё и разрешилось, слава богу. Всё же с нормальными людьми он имел дело эти годы и хороших, нормальных ребят прислали для выяснения обстоятельств. И всё те поняли и восприняли как должно, он же видел это на их лицах, и у одного, и у другого. Да и как можно было не понять?.. Как, глядя на лицо Магдалены и выслушав весь перерезавший их судьбы ужас, можно было не понять?! И слава богу, всё нормально. Хотят предложить что-то другое. Он, конечно, думал оставить дело. Слишком опасно теперь, учитывая положение Магдалены. Но мало ли… почему нет, если ничего лучшего не отыщется? Делал он свою работу хорошо, поступок его – поймут и примут, конечно, и если не будет ничего более безопасного и обнадеживающего, то ни что не помешает ему продолжить посильно трудиться во славу польского подполья, которое, кажется, наконец-то начинает потихоньку поворачиваться в сторону конкретных дел, ради которых стоит рисковать жизнью. В основном – благодаря клеймимым на всех углах коммунистам… Он и сам всегда терпеть не мог коммунистов, но ныне начал их хоть чуть-чуть уважать и именно за призывы к борьбе, чем бы те ни были продиктованы. Борьба – это всегда хорошо и точно – лучше молчания покорных, пинаемых на бойню ягнят… лучше бессловесного свидетельствования жутким вещам и преступлениям, происходящим перед глазами… В борьбе есть великая правда и коммунисты, в сорок три года и так неожиданно, но стали ему чуточку близки этой правдой… При всем, конечно же, критическом взгляде на них, на их идею и мало чем отличающееся от Рейха огромное государство. Его соратнички, «пилсуцники» и «республиканцы» – те коммунистов готовы кажется стрелять более охотно, чем немцев, и по прежнему горой стоят за «выжидание» и «терпение»… тоже во имя борьбы, конечно, но только когда-нибудь «потом», когда карты лягут чуть получше… Он знает… Он потому так и боялся, что не поймут его демарша с немецким патрулем и похищением Магдалены, ибо строжайше запрещено. Однако, и у соратников скоро не останется выхода… И коммунисты начали передергивать затворы, и немцы гайки закручивают в своем безумии до последнего, и потому даже если и не хочешь – уже не отвертишься… И чем раньше поймут это «республиканцы» и обратятся к борьбе – тем для них же лучше. Эта их боязнь мобилизовать людей, затеять серьезную и честную драку, им же самим потом боком и выйдет… потеряют инициативу, веру людей, а русские за «левое» польское подполье кажется взялись всерьез и дай им шанс и место – своего не упустят… Не суть – если не будет ничего лучше, он продолжит работу в подполье, и потому с удовольствием идет с ребятами на любимое место возле реки, послушать, что там еще для него возможно… Четкого плана у него в голове еще не было, но… можно было попытаться прятаться вот так, по селам… В еврействе его пока еще никто не уличил и не заподозрил, а с Магдаленой рядом вообще и не должны были. О профессоре Войцехе Житковски все уже давно забыли, а слух о нем как о подпольщике, что-то там начудившем в Варшаве, навряд ли дойдет до глубинки… До какой-то другой, конечно, отсюда надо будет, как ни жаль, уехать… Слишком тут всё связано с его недавней варшавской жизнью. А может – что-то еще придумается… Может – попытаться укрыться в монастыре, как делала это Магдалена до их встречи?.. Ведь в Радоме ее до сих пор ждут! Одну конечно… но может – войдут в положение… Да мало ли как, мало ли что еще обнаружится как возможность! Главное – верить, надеяться и бороться, и есть, есть во имя чего бороться и ему, и теперь уже и ей, красотуле, никуда не отвертится! Забудет возле ребенка, который даст бог появится, обо всем, а потом, глядишь – сломаются немцы, придет когда-нибудь мир, откроются те возможности, о которых сейчас и не решаешься подумать… Она еще узнает счастье игры, преподавания, близости музыке эдак или так… написания книг с ним рядом – вот об этом он точно позаботится! Главное – бороться и верить, надеяться и не бояться броситься в омут, по принципу «будь что будет», как он тогда, на Минской… Ведь как он на самом деле переживал из-за того, что провалил работу… что не поймут, не войдут в ситуацию… А вот – какие хорошие ребята… Сейчас главное – выжить… перейти реку судьбы в брод… отыскать брод, как бы не казалось, что его нет. Вот и она – решилась сегодня открыть, рассказать то, что предшествовало в Кракове ее аресту, наверное поняла, как важен разговор и насколько важно быть до последнего честной и убедить ребят… Да – он конечно виноват, как и предполагал… Однако, он сейчас так по детски воодушевлен и счастлив, полон внезапных надежд, что от теперь уже ясной правды даже не пришел в ужас, хотя от одних мыслей о ней, от подозрений и предчувствий – приходил. У него есть причины – на пути к их спасению разрешилось важное препятствие, спала тяжелая и страшная тревога, которая, сколько не прячь, почти две недели висела над душой и умом словно «дамоклов меч», делала будущее совершенно неопределенным. И вот – он теперь счастлив еще и именно тому, что Магдалена открылась, рассказала про то, в чем боялась признаться раньше. Это хорошо, очень хорошо! Значит – близки они теперь до конца и о том, за чем он ее застиг в амбаре, она уже больше не думает. И значит – есть, есть надежда, и надо только бороться и верить! И от этого, хоть теперь он точно знает всю правду и вину свою, хочется не идти, а лететь, любоваться чистой луной и проступающими под ее светом контурами полей и скалистых, укрытых лесом холмов… Да – он виноват. Но он теперь будет жить ею, дышать ею и ее возможностями, будущим и надеждами для нее. Будет бороться за это – уж что-что, а за это стоит! Будет спасать ее, до конца дней жить любовью к ней и искуплением своей вины. И разве не стоит? И вот – всё это стало чуть-чуть реальней, посреди торжествующего в их судьбе мрака забрезжил лучик света. Как же тут не быть по детски счастливым?..
Обо всем этом Войцех думает, пока шагает с «ребятами» к реке, ничего дурного конечно же не предполагая и не подозревая. А когда оказывается на самом берегу, под любимыми ясенями, вдыхает ноздрями запах тины и слышит волны – так вообще обо всем забывает и чуть даже закрывает глаза. Он полюбил это место еще в те времена, когда работал у Божика, и любил приходить сюда, если не был слишком утомлен, именно поздним вечером – чуть отдохнуть душой, ощутить покой и помечтать о лучшем, глядя на луну… Он бы конечно так и погиб на этом своем любимом месте, стоя под луной и ночным небом с закрытыми глазами, ничего не видя и не замечая, не слыша, как один из «ребят», с самого начала назвавшийся «Крулем», передернул «вальтер», прежде надев на тот возле ствола ясеня глушитель… Он рывком обернулся, потому что услышал дикий крик Божика, всаживавшего со всей силы топор в того другого парня, которого звали «Словеком». Этот крик его и спас, собственно. «Круль», который должен был казнить его и неслышно подойдя к нему, уже поднял «вальтер», как и он сам обернулся на неожиданный крик и шум сзади. Войцех как-то всё в один момент понял – не умом, а глазами, смотрящими в чуть приспущенный, упертый ему в живот «вальтер», и с таким же, как у Божика диким криком, моментально ударил «Круля» огромной ручищей в подставленный висок. Тот упал на землю, непроизвольно нажав курок, но выстрел ушел в сторону. Продолжая кричать, Войцех бросился на него со всего размаху огромным телом, упал ему на лопатки коленями, услышав хруст и какой-то странный то ли стон, то ли выдох, со всей возможной силы ударил его кулаком в затылок и одним ударом сломал шею так же, как позвоночник секунду перед этим, своим падением. Дело было кончено в несколько мгновений, потому что Божик убил этого «Словека» самым первым ударом топора и совершенно напрасно продолжал кромсать его – «на всякий случай»… Через минуту они оба уже сидели рядом, оба по своему оторопевшие… И до одного, и до другого, пусть и с разных сторон, начинало доходить, что случилось… Войцех думал о том, что не поумнеет до конца дней и подобному идиоту конечно же нельзя иметь детей… «Ребята», оказывается, приехали его казнить, исполнить уже вынесенный ему кем-то, прежде всех объяснений приговор… И обвели его, великовозрастного идиота, вокруг пальца обыкновенным лицемерием… Если бы не Божик, его тело сейчас уже наверное топили бы в реке, или что там они еще планировали сделать… Странно – вот, его сейчас могло уже не быть, всё могло закончиться… Тогда, в тот растреклятый вечер 6 ноября, он от сознания этого чуть не задохнулся в ужасе и панически бросился по крышам и по улицам… А сейчас… он глядит в лицо смерти, которой чудом избегнул, и практически спокоен… Гораздо больше взволнован самой своей глупостью и слепотой, чреватой однажды погубить его и Магдалену, их будущего ребенка и еще поди знай кого… Так нельзя, он уже не мальчик… что-что, а уж приготовления убить его всё-таки должен был как-нибудь подметить, уловить, знаете ли… из колебаний воздуха, во «флюидах»… Привык к постоянной близости смерти – хорошо, но это не значит, что имеешь право стать слепым и безразличным…
– Ты как тут? – наконец выдавливает он с хрипом, обращаясь к Божику. Сам Божик сидит растерянный как ребенок и кажется, всё никак не может понять сути произошедшего…
– Как-как… почуял неладное, пошел следом… Слишком уж всё хорошо из твоих слов выходило… А зачем тогда тебя в поле тянуть?.. Взял топор, пошел тихо следом, чуть понизу, ты знаешь… Подошел сюда, смотрю – ты стоишь, а тот гад сзади тебя пистолет передергивает… Ну, думаю, одного попытаюсь забрать и заору, чтобы другой обернулся или испугался, а там – как уж выйдет… И слава богу, видишь – сложилось… Божик говорит «слава богу», а голос его всё так же растерян, он словно бы исподволь спрашивает интонациями – «как же всё это?»
– Странный ты, Гжысю… вроде б умный, а как ребенок. Тот тебе в затылок пулю готовиться всадить, а ты и не слышишь даже… Черт тебя разберет…
– Я исправлюсь, Бодька, у меня выхода нет. Вот, ты мне уже второй или даже третий раз жизнь спасаешь… Если есть бог на этом свете – даст он мне возможность когда-нибудь тебе вернуть, сполна…
– Да ты живи, главное… А то за тобой хоть как мамка ходи…
Войцех обнимает Божика огромной ручищей и они сидят так, и вправду словно два брата, сродненные навечно судьбой и пролитой кровью, самой спасенной друг другу жизнью… Божик вдруг начинает плакать, трястись в рыданиях – Гжысю, как же это всё, а? Что же – мне теперь в ад, да? А разве ж я мог дать им тебя убить? Да за что же, по какому праву? А девочка как же? Как она без тебя бы выжила?!
Войцех почему-то, для самого себя неожиданно, остается совершенно спокоен. Вот, Божик начинает труситься, ибо убил… Оно и понятно, конечно… Хотя у них тут, в деревнях, по нравам их простым, не редкость. Да где это редкость нынче… И когда было редкостью? Вон тот, который хотел его убить, «Круль» – небось привычен был, а? Он, профессор философии, хотел тогда кромсать немцев и поляков-«шуцманов», чтобы спасти Магдалену, и было бы надо – кромсал бы, конечно, но вот же – сумел сделать всё и кулаком не взмахнув. А этот приехал его казнить, исполнить кем-то данный приказ, сделать «привычную работу»… «Ну, что, как оно – самому привычного дела вкусить, хорошо? Доволен? Полегчало?» – он спрашивает это мысленно, глядя на распластанный на земле труп с как-то неестественно, словно у сломанной куклы, вывернутой в сторону головой. Ах ты ж, господи! Сколько исписано страниц о муках совести, терзаниях и раскаянии при виде человека, умершего от собственных рук… Какие талантливые писатели пробовали себя на этой важнейшей ниве!.. И кому же, как не ему, философу и гуманисту, исчеркавшему недавно сотни страниц на тему ценности человека и человеческой жизни, было бы сейчас эти самые муки испытывать… А вот – он глядит на бессмысленно прожившее жизнь и до отвращения глупо, бессмысленно закончившее ее тело, и не чувствует ничего… Даже страха перед наказанием и тем, что неотвратимо грядет – наверное и того не чувствует. Этот человек хотел его убить, отнять его жизнь – а за что? По какому праву? За то, что жизнь и судьбу любимой женщины он поставил выше всей этой игры в «подполье» и «дело родины», в передачу записок с информацией о том, как массово казнят евреев и какие страшные немцы преступники, но экие молодцы поляки, что находят в себе мужество если не спасать сограждан, так по крайней мере – собирать сведения? И никому, уверен, в конечном итоге не причинил этим вреда? Потому что кто-то и где-то, не взглянув в лицо ни ему, ни Магдалене, вынес приговор, решив, что для дела так будет справедливее и полезнее? Потому что он, университетский профессор философии, вынужденный стать подпольщиком, спас от смерти и пыток заключенную, то есть сделал именно то, что они, профессиональные вояки, уже давно, сообразно своему долгу, обязаны были делать по всей стране, не давая немцам ни секунды покоя? Потому что кто-то и где-то решил, что давать пока тысячам таких заключенных, сотням тысяч евреев подыхать как собакам, даже имея возможность бороться и что-нибудь делать – это во имя каких-то «высших» и главных целей правильнее? Да пошли вы к чертовой или собачьей матери! И никаких мук совести… Если ему за что-то и стыдно, так за другое. Он тогда, пока не разглядел в женщине-калеке возле «мерседеса» Магдалену, готов был – ведь недаром ученый подпольщик и связной! – встать и пойти на запланированную встречу… Вот за это стыд, а не за другое. Он не сделал ничего, за что по праву, по совести и справедливости, а не из каких-то там «высших и целесообразных» измышлений, могли бы отобрать у него жизнь. Он никогда бы не счел возможным отнять по совести жизнь у кого-то, кто поступил бы как он, и значит – ни у кого нет права отобрать жизнь у него. «Что, брат, хотел исполнить приказ и сделать дело, убить меня, не понятно за что, да не вышло, не сложилось, судьба зла, да?» – он смотрит на раскорячившееся на земле тело и словно спрашивает то, уже не способное ответить. – «Что же – это всегда так… Взял в руки оружие и готов убить – значит, будь готов и умереть, принять ту же судьбу, которую уготовил для другого… И не забудь поэтому прежде покумекать малость и решить для себя, а стоит ли, и во имя чего».
– Гжысю, что же теперь будет, а? До Божика всё наконец-то начало доходить и тот глядит на него с почти детским, беспомощным испугом… Что же – может и вправду было бы лучше, чтобы два этих скота его наконец-то убили. Что и кому он приносил когда-то, если разобраться, кроме горя?.. Может и вправду – не должно его быть, а? Бодьке-то – за что всё это выпало? Он что – не понимал, что подвергает того опасности, оставаясь здесь? Да понимал, конечно… Даже если и хочешь прожить без греха – всё равно не проживешь. И если не дай бог свалится на Бодьку беда из-за него, то будет он отвечать за это когда-нибудь точно так же, как за изувеченную судьбу Магдалены, ибо слишком поздно решился бросить ее… А может – и сам себя накажет… пришло время, нет?.. А с ней, с ней что будет?! Нет, пока еще не пришло… Надо подумать, как сделать так, чтобы ничего с Бодькой не случилось… Смешно, как они оба бывают ребячливы и упрекают друг друга в этом – кто в мыслях, а кто вслух. Войцех спокойно набивает вечную в кармане трубку, выкуривает ее в молчании.
– Слушай, Бодька-брат, что ты сейчас будешь делать… Положение твое, брат, тоже серьезное и бед ты избегнешь только в том случае, если послушаешь меня и поступишь, как я скажу… Нет, не так… я тебе предложу, а ты уж сам решай, умно и правильно, или нет. Войцех делает паузу, набивает еще одну трубку медленно закуривает и продолжает:
– Эти скоты приехали меня казнить, Бодя. А значит это простое – что приговор мне вынесен и никто, конечно, никогда его уже не отменит и меня не выслушает. И значит – придется мне бежать, сколько там еще отпущено судьбой, жить в бегах, и Магдалене со мной… Да, смешно – и среди поляков места и права жить нет, и среди евреев общий с ними конец ждет… Ей-богу – хоть надень на рукав эту проклятую повязку, к которой ни разу за все годы не прикоснулся, да иди сдавайся в гетто и будь, что будет… И всё потому, что понесчастилось мне родиться евреем и стать профессором философии, влюбиться в самую красивую женщину на свете, в «живую мадонну»… Войцех смеется с горечью и продолжает – со мной всё понятно и Магдалена разделит мою судьбу, как та сложится… Ты же не знаешь – я ее на днях почти из петли вынул… Войцех снова вынужден сделать паузу, потому что Божик в ужасе уставился на него – Сейчас главное – понять, как тебя и семью твою из под подозрения вывести… Ты будешь всё валить на меня… мне это, как я уже сказал, без разницы, а для тебя – единственный выход. Я сейчас докурю и сделаем мы так. Я возьму топор и шандарахну этого кретина напоследок, будто и его я топором кончил. Получится как бы такая картина, что я их сам обоих порешил, а тебя тут конечно же не было. Я огромный медведь, все это знают и поверят, и ладонью я своей след на рукояти хороший оставлю, чтоб наверняка. Пистолеты я обоих заберу, деньги – возьмешь себе. Да ты помолчи, давай, глупостями не сыпь! Я не вор, у меня своих на первое время хватит, а тебе нужны, мало ли как сложится… А там сумма приличная… Я всё равно по легенде их должен буду с собой забрать, так что – в реке их топить, деньги-то, что ли? Вот то-то и оно! Возьми и спрячь хорошо. Хочешь – потрать, а хочешь – сохрани, пока когда-нибудь не увидимся, да за упокой этих двух кретинов не выпьем, хоть и не стоят они… Ты пойдешь за Магдаленой, скажешь – я жду ее в поле. Она знает, что взять с собой… Да и брать-то почти нечего… Дома ей ничего не говори, только когда хорошо выйдете по дороге сюда в поле. Конечно – можно было бы их подальше оттащить и в реку, к чертовой матери, и дело с концом, да не выйдет. Их будут искать, скрыть мой приезд к тебе не получится, и ты не отнекаешься. Когда мы с ней уйдем, ты сделаешь так. Подождешь час-другой, запряжешь лошадь и понесешься к пану Матейко. Расскажешь почти правду. Что приехал я к тебе почти две недели назад с какой-то женщиной, сказал – чудом спасли ее из лап немцев и послали позаботиться о ней какое-то время, скрыть ее. А ты что – поверил, конечно, ведь знаешь, что я на подполье работаю честь по чести, ни о чем другом – ни сном, ни духом. А сегодня – приехали «мои», из Варшавы, о чем-то поговорить. И вроде бы поладил я с ними и всё хорошо, и предложили они пойти прогуляться перед ужином. Ну, нет меня с ними и нет, уже и ужин закончился. Ты – в тревогу, пошел искать и долго искал, а потом вспомнил про это место на реке. Пришел – а тут картина: эти двое из Варшавы лежат зарубленные, меня нет и пока ты ходил – и женщина тоже пропала. Ну, ты конечно ничего не трогал и сразу к пану Матейко, чтобы шум не поднимать. Что случилось – ты ни сном, ни духом, конечно же. Только так, если сможешь всё хорошо соврать, брат – учись, жизненное дело, никуда не деться! – выберешься… Ты-то причем, с тебя какой спрос? Всё я, проклятый и лживый еврей, вали на меня… Я тут пока потопчусь хорошо, а ты давай – вставай и за Магдаленой… мне еще руки хорошо отмыть надо будет… Да, когда будешь рассказывать про Магду – не называй ее по имени, зови как-нибудь иначе, и Ганке с детьми скажи… не надо давать кому-то больших шансов найти нас, чем итак есть… И о ранах ее тоже – постарайся не упоминать, если получится. Это всё равно, что пустить по следу. Слухи и соседи донесут, скорее всего… Но чем позже – тем больше надежд. Решай по ситуации. Пан Матейко конечно захочет сам всё увидеть. Пока доберетесь вместе – будет уже почти утро. Пока он решит, как со своими тела припрятать и сообщить обо всем в Варшаву – мы с Магдаленой будем, даст бог, уже далеко. Вот так брат, другого выхода нет. Как тебе?..
Божик всё это время смотрит на него со смесью страха и растерянности… дослушивает… потом внезапно берет Войцеха за плечи, заглядывает ему в самые глаза и чуть не с плачем и мольбой, но тихо спрашивает – Гжысю… вот как перед Христом-богом скажи мне – не будет греха на моей совести? Ты правду рассказал мне? Ты ничего такого не сделал, за что эти… имели бы право… ну… Потому что если нет – так кончи меня сейчас здесь, всё равно толку не будет, не простит Господь Иисус!
Войцех выслушивает неумелую тираду Божика, спокойно глядит ему при этом в глаза, а после улыбается ему своей детской улыбкой, которая даже из под бороды делает заметно круглым его лицо, и отвечает:
– Я, Бодька, сделал ровно то, что рассказал тебе. И было в моей жизни то, что я тебе рассказал, и что Магдалена рассказала… И поскольку ничего более святого, чем она, в моей жизни теперь нет, ты знаешь, так вот я ею тебе в этом клянусь. А уж ты брат сам решай, правду я говорю или нет, и как поступить. Устал я, дай посидеть пару минут… Он и вправду отворачивается, кладет голову на колени, смотрит на воду. Будь что будет. Чтобы не было. Судьбе надо уметь глядеть в лицо.
Божик уходит за Магдаленой. Он же встает, за четверть часа, со слезами ненависти и отвращения делает с телами этих двух то, что вынужден, потом – воет и ревет, уткнув лицо в ствол ясеня и отдавая тому часть ада из своей души, а потом – старается хорошо отмыть руки и успевает как раз, когда на контуре залитого луной неба появляются Божик и Магдалена с небольшой котомкой в руках. Странно – Магдалена воспринимает эту адскую по сути картину гораздо спокойнее, чем он предполагал… Да она, бедняжка, видывала наверное и более адское. Они прощаются с Божиком, долго прощаются, обнимаются конечно и плачут, говорят то и другое, желают друг другу… Потом уходят по дороге в сторону Страховице… Если их будут искать, то в этом направлении – не должны… Уже по дороге он рассказывает Магдалене все подробности случившегося… Они не знают, куда идти и что делать, просто идут… До Страховице – километров пятнадцать, там, если они решатся на что-то конкретное, то смогут сесть на поезд… С рассветом надо будет посмотреть, нет ли крови на одежде… Внезапно Магдалена изрекает:
– Ты знаешь… Родители, когда приехали в монастырь, в одном из разговоров рассказали, что пан Юлиуш Мигульчек уехал в январе 40-го к своим родственникам на юг, то ли в само Закопане, то ли в какую-то горную деревню рядом… Что думаешь… может рискнем, а? Он же и меня хорошо знает, и тебя знает всю жизнь… может хоть он поверит, поможет чем-то?..
Войцех задумывается… Странно, за все эти годы он почему-то ни разу не вспоминал о пане Юлиуше, хотя знал того с самых студенческих времен, и уважали они друг друга по настоящему… Да при такой жизни и о себе вспоминаешь с трудом… Пан Юлиуш… Поди знай, как и что… люди меняются, а в таких обстоятельствах – быстро и страшно, до не узнаваемости… Он, который час назад мыл в реке окровавленные руки, смотрел безразлично или с иронией на убитого им же человека – это тот «неистовый» и респектабельный профессор философии, который остался у пана Юлиуша в памяти?.. И да, и нет… Закопане так Закопане, чем черт не шутит… Денег хватит, а другого выхода всё равно нет. Он то ладно – но ей, ей за что все это?!.
Глава тринадцатая
ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ
Закопане – как раз тот городок, о котором можно было бы сказать народной поговоркой «мал, да удал». Егерская деревушка на границе трех королевств в 17-ом веке, горняцкий поселок в течение века 19-го, на рубеже 19-20-го веков городок обрел такое значение, что к нему была проложена даже железная дорога. Та самая, по которой, с удачей для себя, в него и прибыли Войцех и Магдалена. И дело конечно было не только в добыче руды. Красота видов и увлечение австро-венгерской и вообще европейской аристократии лыжным спортом, еще до первой мировой бойни превратили городок в популярнейшее место. Во времена Польши Пилсуцкого он обрел еще большее значение, как горнолыжный курорт, место отдыха и развлечения «сливок» и богатеев, а кроме того, потому что располагался как раз посередине двух областей – Оравы и Спиша, которые с конца первой бойни по самое начало второй, служили предметом территориального раздора и спора между Польшей и сначала Чехословакией, а потом – Независимой Словацкой Республикой. Беспринципность и рвачество, иногда доходящий до самозабвения и откровенной циничной наглости империализм – таковы основные черты, которыми можно было бы охарактеризовать политику Польши времен Пилсуцкого, продлившуюся вплоть до ее почти моментального краха в сентябре 1939-го года. Редкий кто решался делать это внутри Польши в те времена. Рисковавшего безумца немедленно клеймили – как и должно быть это в по настоящему консолидированном обществе – предателем, отщепенцем и отступником от национальных интересов, и позволяли себе это либо видные представители левых партий, либо отчаянные одиночки с авторитетом и правом голоса, для которых совесть, истина и диктуемая разумом и совестью ответственность по отношению к реалиям, были всем или же стояли «над всем», в том числе над карьерой, опасностью широкого общественного поругания и многим иным. К числу их относился и Войцех, причем еще в те времена, когда не был профессором и излишняя смелость речей и несогласной с курсом и действиями правительства позиции, могла стоить ему получения профессорской степени, увольнения и иных неприятностей, о чем его неоднократно и предупреждали многочисленные коллеги, и откровенно расположенные к нему, и даже не слишком. Однако – Войцех был Войцехом. Он был и оставался собой в молодости, в годы расцвета и зрелости, и учась в университете, и скитаясь, и после вернувшись в «альма матер» и став легендарным лектором и профессором, его личность, свобода, верность разуму и совести, определяли разнообразные и подчас драматичные конфликты и противоречия его судьбы, были их истоком. Это проступало во всем, зачастую в очень разном – и в метаниях, в борьбе за честную, не вмещающуюся в рамки университетского интеллектуализма мысль, за правду и открытость гражданской позиции… И в бывало выходящей за рамки приличий бескомпромиссности и ярости дискуссий, высказываемых суждений, в резкости рецензий… Во многом, говоря коротко. Суть человека не изменить. «Горбатого могила исправит» – смеялся он над собой всю жизнь из-за этого и подобного… Однако, если копнуть глубоко – именно за эту верность себе, решимость быть и оставаться собой, способность оставаться собой даже посреди самого откровенного ада и «последних» обстоятельств, он на самом деле всю жизнь себя и уважал, и ценил в себе означенное именно превыше всего. Всё это и было тем, что позволяло ему, невзирая даже на ад настоящего и рушащийся мир вокруг, сохранять последнее уважение к себе, было каким-то последним, несломимым нравственным стержнем и источником нравственных сил для борьбы. Такова правда, и это в особенности подтверждалось теми событиями его жизни, когда гладко выбритым, подстриженным на немецкий манер и одетым весьма респектабельно, он вышел под руку с Магдаленой на станции в Закопане, и услышал немедленные предложения «экипажа досточтимому пану», причем пара из них были произнесены по немецки, и чтобы до бесспорности усилить и утвердить произведенное его появлением впечатление, он с удовольствием бросил несколько немецких слов в ответ. Пусть думают, что он и Магдалена – те сотрудничающие с немцами и генерал-губернаторством поляки, которым и при жутких временах вокруг живется ой как неплохо, оттого и способные позволить себе выбраться на поезде в Закопане. Лучшего сейчас для их спасения не придумать, и вот – даже к изувеченному, сразу бросающемуся глаза лицу Магдалены, относятся с уважением – мало ли, что да как. Он выучился лгать – смешно, но именно во имя правды и самого важного, и это не мешало ему оставаться собой и сегодня… «Если не совесть и разум, не правда жизни и дел, не служение истине, то зачем всё?» – этот принцип двигал его жизнью с ранней молодости, прошел через самые разные, подчас невероятно сложные этапы его пути, становился борениями, бурлением конфликтов, резкостью решений, и удивительно продолжал держать его, проносить его сквозь ад и во все последние годы… В те страшные и не такие давние дни, когда кажется, помнить о самом себе, о себе настоящем, не оставалось никакой возможности. В том числе – и ныне, когда бывший профессор, недавний «молочник Гжысь», запятнавший себя в глазах соратников подпольщик и вынужденный обагрить руки кровью беглец, он казался извозчикам возле станции Закопане немецким чиновником или сумевшим устроиться и посреди ада коллаборантом, одним из тех людей, которым, даже ненавидя их, оказывают уважение до того последнего момента, пока обстоятельства не разрешат вцепиться им в горло. А уж в лучшие годы… О, тогда он горел, жил, дышал этим принципом, позволял себе целиком отдаваться тому в жизни, делах, творчестве, отношениях с миром и окружающими людьми! И конечно – это становилось откровенными, дерзкими выступлениями против политики и конкретных действий правительства, которые он позволял себе, и когда его голос был лишь голосом простого лектора и доцента, и в те времена, когда речь шла о профессоре и авторе известных трудов. Зачем и заигрывать с немцами, демонстрируя слабость, бесхребетность и беспринципность, и одновременно откровенно и нагло лезть к ним на рожон, когда им, «встающим с колен» и распаляющим себя до безумия риторикой о «национальной безопасности», только этого и надо? Это и многое другое он говорил в 36-ом, когда обнаружились планы правительства по захвату Данцига, а так же об откровенно притеснительской политике в отношении немцам в Силезии. Либо готовьтесь к войне, действуйте серьезно и решительно, не заигрывайте с поднимающим голову под боком врагом, заставляя всем этим бояться себя, либо берегите хрупкий и законный порядок, более полутора десятилетий поддерживающий мир, не побуждайте врага своими бессмысленными авантюрами относиться к закону и договорам с откровенным цинизмом. Собственным цинизмом не подталкивайте врага смотреть на закон, обязательства и подписанные документы сквозь пальцы. Главное – не заигрывайте просто так с безумцами, не провоцируйте и не распаляйте их, не зная точно, для чего это надо, ведь ценой такой игры может стать катастрофа… Да, всё верно – он уже тогда предчувствовал возможную катастрофу… Оттого-то, в тот страшный первый день катастрофы, в разговоре с Кшиштофом, сам с горечью и посмеялся над собой, над собственным шоком и изумлением, над тем, как умудрился утонуть в иллюзии нормальной, безопасной, полной надежд и неожиданного счастья любви жизни… Как будто бы не предчувствовал катастрофы – многие годы и по разным причинам. И будто всё на глазах и неумолимо не шло к ней – за цепью политических событий, нараставших словно снежный ком, за усиливающейся радикальностью риторики кажется со всех сторон политической игры. За цинизмом и беспринципностью в политике его собственной, по настоящему и до глубины души любимой страны… Он многим рисковал тогда, ведь именно в 36-ом году, после издания его книги по философии музыки, всё стало идти к присвоению ему профессорской степени. Эти уродливые черты политики Польши Пилсуцкого, которой не стало в сентябре 1939 года, как на лакмусовой бумаге проступили в последний год перед трагедией, с событиями раздела и уничтожения Чехословакии, в занятой тогда правительством позиции. Разве можно так откровенно, цинично и безумно рвачествовать, пилить сук, на котором сидишь, попирать законность и участвовать в разрушающей все основы мира и порядка политике, жертвой которой может оказаться завтра уже любой, в том числе – и ты сам? Как же можно так откровенно и цинично участвовать в средневековом фарсе, разделяя и оправдывая политику силы, принцип «пришел и взял», рьяно и жалко участвовать в уничтожении законности и последних основ мира? Способствовать возрождению средневековой дикости, лишь норовя жадно урвать куски пирога там и сям, и не желая понимать и видеть, что грядет с этим дальше? Он говорил всё это тогда, причем уже с той кафедры, с которой наверняка мог быть расслышан. И рисковал конечно, и понимал всю напрасность этого и необратимость совершающихся событий… наверное – и неотвратимость катастрофы… И всё равно говорил. В наибольшей степени – для самого себя, чтобы как и всю жизнь остаться верным разуму, совести и правде… И чтобы никто, и в первую очередь – он сам, не мог упрекнуть его впоследствии, мол, ты то где был в это время, почему молчал и прятал всё, что видишь, чувствуешь и понимаешь за пазуху, в глубине себя? Во имя этого, последнего и главного, пусть практически это было и напрасно, и довольно рискованно. Да – с крушением Чехословакии Польша оставалась единственной, более-менее вменяемой страной Центральной и Восточной Европы, в которой сохранялись закон и свободы, цивилизация в самом лучшем смысле этого слова… И всё же – и в ней тогда уже вовсю горела и кипела патриотическая и провластная истерия, и голос против, голос разума, трезвости и совести, как и всегда в подобных случаях, получал причитающееся… И вот, всё шло к катастрофе и он чувствовал это, и говорил об этом, и вместе с тем – не поверил, когда случилось и прорвалось, словно очнулся в то утро из сладкого забытья нормальной, полной надежд, планов и счастья любви жизни, которая, как оказалось, висела всё время над самой адской и страшной бездной. И всё это в частности касалось и событий вокруг того места, в котором ныне они с Магдаленой, два беглеца с надломленными судьбами, пытались найти последнее спасение. Цинизм польской политики тогда был невообразим, он помнит. Оставалось только раскрыть глаза. Не имея тех ресурсов и сил, которым обладали нацисты, Польша старалась с такой же откровенностью и наглостью, с тем же самым преступным цинизмом грабить «по маленькому», где дают и плохо лежит, а у жертвы нет сил защитить последний грош в руке. Желая забрать Заольшье, разжигала и поддерживала сепаратизм словаков, и почти сразу же, как только выпала возможность, взяла и отобрала у обессилевших и со всех сторон раздираемых словаков земли с запада и востока от Закопане, на которые так давно зарилась. «Так стоило ли удивляться» – думал он потом множество раз – «что катастрофа и ее первый день начались именно с вторжения словаков в те городки и села, которые менее года перед этим были у них предательски и с откровенным цинизмом, с возрожденным из Средневековья, из кошмаров безвластия и древнеегипетских бунтов правом сильного, отняты»? Всё так, увы… Кто принял право силы, тот должен быть готов к тому, что у кого-то сил может оказаться поболе… А горделивые усатые маршалы не хотели этого понимать и видеть, и не пытались готовиться, и даже не думали о подобном, были уверены в себе… Только почему тогда вся эта отдавшаяся рвачеству, решившая опять поиграть в империю и якобы непобедимая страна, рухнула как карточный домик за считанные дни?! Куда в борьбе за страну делась та дерзость и уверенность, с которой ловили перед этим крохи с разрезанного нацистами пирога?! Почему уже три года миллионы людей платят адскую цену за эти циничные, наглые и безответственные игры?! Где же всё это у нынешних подпольщиков, приговоривших его к смерти, не способных пикнуть и никак не могущих ощутить, что «настал час» и «сил достаточно»?! А тогда силы были, да, и уверенность в них тоже была?! Все так и думали… только не было за этим на самом деле ничего, кроме пустоты, глупой и безответственной дерзости, пафосных и наглых претензий, желания мнить себя вновь возродившейся и великой империей… Расплатой стали шок, глубочайший испуг, страх действовать, ощущение бессилия и безнадежности перед разорвавшими тогда страну силами, и вот – три года прошло, и до сих пор ни в душах и умах обычных людей, ни в умах тех, от которых что-то зависит, не удалось всё это преодолеть… И «ждать с оружием у ног», «терпеть и готовиться» несется как главный призыв, и всё откладывают «на потом» то, что уже давно должно было делаться… А тех, кто рискует и позволяет себе то, что должно, готовы признать предателями и даже приговорить… И дело не в нем, а в сути… А что же было тогда, во время всей этой игры в «империю» и «право сильного»? Зачем тогда всё это делали, на что, безумцы, надеялись? Почему не умели смотреть трезво в лицо вещам, собственным возможностям и назревающим, неотвратимым событиям? Почему силы хоть что-то видеть и чувствовать были у немногих одиночек, а не у тех, кто принимал решения? Вопросы… Он с болью задает эти вопросы, как с болью делал это тогда… Потому что поляк. Потому что любит Польшу, гибнущую ныне во власти собственных ошибок и торжествующего, разбушевавшегося вовсю безумия… Потому что гибнет и страдает его страна… И хоть эта страна и ее герои, во власти страха и во имя химер, сейчас спокойно позволяют губить сотни тысяч таких как он – евреев, ставших плоть от плоти поляками, считая их всё-таки «не своими» и будучи готовыми поэтому ими пожертвовать, он чувствует – что это его страна… И бегущий по ее дорогам и весям от вынесенного приговора, напившись под ее небом муками, он чувствует, что любит ее еще больше, неотделим от нее сутью, жизнью, судьбой… И сейчас разражается в мыслях тирадами и гневными вопросами с той же любовью к ней, с которой тогда делал это вслух… Он иногда думает, что неотделим от этой страны и его судьба и жизнь где-то в другом месте невозможны… Что оторвать его от Польши можно только с корнями и с кровью, то есть равнозначно тому, чтобы погубить… Он настолько сращен с ней и часть ее, так привычно и словно само собой разумеясь ощущает себя связанным с нею, связанным неразрывно, что представить себя где-то в другом месте просто не может, а когда смотрит со стороны и по философски, то лишь изумляется и думает – а как вообще может быть иначе? Сколько веков его предки жили здесь и говорили по польски? Пять, восемь, еще больше? Сколько веков его семья прожила в Казимеже? С каких пор осела там? Еще с тех, наверное, когда небольшая еврейская деревенька вырастала у стен города-крепости, возведенного, чтобы укрепить Краков с юга… Он помнит местечки и города Галиции, Волыни… эти огромные, кажущиеся нарисованными синагоги-крепости… его служившие полякам предки, веками молились в них, сражались с их стен и крыш с татарами, казаками, шведами… Как, как оторвать себя от всего этого, представить себя отдельно?! Даже сейчас, когда ему в его родной и любимой стране нет места и скорее всего – не жить, а так или иначе, от рук одних или других, слепцов или озверевших безумцев погибнуть, он не способен на это… А что же делать?.. Как выжить?.. Желание и силы бороться есть, но как суметь обмануть и перебороть судьбу?.. Он должен найти ответ на этот вопрос – от такого ответа зависит жизнь не только его, а еще и Магдалены и того ребенка, которого она даст бог понесла в себе, но он не видит ответа… За этим ответом они и приехали сюда, при всей рискованности и отчаянности затеи… Еще конце двадцатых готов Закопане стало известнейшим местом, в котором проводились соревнования лыжников… А в тот же самый год, когда разверзлись пропасть и ад, в этом месте состоялся всемирный чемпионат по лыжам. И большую часть медалей на нем забрали те самые дети Рейха и великой арийской нации, который спустя восемь месяцев понесли на польскую землю смерть, безумие и кровь. В то самое время, когда делилось последнее, вызревали безумные и кровожадные, обещающие миллионные жертвоприношения планы, и стороны будущей адской бойни потихоньку занимали позиции, десятки тысяч быть может и чувствующих что-то, но боящихся глядеть в лицо правде людей, стояли здесь, на покрытых снегом склонах, как ни в чем ни бывало, и глядели на виртуозные трюки спортсменов… Эти люди принадлежали как раз тем странам, которые кромсали в этот момент друг друга или готовились воевать, но перед адом были еще капельки времени и мира, и вот – красота окружающих Закопане гор, фантастические прыжки и полеты на высоте десятков метров, создавали усыпляющую, обольстительную иллюзию, что всё нормально и ничего страшного не происходит. После событий Закопане стало принадлежать к генерал-губернаторству и превратилось в излюбленное место отдыха нацистских «сливок» и бонз, и ехать сюда конечно было опасно, тем более им. В их положении, с изувеченным в подвалах краковского «гестапо» лицом Магдалены. Но другого выхода не было. Они ехали, собственно, не в само Закопане. Взятый возле станции экипаж повез их в Малую Циху, село в двенадцати километрах – именно там жили родственники пана Юлиуша и там он осел, уехав из Кракова. Село находилось теперь почти у самой границы со Словакией… О, не было никакого удивления в том, что в самые первые минуты войны словаки ринулись в те деревни, которые несколько месяцев перед этим у них отобрали, дошли до самого Закопане! Он помнит, какая неожиданная ярость его обуяла во время разговора с Кшиштофом, при упоминании о родственниках пана Юлиуша, с раннего утра сообщивших о нападении словаков – а чего еще было ждать?! Кто выбирает силу, должен быть готов к тому, что сам окажется жертвой этого… Он был настолько откровенным, дерзким и яростным противником и политики «санации», и авторитарного, иногда похожего на фашистский режима Пилсуцкого вообще, что часто казался то ли просто анархистом и смутьяном, то ли даже коммунистом. И многие из уверенных в этом окружающих после удивлялись, обнаруживая из его лекций и статей, что коммунизм точно так же чуть ли не ненавистен ему глубоко присущим тому и обреченным стать реалиями и практикой тоталитаризмом. А как можно было иначе?! Патриотизм – патриотизмом, но есть ценности гораздо более высокие, чем «благо и интересы нации», зачастую такие же иллюзорные, как и ее якобы политическое процветание под крепкой рукой, и настоящий патриотизм может состоять не в лояльности власти и позиции рвачества и «закручивания гаек», а именно в верности таким ценностям. Да – Польше двадцатых и тридцатых приходилось выживать посреди пространства и мира, раздираемых множественными силами и по истине драматическими противоречиями, и это подразумевало конечно же известный авторитаризм власти и государства. Он много думал над этим в разные годы, и в этом была часть правды. Но это конечно же совершенно не означало права душить и лишать голоса оппозицию, раньше нацистов создавать концлагеря и заточать в них многие тысячи несогласных и политических противников! Да, он сам не любил коммунизма и коммунистов, был патриотом национального государства и желал своей стране настоящего блага… но польские коммунисты, из каких бы соображений не действовали, решались выступать и произносить что-то против, и часто – говорили из-за этого чистую, безжалостно отрезвляющую правду. И если исключить возможность слышать голос против – то что же окажется способным отрезвить, обнажить ведущие в пропасть заблуждения, в особенности опасные и торжествующие именно в монолитности общества и нации, которую иногда так ошибочно принимают за факт и условие их процветания, их силы и готовности к испытаниям?! Разве же не только та страна и то общество сильны, которые способны выслушать голос против и позволить ему прозвучать? Разве не обернулось всё это в конечном итоге гибелью и крахом?.. Разве не клеймились предателями те, кто говорили – отхапывая подобно нацистам там и тут у Чехии, Словакии и Литвы, где вообще возможно, в конечном итоге оправдывают подобную политику и могут стать ее же жертвами?.. Кто это слышал тогда, в самом преддверии бездны… Кто желал слышать на кураже от успехов и во власти слепоты, в лживой уверенности в собственных силах, обратившейся вскоре крахом, шоком… параличом воли… утратой той способности бороться за свободу, которая, кажется была неотделима от слов Польша и «поляк»… Село, в которое они ехали, было на данный момент их единственной надеждой на спасение, и они конечно же боялись… кто не задрожал бы внутренне от волнения и сомнений в такой ситуации? «Кужин» пана Юлиуша держал гостиницу в Малой Цихе, почти у самых гор, близко к трассам, по которым летали сломя голову лыжники. Отбоя от посетителей не было круглый год и потому – хоть и стояла гостиница посреди маленького села и вдалеке от самого Закопане, в ней была такая исключительная по временам роскошь, как телефон… Они ехали по принципу «будь что будет» и были готовы к тому, что даже не просто неприятно поразят, а испугают пана Юлиуша Мигульчека своим появлением… поди знай… Пожилой человек, нашедший тихую нишу посреди бушующего ада, мог быть вовсе не рад появлению в своей жизни людей, настолько истерзанных и гонимых обстоятельствами, несущих в их судьбе словно бы все страхи, беды и опасности времени. Им просто ничего больше не оставалось…