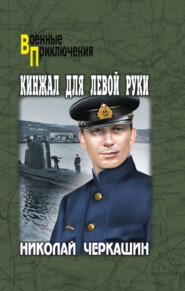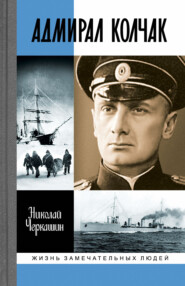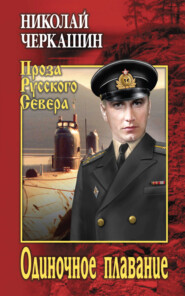По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дверь в стене тоннеля
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кто это «мы»?! – вскинулся изрядно распаленный Еремеев. – И где это «мы» не голодали? В Москве – да. А здесь, в Хотьково, а в Сергиевом Посаде, а на Волге, а за Уралом, а в России? А талоны на колбасу забыл? А макароны с черного входа? А номера на ладонях? А очереди за водкой? А «больше двух в одни руки не отпускать»?
– Ну, это только в последние годы было.
– Ага, только хорошо жить стали, бац, деньги кончились! А почему кончились? Да потому что в Политбюре твоей любимой их не считали. Во-первых, считать не умели, потому что честной статистики в стране не было, все цифры с потолка начальству лепили. А во-вторых, считать не хотели, потому что полагали, что в России всего много. БАМ? Вот вам десять миллиардов на БАМ. Ах, он уже почему-то четырнадцать стоит? Ну, берите четырнадцать. Ах, он на хрен кому нужен? Тс-с! Об этом ни полслова. Пусть это будет скромным памятником Ильичу. Реки повернуть? Из Сибири на юг? Пожалуйста. Еще одна стройка века. Ах, никому не нужно и даже вредно? Ну и не будем, черт с ними, с миллиардами. Еще напечатаем.
Да тут никакая самая развитая экономика не выдержала бы! Америка бы рухнула, заставь американцев лепить мемориалы своему Линкольну в каждом штате и на каждой ферме памятник ставить.
– Под Ленина копаешь?
– А знаешь, сколько твоих любимых танков – я уже не говорю об одноразовых шприцах – на один только ульяновский мемориальный комплекс можно было выпустить?
– Да на кой ляд эти танки? Мы их столько наклепали, что…
– Вот! Вот! Потому и наклепали без счета, что считать не умели и не хотели. Вот и просчитались кремлевские старцы. Вот и повело их на перестройку, которую тоже не просчитали.
– А твои дерьмократы лучше?
– Ну, если я дерьмократ, то ты совок красно-коричневый!
Тимофеев остановился, схватился за край стола, нависая над ним, словно ствол самоходной пушки. Голос его задрожал на ноте последнего срыва:
– Да, я – красный! От злости и обиды покраснел. Мне ногу оттяпали, а потом ваучер сунули. Я на него пять бутылок водки купил! Это что – моя часть всероссийского нашего достояния?! Это за то, что мои отцы и деды настроили, напахали, навоевали – пять бутылок водки?! Так это твои демократы сотворили, а не домушники. Это ты им служишь, ты их защищаешь. А меня – в коричневые записал. В фашисты, значит. А у меня батя под Берлином лег, а я фашист? – бил Тимофеев прямой наводкой, темнея от гнева и выпитого. – Так какого хрена ты к фашисту приперся со своей кралей? А? А ну, марш отсюда к своим демократам, трубка клистирная, мент поганый! Из-за таких, как вы…
Спорить с ним было и бесполезно, и опасно. Еремеев отшвырнул стул, загораживавший выход из гостиной, и двинулся в комнату Карины. Вошел без стука.
– Пошли, Карина! Вставай.
– Умираю – спать хочется…
– Надо идти. Пойдем!
– Куда еще?
– В баню.
– Не остроумно.
– Говорю в баню, значит, в баню! У меня на участке только баня и осталась. Дом сгорел. Там вполне переночевать можно.
– А здесь нельзя? – нехотя приподнялась Карина.
– Видишь ли, нас некоторым образом выставляют. Политические платформы у нас не сошлись. Консенсус не нашли.
– А там найдем?
– Найдем. – Еремеев снова закинул на плечо Каринину сумку.
– Далеко?
– С километр.
– Охо-хо… Только уснула.
Они побрели на еремеевское пепелище и вошли в незапертую баню, забитую уцелевшими или слегка обгоревшими вещами. В небольшой парилке на двух полках были расстелены спальные мешки, изрядно прокопченные дымом пожарища. На них и улеглись. Карина на верхней полке, а Еремеев на нижней. Обоим пришлось слегка подогнуть ноги – вытянуться в полный рост парилка не позволяла. От волос Карины, свешивающихся вниз и едва не касавшихся лица Еремеева, шел тяжелый густосладкий дух розового масла.
«Больше всего на свете, – припомнилась булгаковская строчка, – пятый прокуратор Иудеи не любил запах розового масла». «А чего особенного, вполне приятный аромат», – подумал Еремеев, удерживаясь от соблазна погладить душистые волосы.
– Вот этой ночи уже не было бы в моей жизни, – отрешенно глядя в осиновые доски потолка, произнесла Карина. – А она есть. Как странно… Наверное, это уже другая жизнь.
– Другая, – подтвердил Еремеев. – Я живу уже в третьей своей жизни.
– Значит, ты везучий.
– Хотелось бы так думать.
– Ну надо же! Представить себе не могла, что после Венеции буду ночевать в какой-то хотьковской бане…
– Жизнь хороша своими контрастами, – вздохнул Еремеев. – Вчера Венеция, сегодня Хотьково…
– А завтра?
– Завтра Париж или Лос-Анджелес.
– Ростов-на-Дону.
– Да ну? – в рифму удивился Еремеев.
– Я к тетке уеду. Там меня никто не найдет.
– А здесь и подавно.
Она замолчала, прислушиваясь к шуму проходящего неподалеку поезда, потом спросила:
– А когда он вошел в комнату, у него в лице что-нибудь изменилось?
– У кого у «него»?
– У Лео. Ну, когда я вроде как мертвая лежала?
– У него-то?! – усмехнулся Еремеев. – И ты называешь это лицом?! У него на ряхе было одно – как бы не воскресла и не проговорилась. И еще – бежать отсюда побыстрее и подальше. Забудь его, он остался в другой жизни. Тебе Венеция понравилась?
– Спрашиваешь! Правда, жить там я бы не захотела. Сыро. Плесень. В каналах вонь. Это только туристам в охотку… Вот Езоло совсем другое дело! Там такие пляжи, коттеджи… А солнце! А море Средиземное! Вода синяя-синяя…
– Я видел.
– Где, в Езоло?
– Неподалеку. Через перископ подводной лодки.
– Ну, это только в последние годы было.
– Ага, только хорошо жить стали, бац, деньги кончились! А почему кончились? Да потому что в Политбюре твоей любимой их не считали. Во-первых, считать не умели, потому что честной статистики в стране не было, все цифры с потолка начальству лепили. А во-вторых, считать не хотели, потому что полагали, что в России всего много. БАМ? Вот вам десять миллиардов на БАМ. Ах, он уже почему-то четырнадцать стоит? Ну, берите четырнадцать. Ах, он на хрен кому нужен? Тс-с! Об этом ни полслова. Пусть это будет скромным памятником Ильичу. Реки повернуть? Из Сибири на юг? Пожалуйста. Еще одна стройка века. Ах, никому не нужно и даже вредно? Ну и не будем, черт с ними, с миллиардами. Еще напечатаем.
Да тут никакая самая развитая экономика не выдержала бы! Америка бы рухнула, заставь американцев лепить мемориалы своему Линкольну в каждом штате и на каждой ферме памятник ставить.
– Под Ленина копаешь?
– А знаешь, сколько твоих любимых танков – я уже не говорю об одноразовых шприцах – на один только ульяновский мемориальный комплекс можно было выпустить?
– Да на кой ляд эти танки? Мы их столько наклепали, что…
– Вот! Вот! Потому и наклепали без счета, что считать не умели и не хотели. Вот и просчитались кремлевские старцы. Вот и повело их на перестройку, которую тоже не просчитали.
– А твои дерьмократы лучше?
– Ну, если я дерьмократ, то ты совок красно-коричневый!
Тимофеев остановился, схватился за край стола, нависая над ним, словно ствол самоходной пушки. Голос его задрожал на ноте последнего срыва:
– Да, я – красный! От злости и обиды покраснел. Мне ногу оттяпали, а потом ваучер сунули. Я на него пять бутылок водки купил! Это что – моя часть всероссийского нашего достояния?! Это за то, что мои отцы и деды настроили, напахали, навоевали – пять бутылок водки?! Так это твои демократы сотворили, а не домушники. Это ты им служишь, ты их защищаешь. А меня – в коричневые записал. В фашисты, значит. А у меня батя под Берлином лег, а я фашист? – бил Тимофеев прямой наводкой, темнея от гнева и выпитого. – Так какого хрена ты к фашисту приперся со своей кралей? А? А ну, марш отсюда к своим демократам, трубка клистирная, мент поганый! Из-за таких, как вы…
Спорить с ним было и бесполезно, и опасно. Еремеев отшвырнул стул, загораживавший выход из гостиной, и двинулся в комнату Карины. Вошел без стука.
– Пошли, Карина! Вставай.
– Умираю – спать хочется…
– Надо идти. Пойдем!
– Куда еще?
– В баню.
– Не остроумно.
– Говорю в баню, значит, в баню! У меня на участке только баня и осталась. Дом сгорел. Там вполне переночевать можно.
– А здесь нельзя? – нехотя приподнялась Карина.
– Видишь ли, нас некоторым образом выставляют. Политические платформы у нас не сошлись. Консенсус не нашли.
– А там найдем?
– Найдем. – Еремеев снова закинул на плечо Каринину сумку.
– Далеко?
– С километр.
– Охо-хо… Только уснула.
Они побрели на еремеевское пепелище и вошли в незапертую баню, забитую уцелевшими или слегка обгоревшими вещами. В небольшой парилке на двух полках были расстелены спальные мешки, изрядно прокопченные дымом пожарища. На них и улеглись. Карина на верхней полке, а Еремеев на нижней. Обоим пришлось слегка подогнуть ноги – вытянуться в полный рост парилка не позволяла. От волос Карины, свешивающихся вниз и едва не касавшихся лица Еремеева, шел тяжелый густосладкий дух розового масла.
«Больше всего на свете, – припомнилась булгаковская строчка, – пятый прокуратор Иудеи не любил запах розового масла». «А чего особенного, вполне приятный аромат», – подумал Еремеев, удерживаясь от соблазна погладить душистые волосы.
– Вот этой ночи уже не было бы в моей жизни, – отрешенно глядя в осиновые доски потолка, произнесла Карина. – А она есть. Как странно… Наверное, это уже другая жизнь.
– Другая, – подтвердил Еремеев. – Я живу уже в третьей своей жизни.
– Значит, ты везучий.
– Хотелось бы так думать.
– Ну надо же! Представить себе не могла, что после Венеции буду ночевать в какой-то хотьковской бане…
– Жизнь хороша своими контрастами, – вздохнул Еремеев. – Вчера Венеция, сегодня Хотьково…
– А завтра?
– Завтра Париж или Лос-Анджелес.
– Ростов-на-Дону.
– Да ну? – в рифму удивился Еремеев.
– Я к тетке уеду. Там меня никто не найдет.
– А здесь и подавно.
Она замолчала, прислушиваясь к шуму проходящего неподалеку поезда, потом спросила:
– А когда он вошел в комнату, у него в лице что-нибудь изменилось?
– У кого у «него»?
– У Лео. Ну, когда я вроде как мертвая лежала?
– У него-то?! – усмехнулся Еремеев. – И ты называешь это лицом?! У него на ряхе было одно – как бы не воскресла и не проговорилась. И еще – бежать отсюда побыстрее и подальше. Забудь его, он остался в другой жизни. Тебе Венеция понравилась?
– Спрашиваешь! Правда, жить там я бы не захотела. Сыро. Плесень. В каналах вонь. Это только туристам в охотку… Вот Езоло совсем другое дело! Там такие пляжи, коттеджи… А солнце! А море Средиземное! Вода синяя-синяя…
– Я видел.
– Где, в Езоло?
– Неподалеку. Через перископ подводной лодки.