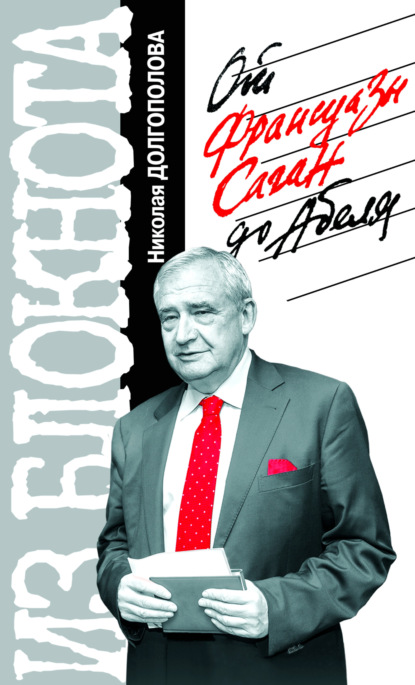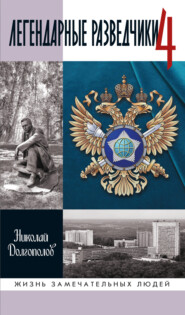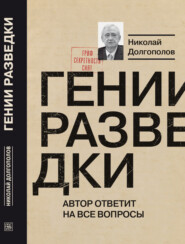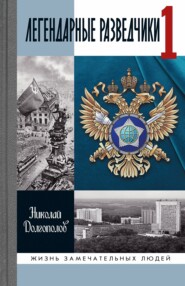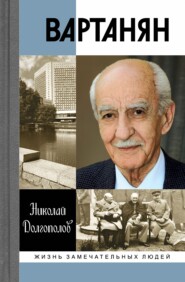По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из блокнота Николая Долгополова. От Франсуазы Саган до Абеля
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конечно, мы всей семьей знали секрет всех фокусов Эмиля Теодоровича Кио. Иногда даже подыгрывали. Был у Кио в эпоху 1950-х ошеломлявший публику трюк: иллюзионист подходил с огромной фотокамерой к сидевшим в первых рядах, нажимал на вспышку, и из камеры вылетало огромное фото зрителей. В ту пору это было немыслимо! Но мы-то знали, что если перед аттракционом подбегал старенький лилипут Володя, десятки лет с Кио проработавший, то надо оставаться и после антракта в той же одежде, не снимать шарфиков, пальто и шапок. Фотографировали заранее, проявляли, наклеивали на белую картонку, и из лжекамеры вылетало «чудо-фото».
Дома мы заслушивались историями циркового режиссера и создателя первого советского ледового балета Арнольда Арнольда. Но иногда в дни бегов он врывался в кабинет отца, не снимая верхней одежды. Страстный игрок, перехватив 25 рублей, мчался обратно на ипподром. Удивительно, но долг отдавал всегда следующим утром, а если выигрывал, то вместе с коробкой конфет или духов для мамы.
«Эрдман живет этажом ниже»
И все же страх, наверное, был спутником того поколения. Можно ли было без него, когда сегодня ты знаменитый Николай Робертович Эрдман, а уже завтра – высланный Папин-Сибиряк, а послезавтра к тебе в квартиру приходит милиция и интересуется, дома ли поднадзорный Эрдман, и приходится отвечать, что драматург и писатель живет этажом ниже, прямо под нами.
Меня порой упрекают некоторые лица, считающие себя знатоками биографий знаменитых деятелей культуры. Да откуда он это знает, был мал. Позволю себе вежливо ответить: пишу правду и такую, которую, к примеру, тот же Эрдман неоднократно и по-соседски рассказывал. Однажды, из Москвы удаленный, он в шутку подписал свое письмо оттуда именно так – Папин-Сибиряк, намекая на Папу – Иосифа Виссарионовича Сталина, а вовсе не на знаменитого писателя. Вождь, которому об этом доложили, юмор Эрдмана в отличие от некоторых бытописателей понял. И оценил, задержав еще на некоторое время подальше от Москвы.
Говорю со всей ответственностью. Когда папа спросил Николая Робертовича, что было для всех, даже только отправленных вдаль, а не получивших свое по 58-й статье, самым страшным, тот ответил просто: «Когда конвойный говорит: давай перебрасывай снег сюда. Перебросим, а он: а теперь давай перебрасывай обратно». Людей творческих это убивало. Сколько не создано и не написано из-за этого удушающего недуга.
Николай Робертович иногда погружался в грусть, пытался ее заглушить. Его жена – тетя Наташа Чидсон – строго наказывала соседям: «Никаких одалживаний». Но как все это остановить? Да никак.
К Эрдману после спектаклей наведывались артисты, чаще всего во главе с народным артистом СССР Борисом Николаевичем Ливановым, отцом лучшего Шерлока Холмса мира Василия Ливанова. Бывало, народные путали двери. Вместо девятой колотились к нам в 11-ю. Потом стучали в девятую. Жена Эрдмана возмущалась: «Да вы что делаете! Ломитесь к поднадзорному. К нам участковый каждый день звонит или ходит. Оставьте его в покое. Вам-то что. А ему…»
Иногда заканчивалось неважно. Тетя Наташа просила: «Помогите этим народным доползти домой». И мои родители вежливо, хоть и с трудом, дотаскивали отяжелевших. К счастью, жили те недалеко, некоторые в доме напротив памятника Пушкину.
В коляске диктора Левитана
Вообще пили тогда побольше, чем сегодня. Однажды в новогоднее празднество в мою коляску, стоявшую на площадке, ухитрился влезть диктор Левитан. И на много лет это стало семейной – и не только – хохмой. Встречая меня, Юрий Борисович всегда хмурился: «Ну что? Так и растешь с этой историей? Пора кончать». Дружеских отношений с лучшим голосом страны не получалось.
А еще невысокий Левитан любил красивых и высоких женщин. Пару раз засек его с молодой и высоченной. Было страшно смешно. Ей, вышагивавшей всегда на каблуках в мини-юбке, Левитан был по пояс. И я нагловато спросил знакомую, что она делает с этим маленьким дедушкой – ведь ему лет 65, что казалось мне в 1980-м глубочайшей старостью. Баскетболистка рассмеялась: «Да вам, молодым, учиться и учиться. У него все остальное подобно голосу». И когда Юрий Борисович умер, высоченная девушка в супермини проводила его в последний путь, а потом мы выпили с ней в память о дарившем всем разные радости.
Шофер для Шостаковича
А в основном окружали нас истинные интеллигенты. Отец возил великого Шостаковича на своем убогом «Москвиче» к нам на дачу. А гений смеялся: «Миша, вы хороший журналист, но как вы получили права?»
Может, ему было хорошо в компании неумелого водителя, ибо помнил, как после очередного разгрома его оперы в заказной рецензии отец нашел его в полуобмороке у газетного киоска и отвез домой.
С интересом читаю мемуары о встречах авторов с великими деятелями искусства. Написано со знанием темы, профессионально. Но часто задаюсь вопросом: воспоминания есть, а были ли встречи? Иногда у тех, небезгрешных, бывали свои заскоки, собственное представление о людях, эту землю населявших. Как же тогда встречались, да еще и беседовали с исповедальным откровением?
Шаляпин рисовал Уланову
Не берусь много писать о Галине Сергеевне Улановой. Как и каждый гений, была она человеком сложным. К душевным исповедям не слишком склонной. Не пойму, почему лишь однажды с нею поговорившие или в какое-то турне съездившие срочно записывали себя в близкие подруги лучшей балерины мира.
Был я лично знаком лишь с одним ее настоящим другом – прекрасной журналисткой «Комсомолки» Татьяной Агафоновой. Когда Таню, все время пропадавшую у Улановой и почти забывшую о работе, уволили за прогулы, у строгого нашего главного редактора Льва Корнешова зазвонила вертушка. Человек, которому нельзя было отказать, просил восстановить сотрудницу. И Лев Константинович, взяв под козырек, приказ свой отменил. Горько, но Татьяна Агафонова ушла на три года раньше старшей своей подруги.
Как-то сын Федора Шаляпина, французский художник Борис Федорович Шаляпин, наездом подарил отцу портрет Улановой с трогательной подписью в левом углу. А Галина Сергеевна, к нам заскочившая, оставила посвящение в углу правом. Потом Уланова, знаменитый французский танцовщик и балетмейстер Серж Лифарь и папа выходили в Варне на яхте в море. Значит, были с отцом добрые отношения, было уважение?
Но когда Владимир Васильев, в ту пору руководитель балетной труппы и директор Большого театра, подвел меня за кулисами к величайшей истинно народной и представил, не забыв упомянуть о соответствующем родстве, Галина Сергеевна отреагировала сухо. Точнее – никак. Кивнула – так, между прочим. Но заслуживал ли я, журналист и первый замглавного огромной газеты, большего? К чему конгениальным расходовать энергию и время на общение с кем попало? Каждая секунда дорога не только для нас, что понятно, но и для них тоже. И теперь я вчитываюсь в поток воспоминаний о лучшей балерине мира. Откуда они взялись, не дрогнувшей рукой написанные складно и порой увлекательно? Загадка.
Загадки без ответов
Еще одна загадка совсем в ином: почему с отцом так дружили иностранцы, люди уехавшие? Он состоял в трогательной переписке с директором «Ла Скала» Антонио Гирингелли. Или вдруг в 1975 году позвонил мне в «Комсомолку»: «Срочно приезжай домой, нужна твоя помощь». Я рванул на Горького и, благо близко, застал картинку. Он и художник Николай Александрович Бенуа, заскочивший из Италии, по очереди пытаются вытянуть пробку из бутылки. Пробку-то вытянул я, и с первого раза. Но что толку? Кто мне Бенуа и кто я ему? А с отцом они дружили…
Или ушла порода? Он мальчиком-статистом выступал с Шаляпиным, а я тратил время на бездарный теннис. «Что за мелодия? Откуда?» – теребил он меня, я же без тени смущения пожимал плечами. Не схватил многого, что давала – и щедро – жизнь. Где-то упустил, не дотянул до того, что именуется чудесным словом «культура». И я – еще не наихудший. Остается утешаться только этим. Интеллигентность незаметно и тихо исчезла из нашей жизни. Ушли или, простите, вымерли ее последние спутники-носители. Из того отцовского поколения ровесников века – 1901 года рождения – не осталось, что абсолютно логично и естественно, никого. И даже не то страшно, что они не с нами. Увы, мы не унаследовали ничего или, будем, как всегда, к себе снисходительны, мало что переняли из их наследия. Связь времен прервалась, передача эстафеты не состоялась.
Когда папы не стало, я попытался разобрать огромнейшие залежи архивов. И не смог. Сломался на вторую неделю. Не буду рассказывать, как и куда они позорно исчезли и с моего молчаливого согласия тоже. Я о другом. Знал, что отец – трудяга. С утра до ночи и снова с раннего утра стучал в нашем доме трофейный «Ундервуд». В это время заходить в кабинет строжайше запрещалось. Но не думал я, что столько написано и столько загублено. Маленькая толика издана, поставлена, снята. Меня убили кипы киносценариев, на которые уходили годы жизни. Они высились бесполезными памятниками журналистскому, писательскому трудолюбию. Почему, по-нашему говоря, не пошло? Нет ответа. Хотя довольно категорично могу признать: были не хуже других снятых киноповестей и изданных книг. Но, честно, не лучше.
Сидел в отце какой-то внутренний цензор, мешавший загнать в фильм то, о чем он так увлекательно рассказывал. Все же пройденная в жизни школа всесоюзного страха проникла и в сердце, и в душу. И этого проклятого цензора, омерзительного, намертво засевшего, было уже не выдавить.
Я нашел письмо отца своей тете, так никуда в 1920-е в отличие от всех своих родственников не сбежавшей и осевшей в коммуналке в Ялте. Как у них, у той прослойки, и полагалось, общались на «вы»: «Тетя, прошу Вас, покажите Коленьке место, где мы в детстве отдыхали. Только объясните все аккуратно, с присущим Вам тактом. Объясните, что это наше семейное гнездо, добровольно переданное, кажется, простым железнодорожникам». И баба Женя привела меня в гнездо с мраморной лестницей. В санатории отдыхали работники МПС. Между прочим, когда мне говорят, что «Крым-то все равно не наш», слышать это тошно. Он и наш, и лично мой тоже.
Но почему такой жуткий страх уживался, нет, не с героизмом, а с постоянными командировками на фронт? Там что, страха не было? Исчезал?
Или странный эпизод в Нюрнберге. Там работали зубры во главе с Борисом Полевым. Фронтовики, орденоносцы. И не великие, а скромный Мих. Долгополов подписал письмо министру иностранных дел товарищу Молотову.
Процесс шел с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946-го. И текст для тех суровых времен предельно откровенный. Суточные – грошовые, им, корреспондентам, еще хватает. А переводчикам, женщинам – стенографисткам, машинисткам очень тяжело, живут чуть не впроголодь. У молоденьких девчонок доходит едва не до обмороков. А уж как обносились. Надо помочь.
И почему-то помогли. Этому есть документальные доказательства, я видел фотокопию письма (или прошения?) в книге одной из молоденьких тогда переводчиц, в Нюрнберге работавших, добравшейся до высокого поста.
Странно, но мольба дошла до адресата, посланию дали ход. Кое-что подкинули. Многие годы отцу звонили бывшие сотрудницы нашей делегации. Поздравляли с днем рождения и всегда благодарили.
Откуда вдруг такая необычная смелость? Взял, написал. Отец оставил мне много вопросов, и этот – из самых трудных.
А вот еще одно совсем не сбывшееся предсказание: «У тебя перышко бойкое. Может, где-то к концу и выбьешься в фельетонисты. Или даже в спецкоры». Что поработаю замглавного в трех больших газетах, отцу и в голову не приходило. Лучшее в журналистике – специальный корреспондент.
Или святая для меня заповедь: «Первая газета – самая счастливая. Потом будет хорошо, но так здорово, как было, – уже никогда. Прими спокойно».
Кое-что я принимал как надо. Иногда терялся. Тиски давили. Но главная потеря не в том, что не успел, не написал. Странно, но расписался я под конец жизни. Может, потому мы и Долгополовы.
Числю себя в умело потерявших волшебную палочку. Порвалась связь. Не сумели взять от старших их лучшее, и оно кануло. Исчезло. Мне кажется, навсегда. Был позорнодолгий для отечественной русской истории почти десятилетний миг, когда тяжелобольной правитель, разбивший великую империю на куски, отдавал все, что можно было отдать. Да еще наставлял, чтоб брали столько, сколько смогут унести. И разобрали, растащили.
Предки и отцы собирали, склеивали по кусочкам, присоединяли свое, исконное, потом брали Берлин, а мы… Легче легкого справедливо сказать, что не виноваты, так сложилось, это все он, нездоровый правитель, хорошо попраздновавший с двумя такими же, как он, политиками-любителями в Беловежской Пуще.
Даже знаю, что и сейчас живущий в одной из близких по духу стран офицер спецслужбы с риском быть объявленным предателем выбирался из дома, где шел кощунственный дележ. Связывался с Москвой. Передавал строго, по пунктам, как режут державу вдоль и поперек. Так что большущее начальство было в курсе, однако мер не принимало. То ли устало, то ли руки опустились или были добровольно подняты вверх.
Но большой грех и на нас. Распалось. Талдычат, будто такова судьба всех империй. Чушь! А американцы, склеившие свои южные и северные штаты и еще много чего чужого по ходу истории прихватившие? Или англичане, сохраняющие, как бы то ни было, Содружество – иногда по швам трещащее, зато до сих пор существующее. Но это все о политике и ее родной сестре экономике.
Больно, что культура уходит, как и перешедшие в чужие владения земли. Так что еще раз низкий поклон за Крым.
…А отец мой болел страшно. Операция за операцией, и врачи-чудотворцы вытаскивали с того края. Выбравшись на пару месяцев из больницы, папа просил: «Отведи меня в “Известия”. Подышу редакцией». И я тащил его в дом напротив.
За неделю до смерти канатоходец Волжанский вместе со своими молодцами пригласил его в цирк на премьеру. Последний выход в свет. Высокий полет, риск, удача… Его принесли домой на руках, и папа сказал: «Ну, кажется, я совсем отходился. Даже рецензию не написать».
27 августа 1977 года он присел на дачную завалинку. Сказал: «Как сегодня поют птицы». И умер. Тело его потеряли по пути в Москву, и мы с завотделом «Комсомольской правды» Володей Снегиревым мучительно тыкались во все подмосковные морги.
Отыскали. Но как многое затерялось и ушло.
Здесь я совершу небольшой кульбит во времени – из прошлого недалекого в прошлое настоящее. Хочу рассказать о героическом, победном, в котором и наш род принял скромное, а участие.
Когда взяли рейхстаг
Историю Великой Отечественной войны довелось выучить не только по учебникам. Отец был с начала войны корреспондентом «Известий» и Совинформбюро – огромной информационной структуры, созданной 24 июня 1941 года.
Папа не любил рассказывать о первых годах войны. Сплошные неудачи. Ни единого светлого пятна, кромешный мрак. Поражение за поражением. Несмотря ни на что верили, что фашистскую махину остановят, – их научили, приучили к этому, вогнали, прямо-таки втерли в сознание. Эта вера, полагаю, тоже помогла выстоять.
Самое страшное воспоминание отца и всех наших – это московские погромы 16–18 октября 1941 года. В городе – паника. Били витрины магазинов, тащили вещи, продукты. Мародеры, иногда вооруженные, врывались в дома, грабили квартиры. Словно пробил последний час Помпеи.