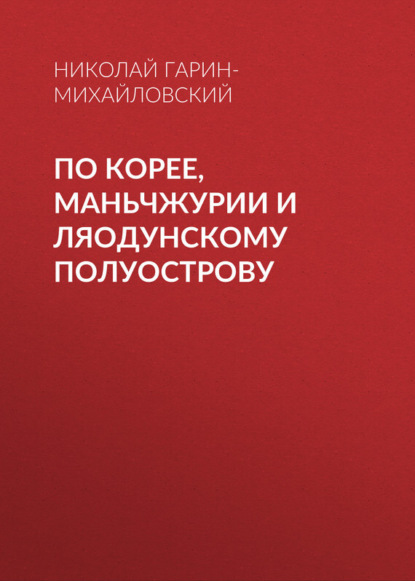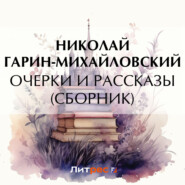По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову
Год написания книги
1898
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У каждого свой лакей-китаец, который и подает нам меню.
Пока я не навострился, меню подавалось мне в каюту, и с словарем в руках я предварительно изучал его.
За другим столом сидят молодой метис с женой, оба тихие, симпатичные. Молодой пастор с женой и с их маленькой дочерью: они несколько лет жили в Китае и теперь едут за сбором пожертвований, так как в том районе, где они живут, свирепствует страшный голод. Еще две дамы с мужьями за тем же столом: одна пара грубая, малосимпатичная, хозяева большого галантерейного магазина в Сан-Франциско, другая пара – жители Нью-Йорка, богатые коммерсанты, – она в бальзаковском возрасте, сохранившаяся, но с налетом задумчивости осени на лице, хотя прекрасной, ясной, тихой осени.
Затем несколько джентльменов английских, в высоких воротниках, гладко причесанных, немецких и японских.
Японцы все в европейских костюмах, все маленькие, худые, с туго обтягивающей их лицо темной кожей. Этой кожи поскупилась отпустить им природа, и их зубы торчат из точно приподнятых страдальчески губ. Растительности на лице никакой, на голове много, но волосы жестки, как хвост лошади. Из маленьких щелок смотрят на вас уверенно и спокойно глаза.
За третьим отдельным столом сидят три китайца и с ними два мальчика: один в китайском платье, другой – в европейском. Это родные братья; и полный, симпатичный китаец, их отец, в национальном костюме, добродушно смотрит на своих детей. У мальчика, одетого по-европейски, такая же, впрочем, коса, как и у остальных китайцев.
Китайцы сидят за отдельным столом по установившемуся здесь, на Востоке, отвратительному обычаю.
– Почему же отвратительный? – переспрашивает меня В. И. – У них свои обычаи, от которых они не желают отказываться; у них свой запах, они нечистоплотны. Они неаппетитно едят, нечистоплотны или так уж просто пахнет от них, – вполне законно и нам сторониться их. Японцы надели европейское платье и сидят с нами. И за что я обречен смотреть, как он, китаец, будет выплевывать из своего рта пищу, класть назад ее на тарелку, опять в рот… И на суше стошнит, а здесь, в море, от одной мысли, брр… Нет, уж бог с ними, пусть обедают отдельно.
Китайцы едут в Сан-Франциско, и с ними их семьи.
С двумя китаянками я каждый день дружелюбно раскланиваюсь, – мать и дочь, – мы стоим иногда несколько мгновений, каждый желая что-нибудь сказать, но между нами барьер – наши языки, и, кивнув друг другу еще раз головой, мы расходимся.
10 ноября.
Сегодня качка, и уже нет впечатления, что наш «Gaelig» – гигант, которого не укачает никакая волна. Иногда нас швыряет, прямо как негодную скорлупу, и тогда пароход наш стонет и скрипит так, что, кажется, вот-вот он рассыплется.
Из разорванных облаков выглянуло солнце и холодно смотрится в желтую, мутную воду. Вода вся в судороге от порывов ветра и мечется и бьет в наш корабль. И каждый раз после такого удара несутся раскаты будто выстрелившей пушки, и фонтаны воды заливают иллюминаторы.
Я беру книги – русские, английские, французские – и отправляюсь в библиотеку.
Там много столиков с чернилами, перьями, бумагой, на которой изображен каш «Gaelig» и трехцветное знамя. В библиотеке уже сидит пастор с худым, измученным, молодым лицом и делает какие-то выписки из толстой английской книги, испещренной цифрами; на диване полулежит какой-то молодой англичанин, очевидно франт, в клетчатом костюме, с брошкой в галстуке, с длинным лицом, большими зубами, на гладко причесанной голове маленькая шелковая шапочка, штаны, конечно, подкатаны.
Я погружаюсь в работу. Проходит час, кто-то что-то крикнул, и все из библиотеки спешат вниз. Я спешу за всеми, и все мы останавливаемся на площадке перед столовой, рассматривая только что вывешенную карту. На ней уже обозначено: сколько миль мы сделали до двенадцати часов сегодняшнего дня, какова была погода. Сила ветра обозначена десятью баллами, – следовательно, близко к шторму. Часы уже переведены, и мы все переводим свои, каждый день приблизительно на полчаса вперед.
Выхожу на палубу. Мистер Фрезер делает свою обычную прогулку перед завтраком. С ним какой-то господин, лет пятидесяти пяти, с загорелым мужественным лицом, в шляпе с широкими полями. Тонкий и худой, мистер Фрезер внимательно слушает его, а потом делится со мной услышанным:
– Это знаменитый король одной из групп Гавайских островов. Лет тридцать тому назад он поселился на этих островах, выбросил английский флаг и с тех пор живет там, – у него теперь несколько взрослых детей и тысяча человек подданных малайцев. В первый раз он едет теперь в Англию.
– Он англичанин?
– Да. Он известен своею деятельностью, его колония в цветущем состоянии, прекрасные школы, кофейные плантации, заведены сношения с остальным миром, пароходы останавливаются в его бухте. Я познакомлю вас с ним, но, к сожалению, он ни на каком другом, кроме английского языка, не говорит.
Я знакомлюсь с королем, и мы ограничиваемся несколькими самыми обиходными фразами. Он мне говорит, что один из его сыновей тоже инженер и что они теперь строят у себя маленькую дорожку. Мистер Фрезер переводит мне, что король случайно попал на эти острова: буря разбила корабль, на котором он плыл, а его выбросило на один из берегов тех островов, где он теперь король. Я прошу передать королю, что очень счастлив увидеть современного Робинзона Крузо и в тысячный раз убедиться, что по самодеятельности и энергии англичане первая нация в мире. Мистер Фрезер переводит мои слова и, обращаясь ко мне, говорит:
– Я прибавил к вашим словам, что и мы, американцы, того же мнения.
На лице короля спокойное удовлетворение человека, создавшего людям своего острова иную жизнь: таково должно быть лицо Фауста, когда, в предвкушении созданной им жизни, он говорит: «Мгновение, ты прекрасно, остановись».
Десять часов вечера: я уже лежу, с удовольствием потягиваясь, в постели. Там, за тонкой стальной перегородкой бушует море, неистово стучится в борта нашего корабля, а в каюте тепло и мягко разливается матовый электрический свет. Там, где-то далеко-далеко, за этим буйным морем, и родина и дорогие сердцу люди, но пока я отрешен от всего этого, и думай, не думай, а придется еще полтора месяца так качаться. И хорошо еще, что хоть не укачивает. Но сон плохой: кренит так, что, того и гляди, свалишься с койки, – падают книги, ездят чемоданы по полу. Иногда раздастся особенно оглушительный удар, – не столкновение ли? Или что-нибудь лопнуло: вал, руль, винт, переборка? И я прислушиваюсь: не одеваться ли и бежать наверх? Но если крушение это, зачем же одеваться, зачем бежать наверх? Ворвется и сюда грозное море. И опять ничтожной скорлупой кажется мне наш гигант «Gaelig».
11 ноября
А сегодня мы уже входим в Нагасакскую бухту, – море синее, спокойное; солнце приветливо заливает нас своими лучами; ветерок лениво тронет лицо и полетит туда, где спят в солнечном блеске высокие берега, то голые и серые, то покрытые зеленой растительностью.
Вот Папенберг – скала у входа в бухту, с которой японцы, сорок лет назад, столкнули в море десять тысяч европейцев и своих крещеных японцев: многие из очевидцев еще живы и теперь в той толпе японцев, которая стоит на берегу и смотрит на нас. И здесь внизу, у бухты, и там выше, в зеленой горе, и на самом верху, где храм какой-то, домики хорошенькие, как игрушка, с большими навесами японские домики, – это Нагасаки.
Тепло и тихо, и по изумрудной поверхности бухты уже плывут к нам с навесом от дождя лодки, гребут в них японцы, часто голые, то стриженые, то в затейливой национальной прическе. Подъехав голые, набрасывают торопливо халаты и, размахивая энергично руками, зазывают пассажиров.
Вот мы уже и на берегу, и я жадно вдыхаю в себя мягкий теплый воздух, любуясь этой негой, спящей в золотых лучах осени южной земли. Кажется, уже видел все это когда-то: эти горы, этот город в них, этот ясный солнечный день, и в нем зелень осени, то желтый, то красный лист, светящиеся в блеске лучей, как прозрачные. Следы жаркого лета кругом на всем этом, сухом и пыльном; видел и эту толпу – в японских халатах, в европейских костюмах и смешанных, одни остриженные, другие в прическах, те с непокрытой головой, эти в шляпах котелком, но в халате, из-под которого выглядывает голое тело. У одного на ногах род сандалий, или деревянные подставки, которые громко стучат о плиты мостовой; другой в ботинках. Видел и эти женские фигурки с прической, в халатах, опоясанных широким поясом, с громадным бантом сзади, их смуглые лица с прорезанными глазами смотрят приветливо, но как-то ничего не выражают. Мы поднимаемся в верхнюю часть города, доходим до самого верха, широкая, в несколько этажей лестница пред нами, там наверху храм, – видел и это. Но, кажется, тогда была ночь, и в голубой ночи ярко горели огни фонариков всех этих, как портики, домов игрушечного города, огни отражались в бухте и дрожали там, когда проплывала, бороздя поверхность воды, лодка…
Пьер Лоти! Хризантема! Этот почтенный маленький старый японец в своем халате и прическе, который приседает, кланяется и скалит зубы, – ведь это почтенный родитель Хризантемы, а вот и сама она подает нам кофе в этом самом храме, наверху горы. И я долго не могу отделаться от навязанного мне Лоти впечатления, и все кажется мне, что это так, не люди, а фигурки – фигурки, снятые на время с полок художественных магазинов, где стояли они, выточенные из желтой слоновой кости, – фигурки людей, их домиков, отблеск той конфетной природы с розоватым отливом, которой так много в прекрасных альбомах цветной японской фотографии.
Но, читая Лоти, можно было разве угадать, что так скоро случилось в жизни японского народа – войну Японии с Китаем, выдвинувшую Японию сразу в ряд культурных наций? Войну, которая показала всем, что такое Япония и в смысле техники и в смысле политического развития форм ее жизни.
Читая Лоти, можно было разве предполагать ту нечеловеческую энергию, с какою нация в ничтожный промежуток тридцати лет догнала и перегнала многие культурные нации, культивирующиеся столетиями?
И когда писал уже Пьер Лоти свою Хризантему, весь этот процесс небывалого в мировой истории прогресса уже был в полном разгаре…
И ничего этого не заметил или, вернее, не дал заметить и почувствовать французский «бессмертный». И почувствовал это наш Гончаров в то время еще, когда японцы напрягали всю свою энергию, чтобы сбросить с скалы Папенберг не десять тысяч, а если бы могли, то и всех европейцев.
Как бы то ни было, я стараюсь отделаться от невольных предвзятых впечатлений и ищу непосредственных.
Вот японская улица, и сильно бросается в глаза подвижность и стремительность в движениях японской толпы. В то время, как фигуры корейца и китайца рисуются в воображении в состоянии покоя, японец вечно напряженно подвижен: идет ли он, он идет как-то судорожно спеша, вас ли везет в своей ручной колясочке, он напрягается изо всех сил, чтобы как можно скорее доставить вас к месту назначения. Даже в массе своей японская толпа сохраняет свои индивидуальные особенности: она напоминает синематограф с его нервными дрожащими фигурами или же толпу, вырвавшуюся из сумасшедшего дома и по дороге кое-кого ограбившую. Вот следы грабежа: один захватил шляпу, другой стянул пиджак, остальное его не стесняет, одет, полуодет, совсем голый, с накинутым халатом – не все ли равно? Точно это или помешанные, или люди, поглощенные чем-то таким большим, и вопрос о костюме – такая мелочь, о которой и говорить не стоит. Всмотритесь в эти сухие, взвинченные, напряженные лица. Как все это бесконечно далеко от покоя всего того Востока, который остался позади! Хочется спросить, какая муха их кусает?
Это напоминает период наших шестидесятых годов, тоже большого подъема и прогресса. Но у нас действовала только часть общества, самая интеллигентная, самая незначительная, а здесь, в этой японской массе, – все, весь народ, в каком-то бессознательном порыве торопятся сбросить с себя всю ту рутину, которая сковывала их до сих пор.
Как-то коснулись похорон, и японец проводник говорит мне:
– Японцы теперь сжигают умерших.
– Давно введено сжигание трупов?
– Не больше пяти лет.
– И так сразу все стали сжигать?
– Все. Разве у кого нет тридцати долларов, ну, так за тех полиция сожжет.
Что до меня, я был поражен этим новым ярким доказательством нешаблонности японцев, отсутствием у них всякой рутины. У нас в Петербурге, где благодаря болотистой почве этот вопрос назрел гораздо больше, чем в Японии, несколько лет тому назад раздался было в печати голос о сожигании трупов, но так и замер. И пройдет, конечно, еще не один десяток лет, когда наши даже интеллигентные люди будут завещать своим потомкам сжигать свои трупы. А здесь пять лет – и вся нация, как один человек, прониклась уже сознанием пользы.
Мы в магазине художественных вещей: прекрасные художественные вещи: черепаховые, слоновые, клуазоне. Хотя бы этот слоновой кости старик – на коленях у него книга, сбоку тянется к нему и протягивает ручку такой же лысый, как и старик, ребенок. Стариц оторвался от своей книги и поверх ее, поверх очков, смотрит на ребенка. Сколько мысли, силы и чувства в прекрасном выполнении фигурок!
– Нет, вы вот обратите внимание на эти две вазы клуазоне.
Пред нами две вазы почти в рост человека, металлические, эмалированные, с блестящею узорною поверхностью. Это не эмаль, а особая работа по проволоке. Надо быть очень большим знатоком, впрочем, чтобы понять, в чем тут дело.
– Эти вазы мне самому стоят девятьсот рублей, но теперь их и за две тысячи нельзя достать, теперь нельзя так работать; это можно было, когда японец жил голый и ел свои ракушки, и ему ничего не надо было, и никто ему не давал ничего, тогда ему и копейка заработка в день и то была находка, а теперь у него и заработок другой и потребности другие. Оттого так и падает качество выделываемых японских вещей: дешевизна осталась, а добросовестность в работе пропала.
– Вот, – говорю я, – часто слышу от здешних противников японской нации, что у японцев нет творческой силы, что способны они только, как обезьяны, воспринимать, а между тем вот ваш магазин весь наполнен самостоятельным и прекрасным японским творчеством.
– Но что вы хотите, – говорит хозяин, – говорят из зависти, говорят об ученике, который вчера только начал учиться. Тридцать лет – что такое в жизни народа? Нет, я другого боюсь для Японии: большие разбойники уже поделили мир между собою, и, как ни вооружаются теперь японцы, этим воспользуется только Англия. Они легкомысленно готовы брать деньги у англичан без конца – на флот, великолепную технику, электричество, – японцы, когда берут деньги, не думают долго, а когда завязнут по шею в долгах у англичан, их судьба будет не лучше Египта.