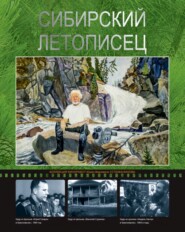По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зачем звезда герою. Приговорённый к подвигу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поначалу Пустовойко медленно поехал, но азартная кровь разгоралась. Наращивая скорость, он всё больше увлекался, потешно выпучивая глаза и высовывая кончик дрожащего языка.
Навстречу полетели предосенние луга и перелески. Ветер запосвистывал в приоткрытом боковом окне. Стрелка спидометра полезла вверх, а затем стала клониться ниже, ниже – в сторону ста двадцати километров. Дорога впереди была пустая, только лужицы взблёскивали разбитым зеркалом, да время от времени какие-то пташки взлетали с дороги, где они собирали, должно быть, зерно, упавшее с грузовиков, надсадно вывозивших тучный урожай. Мелкая живность – мошкара и муха, редкая бабочка – иногда врезались в лобовое стекло, расплывались разноцветными пятнами.
– Поехали! – подражая Гагарину, закричал Пустовойко, ощущая себя в кабине космического корабля. Скорость хмелила, скорость веселила. И вдруг…
2
Солнце над полями на несколько мгновений вдруг померкло – словно чёрное раскидистое дерево поднялось невдалеке. Или как будто нефтяной фонтан ударил – метров на пять и поднял сизое дымное облако.
Белая «Волга», виляя задом и противно повизгивая тормозами, остановилась.
– Это что такое? – насторожённо спросил Пустовойко. – Вон там. Не видел?
– Извините, – шепотом сказал шофёр, – я в другую сторону смотрел.
– Там что-то шарахнуло.
– Где? Вот там? Не видно. Может, показалось?
– Нет. Не показалось. – Пустовойко вышел из машины и, глядя в поля, повторил по слогам: – Не показалось.
Вихрастый парень тоже следом выскочил.
Они постояли на прохладном ветру, помолчали, глядя в ту сторону, где только что земля фонтаном хлестанула в небеса. А через минуту-другую до них долетел слабый запах тротила.
– Скорей всего, мина сработала, – догадался Пустовойко, шевеля ноздрями с треугольным вырезом.
– Мина? – Шофёр изумился. – Откуда?
– Ты живёшь тут без году неделя, а нам это дело знакомо. Здесь чего только нет. – Привставая на цыпочки, Семён Азартович покрутил головой. – Интересно, кто там наступил?
Неподалёку – россыпью – бродило стадо.
– Корова, наверно, – подсказал водитель, – вон пасутся. – Ладно, если корова. А ну, пошли.
Водитель сделал шаг, другой – и замер.
– Семён Азартович! А вдруг мы наступим на мину? Пустовойко оглянулся, недовольно сверкая глазами. – Ты на дерьмо коровье не наступи. А за всё остальное не бойся. Пошли, сказал.
Шофёр не хотел, а всё же поплёлся, стараясь шагать по-волчьи – след в след.
Завернув за красновато-жёлтые ракитовые кусты, Пустовойко увидел ошмётки развороченной земли, головёшками разлетевшиеся по сторонам. Подбитая сорока лежала на траве, трепетала окровавленными крыльями, не в силах подняться, и широко раскрытым, диким глазом пялилась на приближавшегося человека. Белые перья и снежинки-пушинки трепетали на сухих и жёстких стеблях кровохлёбки, словно оправдывавшей своё название – трава эта минуту назад хлебнула горячей крови, долетевшей брызгами. Дальше стояли ещё два раскидистых ракитовых куста с поломанными верхушками – ветки висели на древесной кожице, красноватой, полупрозрачной.
Походка Пустовойко была с подвывертом – от отца досталась. Раздвигая кусты, он замедлился. Потом присвистнул.
– Ох, ёлки! Это как же тебя угораздило? – Он склонился над человеком. – Да это же, по-моему, сосед мой. Стародуб. Ну, что? Надо грузить.
– В этих случаях, – робко напомнил шофёр, – лучше не трогать. Нас так учили по технике безопасности.
Человек, наступивший на мину, лежал в неловкой, нелепой позе, широко раскинув руки и подвернув под себя левую ногу. Хрипловато дышал, слабо морщился. И помутневшим взглядом убегал куда-то в голубую бездну небосвода.
– Куликово, – прошептал он, – поле, поле…
Пустовойко не расслышал.
– Боли? Ну, естественно. Будет боль, ещё бы! – Он повернулся к шофёру. – Берём! Ты что, оглох?
– Так это… – Водитель скосоротился. – Он же всю машину вам уделает. Вы посмотрите, какая кровища.
– А может, тебе в морду дать? – прикрикнул Пустовойко, раздувая треугольные ноздри. – Или ты передумал работать со мной?
Через несколько минут «Волга» врубила жёлто-молочные фары, круто развернулась, взвизгивая протекторами, и понеслась в районную больницу – километрах в пятнадцати от Миролюбихи.
Глава девятая. Жизнелюб и книголюб
1
Актёр провинциального театра Иван Рассохин был прирождённым, безнадёжным пессимистом – на лице забронзовела маска трагика. И потому лучше его никто в провинции не мог сыграть Отелло, громоподобным басом грохоча: «Молилась ли ты, Держиморда?» Именно так он однажды сказал перед тем, как «задушить» свою партнёршу по сцене.
И что тогда творилось в зале, какой стоял хохот – словами невозможно передать.
Кроме таланта трагика, Рассохин обладал талантом находить общий язык с людьми: возьмёт поллитру и подкатит к режиссёру, слабому насчёт рюмахи – и опять актёр прощён, помилован, хотя ещё недавно был приговорён к «расстрелу».
И опять он мог себе позволить вольную трактовку классической трагедии.
Рассохин был трагик по жизни – пришибленный, караваем судьбы обнесённый. Всем как будто по куску досталось, а ему, бедолаге, не дали ни крошки. И никакого просвета в жизни его не предвиделось.
И вдруг однажды Иван Рассохин решил пойти судьбе наперекор.
И случилось это – в день рожденья сына.
– Я ночь не спал, всё думал, – сказал он жене поутру. – Давай назовём – Жизнелюб.
– Кого? – удивилась жена.
– Ну, не меня же. Мальчонку нашего. – Жизнелюб? А разве есть такое имя в святцах?
– А разве есть на белом свете такой парнишка? – резонно ответил муж. – Разве он не единственный в своём роде? В нашем, то есть, роде.
Друг друга любили они – папа с мамой, поэтому долго не спорили. Жизнелюб, так Жизнелюб. Жизнеутверждающее имя.
Примерно так гласит семейное предание – не такой уж и далёкой старины. А другое предание или, точнее сказать, древняя мудрость напоминает: как вы свой корабль назовёте, так он и поплывёт.
Жизнелюб Иванович Рассохин по житейскому морю поплыл легко и весело – сначала в тёплой зыбке, потом в моторной лодке – городок находился на тихой реке. А затем уже поплыл на пароходе – из древнего русского города по окончанию школы он перебрался в Москву, поступил в институт. И школа, говорят, далась ему играючи, и медицинский институт не особо напрягал, поскольку он – глазами и улыбками искрящийся Жизнелюб – горячо полюбил свою будущую профессию. И это, конечно, заметили, когда он, молодой специалист, начал работать в поте лица своего – ассистенты, напряженно стоящие кругом операционного стола, только успевали пот вытирать со лба хирурга – Рассохин за время одной операции мог похудеть на три-четыре килограмма. Он брался за такие сложные, кровопролитные дела, перед которыми пасовали даже патриархи нашей медицины.
Безусый Жизнелюб Иванович рано в гору пошёл – успешно защитил диссертацию. И довольно рано стал занимать руководящие посты. А вместе с этим – как говорили в районной больнице – Рассохин рано «стал седины занимать». И седины и морщины прибавлялись после каждой операции – настолько велика была нервная нагрузка. Ещё в те времена, когда иконоборцы по стране свирепствовали, в операционной у него находилась икона Пантелеймона целителя. И не было пока что у Рассохина – тьфу, тьфу, тьфу! – и даст Бог, не будет ни одной операции с летальным исходом.
2