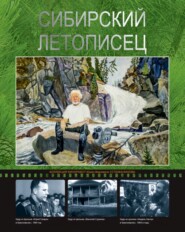По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зачем звезда герою. Приговорённый к подвигу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Деревянная бочка с водою стояла в углу просторной ограды. Стародубцев руки вымыл, об гимнастёрку вытер. Папироса, которую он прикурил, лихорадочно приплясывала в зубах.
– Гомоюн! И за что ты его угостил? – поинтересовался бывший старшина.
Стародубцев ухо поцарапал – несколько уродливое ухо, по краям подрубленное, похожее на дубовый листок на вершине русоволосого дуба.
– НКВД и СМЕРШ, – начал, было, рассказывать Солдатеич, – они тогда свирепствовали, сам прекрасно знаешь.
Жена Стародубцева выглянула из-за двери.
– Мужики! – Голос яркий, радостный. – Сколько можно дымить? Там люди ждут. Пора за стол.
Глава вторая. Доля
1
Старогородская школа иконописания – с далёких незапамятных времён – своими святыми ликами в первую очередь обязана женщинам. Здесь, на Русском Севере, испокон веков поклонялись Параскеве Пятнице, Анастасии. В ряду святых чаще всего можно увидеть самобытную эмблему Старгорода – Знамение. И нет ничего удивительного в том, что главная святыня Русского Севера – старогородская икона Божьей Матери «Знамение Пресвятой Богородицы».
Пройдёт немало лет, прежде чем Стародубцев поймёт, на кого похожа была его Доля, миловидная жёнушка Доля Донатовна. А пока не прошли эти годы, пока не набрался ума Солдатеич – он только сердцем чувствовал божью благодать, солнечный свет, струящийся от любимой женщины.
Доля Донатовна – несмотря на многие житейские проблемы и невзгоды – всегда была тихая, скромная, с голубыми глазами, с большою пшеничного цвета косой на груди, с губами в виде сердечка. Красота её была неброской, но задушевной. Красота, как бы светящаяся изнутри – красота её чистой, открытой души, изумительно кроткой, всепрощающей и как будто всепонимающей. Да она и в самом деле была всепонимающей – на уровне мудрого сердца и великой бабьей интуиции. Она принадлежала к тому уходящему типу славянских женщин, которых когда-то называли берегинями – берегущими, хранящими огонь домашнего очага.
Одним только своим присутствием женщина эта вносила гармонию в дом, в расхристанную душу мужика, когда ему случалось терять равновесие в житейских передрягах. Мужицкая тёмная сила, раскалённая до какой-то первобытной ярости, по ночам, содрогаясь, уходила в неё, как бешеная молния уходит в громоотвод. Доля стоном стонала такими грозовыми ночами даже плакала, но терпела – такая уж доля была у неё, такой «бедовый месяц» выпал ей, как называла она свой «медовый месяц» после свадьбы.
Года через полтора после того, как поженились, у них появилась тревога насчёт ребятишек. Как ни старался ночами Степан Солдатеич – даже старую железную кровать на любовном фронте «разбомбил» – только всё бесполезно. Доля не беременела. И появилось предчувствие, что дитёнка они сотворить не смогут. И не ясно было, чья вина. То ли муж неспособен к отцовству, то ли жена погубила в себе материнство на проклятой войне, где была многострадальной медсестрой. По густой грязюке, по взорванным снегам на передовой раненых бойцов таскала, таких тяжеленных, что не дай бог – всё внутри стонало и трещало.
– И что теперь? – шептала Доля в темноте, «в темешках», так она выражалась. – Как быть?
– Сходить к соседу, – брякнул Солдатеич и вздохнул, тяжёлой рукой поглаживая голову супружницы. – Надо на курорт попробовать.
– Ой, хорошо бы. Только там не протолкнёшься. Может, Азар Иосич нам поможет с путёвкой?
– Кто? Какой Назар?
– Пустовойко, тот, который в области. Моя подруга знает его жену.
Стародубцев помрачнел. Напрягся.
– Забудь! – приказал. – Эта сволочь – бывший наш бригадный комиссар. Политрук. В предательстве меня обвинял, хотел законопатить в штрафные батальоны. – Говорил Солдатеич спокойно, только смотрел вприщурку, словно через прицел, – верный признак волнения. – Посевная закончится, я сам раздобуду путёвку.
Неподалёку от Миролюбихи, километрах в пятидесяти, находился знаменитый санаторий, в котором когда-то сам царь Николай со своею семьёй отдыхал. Из-под земли там выходил минеральный источник, была хорошая грязелечебница, про которую знатоки говорили, что это – наше Мёртвое море в миниатюре.
Солдатеич несколько раз пытался жену отправить в тот санаторий – подлечиться, принимая целебные ванны. И сам туда съездить хотел, «подремонтироваться» после посевной, после уборки – он работал на тракторе.
Профсоюзное начальство обещало путёвку, а потом под каким-нибудь благовидным предлогом отказывало. И Стародубцев не выдержал – заявился к председателю местного профкома.
– Что, – спросил он, – засада с путевками? Царя Николая сковырнули с престола, так теперь тут другие царьки объявились?
– Ты на кого намекаешь? – спросил председатель.
– Я намекать не буду. Не привык. Я тебе прямо скажу. Если в ближайшее время путёвку не дашь мне и жене – пеняй на себя. Я сюда на тракторе приеду и устрою Курскую дугу – всю вашу контору с землёй сравняю.
Путёвки с той поры им давали неоднократно, только бестолку. Не помогал санаторий. И тогда обратились они к стародавним народным средствам.
Корень женьшеня появился у них в доме, в порошок истёртые корешки имбиря – для стойкости мужского оловянного солдатика. А для укрепления женского чрева – чего только не пробовали. Ужасно горький настой полыни. Настой грушанки и зимолюбки. Настой подорожника и росянки. Но все эти старания и прилежания не давали нужных результатов. И через полгода и через год жена оставалась по-прежнему гладкой. И уже казалась не такою сладкой. И всё чаще слёзы подкипали, дрожали в глазах у неё. И до того, как лечь в постель, женщина украдкой шептала:
– У лошади – жеребяти, у коровы – теляти, у меня нет дитяти. Как месяц растёт-нарастает, так пускай из семени семечко будет, для меня дитёночек прибудет. Господи, благослови!
И эта и другие молитвы, многократно слышанные, подспудно раздражали Стародубцева. Тиская рукой клокочущее горло, точно удерживая гневное слово, он поднимался, уходил на кухню. Папиросу ожесточённо смолил возле окна, по привычке стараясь припрятать окурок в ладонь, как будто опасаясь «ангела смерти» – немецкого снайпера, затаившегося где-то во мраке.
Белый силуэт старинной заброшенной колокольни проступал вдалеке.
«Самое лучшее место для снайпера – вон та колокольня, – размышлял Солдатеич, вглядываясь в потёмки. – Только шибко уж она кривая, там, поди, не усидишь. – Горько усмехаясь, он переставал таиться – огонёк папиросы малиновой ягодкой отражался в оконном стекле. – Какой тебе снайпер? Окстись, Гомоюн! Война давно закончилась, а ты всё никак не можешь от неё откреститься!»
Он по маленькой нужде выходил во двор, плечами передёргивал от полночной свежести. И опять смотрел зачем-то на кривую, лунным светом подбелённую колокольню – как будто большая берёза вдали над полями росла в наклон.
«Мать моя родина! – кручинился Гомоюн и по привычке почёсывал ухо, на фронте посечённое шрапнелью. – Пустое поле за деревней распахал, родить заставил, а бабу не могу раскочегарить!»
Зная, что теперь уже не угомонится до утра, он уходил в поля, наполненные синеватой дробью зябнувшей росы, внутри которой уже подрагивала кровушка рассвета.
3
Красота кругом – покой и воля. Умели наши предки выбирать пригожие места, где им жить до скончания веку, где работать от зари до зари. А работа здесь была в первую очередь – на земле. Вот почему и звалась она – мать-земля, кормилица. Вот почему кругом такие немудрёные и в то же время тёплые, сердцу дорогие наименования: Сенокосное, Пахотное, Зелёный Луг, Сухое Зерновое, Миролюбиха…
Благословенные эти древние земли из века в век кровью и потом политы на сто рядов. Осенними днями, когда раздевается русский простор, или весною, когда ещё деревья не оперились, когда ветрами-соловьями всё просвистано от горизонта до горизонта – выйдешь за околицу, поднимешься на взгорок, да так и замрёшь. Только сердце твоё заполошно и восторженно зачастит и словно загорится оттого, что ты видишь, оттого, что ты слышишь, но главное – оттого, что сердце твоё чувствует.
Да, самое главное в нашей судьбе, сокровенное самое – можно только почувствовать, как это ни печально, а может быть это и хорошо. Загадка, тайна бытия и смысл жизни – это не выразить ни словом, ни музыкой, ни картинами, которые иногда тут любят малевать городские художники, приезжающие откуда-то из области. Самое главное – растворено в лазоревом вот этом русском воздухе, чтобы люди все без исключения могли дышать, напитываться животворным духом родной земли, родной воды и неба. В этой земле, в этой воде и в этом небе – из века в век – жила и живёт растворённая в воздухе память народа, его история. Словно призрачная дымка в жаркий день – эта память встаёт над землёй и подрагивает, иногда порождая разноцветные миражи; память манит к себе и печалит, и радует одновременно…
Кажется, только взойди на бугор, на курган, седой от ковыля, повнимательней вглядись в лазоревую даль – и где-то там, в туманах прошлого и в дымке настоящего, куполами золотыми засверкает былая Русь. Волшебная страна Садко и вотчина Буслая откроются тебе. Кажется, любая береста в этих краях – даже на самой молодой берёзе – берестяную грамоту хранит, светлый привет из прошлого.
Хотя кроме светлых приветов древняя эта земля с недавних пор хранит в себе немало тёмного и даже смертоносного – тут полно оружия. Здешние люди хорошо это знают, увы. Но лучше всех, наверно, знают пахари, такие, как Стародубцев, с утра до вечера тянувший борозды по этим послевоенным полям, где произрастала и самым буйным цветом расцветала, кажется, одна только трава – на ржавую проволоку похожая кровохлёбка, нахлебавшаяся крови на месте недавних боёв.
Даже бабочки здесь порхали особенные – крупные, жирные, принадлежавшие семейству бражников. Бабочка такая под названием «мёртвая голова» – словно жуткое эхо из прошлого, где куражились дикие дивизии «СС», тоже, кстати, принадлежавшие к семейству бражников. Перед атакой эсесовцы шнапсом надирались до умопомрачения и готовы были парадным маршем топать за Урал и дальше, в сибирские просторы, где затерялось сердцу милое село Солдатеича. Небольшое скромное сельцо на высоком обском берегу.
Глава третья. Хрустальные горы
1
Матушка-Обь далеко растолкала свои берега в нижнем течении – ни конца, ни края глазами не поймаешь по весне. И не хотелось бы, чтоб кто-нибудь обиделся, и промолчать не хочется по поводу кипящей мелкоты и весело шумящей мелюзги всевозможных европейских рек и речушек, многие из которых можно пешком перейти. «Разливы рек её, подобные морям» – этот поэтический размах, не в качестве гиперболы, а в качестве обыденной реальности применим только для сибирского раздолья, для сибирских неуёмных рек, обладающих бунтарским характером, в половодье способных разгуляться на километры, пластая голубую рубаху на груди и сокрушая всё, что под руку подвернётся.
Вот куда стремился Стародубцев. Истосковалась душа по родным берегам, изболелась.
На родину приехал он в конце зимы. Погодка уже развесеннилась. Солнышко всё чаще в гости заворачивало. Тёплый ветер заглядывал с юга, свистел под окном наподобие друга. Небеса по-над рекой нежно и свежо обголубели. Затравенели поля, обставленные свечками берёз, блистательно белеющих на фоне чернозёма. Подснежники под берёзами раскрывали глаза – синие или червонные, белые, чайно-лимонные. Из-под снежной скорлупы, словно цыплята, проклёвывались лохматые цветочки мать-и-мачехи. Медуница воздух мёдом насыщала, пчёлку привечала. Тонкими живыми фитильками разгорался весенний горицвет – или адонис, или купавка, или стародубка; как тебе нравится, так и зови. Сосновый бор темнеет за рекой, хвойной гребёнкой чешет облака, седыми гривами склонившиеся в заречных далях.
Всё хорошо, всё прекрасно – только это не главное. Хрустальные горы манили его – ледоход, ледозвон, реколом, вот что хотелось ему посмотреть.
Сколько раз он в детстве коченел на этой крутоярине, сколько раз он вприщурку глядел, несказанно волнуясь, наглядеться не мог на это грандиозное «ледовое побоище» – так ледоходы величал покойный батя, Солдатей Иванович, большой знаток реки, изучивший характер Оби от самого истока, от острова Иконникова. Где-то там, рассказывал отец, Бия и Катунь схлестнулись буйными потоками, расцеловались и так обнялись, как только баба с мужиком во время жаркой страсти. И породили они вот эту Красавицу-Обь, синеглазую дочь, из дому убегающую прочь – в объятья Ледовитого океана, хладнокровного хулигана.
Солдатей Иванович, отец, всё детство колобродил по берегам Оби – в серединном течении. А уж потом, когда усами обзавёлся, пошёл в понизовье. Там поставил дом на крутовине. А заодно и Стёпку-шалопая сострогал из бревна, оставшегося от постройки дома. Так батя зубоскалил. Шутник он был отменный, выкомуривал, где надо и не надо. Запомнились вот эти мамкины слова: «Ещё петух в сарайке не кукует, а папка твой уже не спит, шуткует!»
– Гомоюн! И за что ты его угостил? – поинтересовался бывший старшина.
Стародубцев ухо поцарапал – несколько уродливое ухо, по краям подрубленное, похожее на дубовый листок на вершине русоволосого дуба.
– НКВД и СМЕРШ, – начал, было, рассказывать Солдатеич, – они тогда свирепствовали, сам прекрасно знаешь.
Жена Стародубцева выглянула из-за двери.
– Мужики! – Голос яркий, радостный. – Сколько можно дымить? Там люди ждут. Пора за стол.
Глава вторая. Доля
1
Старогородская школа иконописания – с далёких незапамятных времён – своими святыми ликами в первую очередь обязана женщинам. Здесь, на Русском Севере, испокон веков поклонялись Параскеве Пятнице, Анастасии. В ряду святых чаще всего можно увидеть самобытную эмблему Старгорода – Знамение. И нет ничего удивительного в том, что главная святыня Русского Севера – старогородская икона Божьей Матери «Знамение Пресвятой Богородицы».
Пройдёт немало лет, прежде чем Стародубцев поймёт, на кого похожа была его Доля, миловидная жёнушка Доля Донатовна. А пока не прошли эти годы, пока не набрался ума Солдатеич – он только сердцем чувствовал божью благодать, солнечный свет, струящийся от любимой женщины.
Доля Донатовна – несмотря на многие житейские проблемы и невзгоды – всегда была тихая, скромная, с голубыми глазами, с большою пшеничного цвета косой на груди, с губами в виде сердечка. Красота её была неброской, но задушевной. Красота, как бы светящаяся изнутри – красота её чистой, открытой души, изумительно кроткой, всепрощающей и как будто всепонимающей. Да она и в самом деле была всепонимающей – на уровне мудрого сердца и великой бабьей интуиции. Она принадлежала к тому уходящему типу славянских женщин, которых когда-то называли берегинями – берегущими, хранящими огонь домашнего очага.
Одним только своим присутствием женщина эта вносила гармонию в дом, в расхристанную душу мужика, когда ему случалось терять равновесие в житейских передрягах. Мужицкая тёмная сила, раскалённая до какой-то первобытной ярости, по ночам, содрогаясь, уходила в неё, как бешеная молния уходит в громоотвод. Доля стоном стонала такими грозовыми ночами даже плакала, но терпела – такая уж доля была у неё, такой «бедовый месяц» выпал ей, как называла она свой «медовый месяц» после свадьбы.
Года через полтора после того, как поженились, у них появилась тревога насчёт ребятишек. Как ни старался ночами Степан Солдатеич – даже старую железную кровать на любовном фронте «разбомбил» – только всё бесполезно. Доля не беременела. И появилось предчувствие, что дитёнка они сотворить не смогут. И не ясно было, чья вина. То ли муж неспособен к отцовству, то ли жена погубила в себе материнство на проклятой войне, где была многострадальной медсестрой. По густой грязюке, по взорванным снегам на передовой раненых бойцов таскала, таких тяжеленных, что не дай бог – всё внутри стонало и трещало.
– И что теперь? – шептала Доля в темноте, «в темешках», так она выражалась. – Как быть?
– Сходить к соседу, – брякнул Солдатеич и вздохнул, тяжёлой рукой поглаживая голову супружницы. – Надо на курорт попробовать.
– Ой, хорошо бы. Только там не протолкнёшься. Может, Азар Иосич нам поможет с путёвкой?
– Кто? Какой Назар?
– Пустовойко, тот, который в области. Моя подруга знает его жену.
Стародубцев помрачнел. Напрягся.
– Забудь! – приказал. – Эта сволочь – бывший наш бригадный комиссар. Политрук. В предательстве меня обвинял, хотел законопатить в штрафные батальоны. – Говорил Солдатеич спокойно, только смотрел вприщурку, словно через прицел, – верный признак волнения. – Посевная закончится, я сам раздобуду путёвку.
Неподалёку от Миролюбихи, километрах в пятидесяти, находился знаменитый санаторий, в котором когда-то сам царь Николай со своею семьёй отдыхал. Из-под земли там выходил минеральный источник, была хорошая грязелечебница, про которую знатоки говорили, что это – наше Мёртвое море в миниатюре.
Солдатеич несколько раз пытался жену отправить в тот санаторий – подлечиться, принимая целебные ванны. И сам туда съездить хотел, «подремонтироваться» после посевной, после уборки – он работал на тракторе.
Профсоюзное начальство обещало путёвку, а потом под каким-нибудь благовидным предлогом отказывало. И Стародубцев не выдержал – заявился к председателю местного профкома.
– Что, – спросил он, – засада с путевками? Царя Николая сковырнули с престола, так теперь тут другие царьки объявились?
– Ты на кого намекаешь? – спросил председатель.
– Я намекать не буду. Не привык. Я тебе прямо скажу. Если в ближайшее время путёвку не дашь мне и жене – пеняй на себя. Я сюда на тракторе приеду и устрою Курскую дугу – всю вашу контору с землёй сравняю.
Путёвки с той поры им давали неоднократно, только бестолку. Не помогал санаторий. И тогда обратились они к стародавним народным средствам.
Корень женьшеня появился у них в доме, в порошок истёртые корешки имбиря – для стойкости мужского оловянного солдатика. А для укрепления женского чрева – чего только не пробовали. Ужасно горький настой полыни. Настой грушанки и зимолюбки. Настой подорожника и росянки. Но все эти старания и прилежания не давали нужных результатов. И через полгода и через год жена оставалась по-прежнему гладкой. И уже казалась не такою сладкой. И всё чаще слёзы подкипали, дрожали в глазах у неё. И до того, как лечь в постель, женщина украдкой шептала:
– У лошади – жеребяти, у коровы – теляти, у меня нет дитяти. Как месяц растёт-нарастает, так пускай из семени семечко будет, для меня дитёночек прибудет. Господи, благослови!
И эта и другие молитвы, многократно слышанные, подспудно раздражали Стародубцева. Тиская рукой клокочущее горло, точно удерживая гневное слово, он поднимался, уходил на кухню. Папиросу ожесточённо смолил возле окна, по привычке стараясь припрятать окурок в ладонь, как будто опасаясь «ангела смерти» – немецкого снайпера, затаившегося где-то во мраке.
Белый силуэт старинной заброшенной колокольни проступал вдалеке.
«Самое лучшее место для снайпера – вон та колокольня, – размышлял Солдатеич, вглядываясь в потёмки. – Только шибко уж она кривая, там, поди, не усидишь. – Горько усмехаясь, он переставал таиться – огонёк папиросы малиновой ягодкой отражался в оконном стекле. – Какой тебе снайпер? Окстись, Гомоюн! Война давно закончилась, а ты всё никак не можешь от неё откреститься!»
Он по маленькой нужде выходил во двор, плечами передёргивал от полночной свежести. И опять смотрел зачем-то на кривую, лунным светом подбелённую колокольню – как будто большая берёза вдали над полями росла в наклон.
«Мать моя родина! – кручинился Гомоюн и по привычке почёсывал ухо, на фронте посечённое шрапнелью. – Пустое поле за деревней распахал, родить заставил, а бабу не могу раскочегарить!»
Зная, что теперь уже не угомонится до утра, он уходил в поля, наполненные синеватой дробью зябнувшей росы, внутри которой уже подрагивала кровушка рассвета.
3
Красота кругом – покой и воля. Умели наши предки выбирать пригожие места, где им жить до скончания веку, где работать от зари до зари. А работа здесь была в первую очередь – на земле. Вот почему и звалась она – мать-земля, кормилица. Вот почему кругом такие немудрёные и в то же время тёплые, сердцу дорогие наименования: Сенокосное, Пахотное, Зелёный Луг, Сухое Зерновое, Миролюбиха…
Благословенные эти древние земли из века в век кровью и потом политы на сто рядов. Осенними днями, когда раздевается русский простор, или весною, когда ещё деревья не оперились, когда ветрами-соловьями всё просвистано от горизонта до горизонта – выйдешь за околицу, поднимешься на взгорок, да так и замрёшь. Только сердце твоё заполошно и восторженно зачастит и словно загорится оттого, что ты видишь, оттого, что ты слышишь, но главное – оттого, что сердце твоё чувствует.
Да, самое главное в нашей судьбе, сокровенное самое – можно только почувствовать, как это ни печально, а может быть это и хорошо. Загадка, тайна бытия и смысл жизни – это не выразить ни словом, ни музыкой, ни картинами, которые иногда тут любят малевать городские художники, приезжающие откуда-то из области. Самое главное – растворено в лазоревом вот этом русском воздухе, чтобы люди все без исключения могли дышать, напитываться животворным духом родной земли, родной воды и неба. В этой земле, в этой воде и в этом небе – из века в век – жила и живёт растворённая в воздухе память народа, его история. Словно призрачная дымка в жаркий день – эта память встаёт над землёй и подрагивает, иногда порождая разноцветные миражи; память манит к себе и печалит, и радует одновременно…
Кажется, только взойди на бугор, на курган, седой от ковыля, повнимательней вглядись в лазоревую даль – и где-то там, в туманах прошлого и в дымке настоящего, куполами золотыми засверкает былая Русь. Волшебная страна Садко и вотчина Буслая откроются тебе. Кажется, любая береста в этих краях – даже на самой молодой берёзе – берестяную грамоту хранит, светлый привет из прошлого.
Хотя кроме светлых приветов древняя эта земля с недавних пор хранит в себе немало тёмного и даже смертоносного – тут полно оружия. Здешние люди хорошо это знают, увы. Но лучше всех, наверно, знают пахари, такие, как Стародубцев, с утра до вечера тянувший борозды по этим послевоенным полям, где произрастала и самым буйным цветом расцветала, кажется, одна только трава – на ржавую проволоку похожая кровохлёбка, нахлебавшаяся крови на месте недавних боёв.
Даже бабочки здесь порхали особенные – крупные, жирные, принадлежавшие семейству бражников. Бабочка такая под названием «мёртвая голова» – словно жуткое эхо из прошлого, где куражились дикие дивизии «СС», тоже, кстати, принадлежавшие к семейству бражников. Перед атакой эсесовцы шнапсом надирались до умопомрачения и готовы были парадным маршем топать за Урал и дальше, в сибирские просторы, где затерялось сердцу милое село Солдатеича. Небольшое скромное сельцо на высоком обском берегу.
Глава третья. Хрустальные горы
1
Матушка-Обь далеко растолкала свои берега в нижнем течении – ни конца, ни края глазами не поймаешь по весне. И не хотелось бы, чтоб кто-нибудь обиделся, и промолчать не хочется по поводу кипящей мелкоты и весело шумящей мелюзги всевозможных европейских рек и речушек, многие из которых можно пешком перейти. «Разливы рек её, подобные морям» – этот поэтический размах, не в качестве гиперболы, а в качестве обыденной реальности применим только для сибирского раздолья, для сибирских неуёмных рек, обладающих бунтарским характером, в половодье способных разгуляться на километры, пластая голубую рубаху на груди и сокрушая всё, что под руку подвернётся.
Вот куда стремился Стародубцев. Истосковалась душа по родным берегам, изболелась.
На родину приехал он в конце зимы. Погодка уже развесеннилась. Солнышко всё чаще в гости заворачивало. Тёплый ветер заглядывал с юга, свистел под окном наподобие друга. Небеса по-над рекой нежно и свежо обголубели. Затравенели поля, обставленные свечками берёз, блистательно белеющих на фоне чернозёма. Подснежники под берёзами раскрывали глаза – синие или червонные, белые, чайно-лимонные. Из-под снежной скорлупы, словно цыплята, проклёвывались лохматые цветочки мать-и-мачехи. Медуница воздух мёдом насыщала, пчёлку привечала. Тонкими живыми фитильками разгорался весенний горицвет – или адонис, или купавка, или стародубка; как тебе нравится, так и зови. Сосновый бор темнеет за рекой, хвойной гребёнкой чешет облака, седыми гривами склонившиеся в заречных далях.
Всё хорошо, всё прекрасно – только это не главное. Хрустальные горы манили его – ледоход, ледозвон, реколом, вот что хотелось ему посмотреть.
Сколько раз он в детстве коченел на этой крутоярине, сколько раз он вприщурку глядел, несказанно волнуясь, наглядеться не мог на это грандиозное «ледовое побоище» – так ледоходы величал покойный батя, Солдатей Иванович, большой знаток реки, изучивший характер Оби от самого истока, от острова Иконникова. Где-то там, рассказывал отец, Бия и Катунь схлестнулись буйными потоками, расцеловались и так обнялись, как только баба с мужиком во время жаркой страсти. И породили они вот эту Красавицу-Обь, синеглазую дочь, из дому убегающую прочь – в объятья Ледовитого океана, хладнокровного хулигана.
Солдатей Иванович, отец, всё детство колобродил по берегам Оби – в серединном течении. А уж потом, когда усами обзавёлся, пошёл в понизовье. Там поставил дом на крутовине. А заодно и Стёпку-шалопая сострогал из бревна, оставшегося от постройки дома. Так батя зубоскалил. Шутник он был отменный, выкомуривал, где надо и не надо. Запомнились вот эти мамкины слова: «Ещё петух в сарайке не кукует, а папка твой уже не спит, шуткует!»