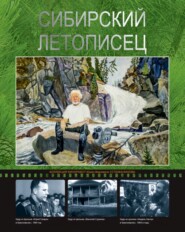По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зачем звезда герою. Приговорённый к подвигу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сокращая дорогу, Солдатеич двинулся по кромке поля, недавно распаханного. Хорошо кругом было – не наглядеться. Ароматный, свежий дух распашки волновал. Весенний благодух травы, цветов. Хорошо. И всё-таки тревожно. И даже непонятно, почему.
Остановившись, Стародубцев закурил. Посмотрел в небеса. На западном склоне уже догорали остатки желтовато-красного заката – солносяд придавливало тучами. А на восточной стороне ещё виднелись голубые не закрывшиеся окна. И во мгле проступали ещё тонконогие березняки на дальнем краю чернозёмного поля, над которым кружилась какая-то птица. Может, орёл-могильник, может, коршун-куроцап. Но Солдатеичу вдруг показалось, что это проклятая «рама» летает – фоторазведчик, «Фокке-Вульф».
И совсем уж ему стало не по себе, когда кусты неподалёку зашевелились и затрещали.
Фигура мужика в дождевике – будто привидение – возникла.
– Что ты бродишь всю ночь одиноко? Что ты девушкам спать не даёшь? – угрюмо спросил мужик, бесцеремонно застёгивая ширинку и добавляя весёлым голосом: – Ну, здорово, Гомоюн. Чуть на задницу не наступил.
Стародубцев от неожиданности даже папиросу выронил. – А ты чего здесь окопался? Ночевать, что ли, негде? – Тихо! – Бригадир наклонился и прошептал: – Я тут не один. У меня горизонталка под кустом. Солдатеич присвистнул.
– Ну, ты даёшь!
– Это не я даю – это она. – Купидоныч хихикнул. – Отваливай, потом поговорим.
Добираясь до дому, Гомоюн изумлённо качал головою и думал: Бог шельму метит.
Неспроста и не случайно Святослав Капитоныч на фронте стал «Купидоныч», как будто роднёю заделался древнеримскому мифологическому Купидону, божеству любви, который горячими стрелами обжигает сердца людей. Правда, Рукосталь стрелял отлично, несмотря на то, что половину указательного пальца оттяпали на правой руке. Только дело всё же не в стрельбе. Он был ходок от природы, ходок по холостячкам, разведёнкам, вдовам или брошенкам. «Горизонталки» – так он называл всех баб, легко принимающих горизонтальное положение.
В мирной жизни сделавшись строгим бригадиром, бывший старшина, запрягая свой «русский виллис» – так называл он лошадёнку с таратайкой – через день да каждый день объезжал свою «прифронтовую полосу»: Сенокосное, Ягодное, Сухое Зерновое и другие селения. А там – куда ни плюнь – вдова грустит, тоскует молодая разведёнка, кровь с молоком. Мужиков-то мало, побили на войне. А женская природа не только что просит, но даже и требует – вынь да положь. Вот и приходилось бригадиру вынимать «золотую стрелу купидона». Мужик неутомимый, здоровила, какие поискать, – на всех любви и ласки хватит вдоволь.
Однажды Солдатеич полушутя, полусерьёзно сказал: – Ох, ты и жадный до бабьего мяса.
Бывший старшина тогда сидел за рюмкой водки – разоткровенничался:
– Лично мне так много баб не надо. Но я как только вспомню Васю Вологодского, Ивана Черемных, Серёгу Фомина. Да разве можно всех перечислить. Вологодский перед смертью уже белый, уже отходит… И вдруг приподнимается и говорит… Ты, дескать, Купидоныч, если жив останешься, так ты, мол, постарайся не тока за себя, но и за нас, когда будешь с бабой это самое… Ну, вот я и стараюсь. А так-то я не жадный.
Может, он оправдывал разгульную натуру, а может, и в самом деле исполнял наказы тех бойцов, которые из жизни ушли «не долюбив, не докурив последней папиросы», как сказал поэт. Так или иначе, только он старался чуть ли не за целый взвод – за сорок, сорок пять гвардейцев, полных силы и огня. Да так старался, что порою даже умудрялся лишку прихватить – замужнюю какую-нибудь сдобную бабёнку прижимал средь белого дня в перелеске или где-нибудь в густых, васильками пересыпанных колосьях.
Эту странную жадность до бабьего мяса Стародубцев не понимал и понемногу начинал досадовать на фронтового друга.
«Куда ты порох тратишь?! – думал Солдатеич. – А если вдруг завтра война?»
Но больше того Стародубцев досадовал и даже злился на бывшего старшину вот по какой причине.
Рукосталь – хороший когда-то, бесстрашный боец – постепенно превращался в обыкновенного сельского мужика, в такую размазню, из которой трудно будет вылепить настоящего русского воина. И доказательством этому служил тот печальный факт, который Купидоныч сам продемонстрировал, нисколько не стесняясь.
Каждый день на своей таратайке объезжая окрестные деревеньки, новоиспечённый бригадир иногда натыкался на оружие на полях стародавних боев. И однажды попался ему пулемёт, вполне ещё приличный. Бригадир отмыл его от грязи, очистил от ржавчины и решил приспособить под мирную, весёлую жизнь. Купидоныч был далёк от смекалки русского гения Кулибина, только всё же хватило ума сотворить из пулемёта самогонный аппарат: к водяному охлаждению смертоносного агрегата он приспособил эмалированную кастрюлю и что-то там ещё присочинил. И пулемёт, в конце концов, стал потихонечку стрелять сырыми пулями – капля за каплей падала, наполняя стеклянную тару. А потом наполнялись стаканы, и душа наполнялась весельем.
И вот этот пулемёт, поставленный в амбаре, бывший старшина продемонстрировал Солдатеичу, как достижение своей гениальной смекалки.
И после этого Стародубцев, оскорблённый в самых лучших своих чувствах, с полгода, наверное, стороной обходил дом фронтового друга – не хотелось ни видеть, ни разговаривать с человеком, похожим на предателя Отечества.
3
Интерес к рыбалке с каждым днём становился всё больше. В доме появились поплавки и удочки. «Табакерка» с червями наготове стояла в сенях.
Добросовестно отпахавшись под вечер, Гомоюн загонял свой трактор куда-нибудь в чащобу, подальше от глаз. Доставал из загашника водку, удилище бросал на плечо – и по краю болота, по кочкам, резиново пляшущим под сапогами, по сырой луговине, широким шагом шуровал на переправу.
И покуда он шагал – смелость города брала. А как только оказывался на пороге избы – робел, телёнком делался и почти враждебно смотрел на старика: вот кто мешал ему.
Старик этот был – дед Марфуты, дед Кикима. Плешивый, древний, он не помнил своих лет и сам себя именовал Тысячелетником. И судя по тому, каким старинным языком он выражался – это было очень близко к истине.
Жилище своё дед называл не совсем теперь приятным словечком – «кубло». Деревянный ящичек – «досканец». Старый офицерский китель, давно кем-то подаренный, засаленный, а вдобавок ещё и прожженный махоркой – это был не китель, а «доломан»; так называли когда-то гусарский мундир, расшитый густыми шнурами; даже вместо погон и эполет на доломане были наплечные шнуры. Драная шапка из серого зайца была у него – «ерихонка». Хотя на самом деле «ерихонка» – это что-то вроде шлема или даже стального наголовника воеводы. Керосиновая лампа у него – жирандоль. Хотя в действительности это большой и фигурный подсвечник для нескольких свеч.
Короче говоря, в лобастой голове Тысячелетника всё уже давненько перепуталось. Наивный как ребёнок, и такой же незлобивый и бесполезный, он постоянно под ногами путался. Но вот что странно. Замшелый как пень, этот дедуля, казалось, вот-вот на гнилушки развалится. Ан да нет. Тысячелетник был такой могучий насчёт выпивки – ну, просто ужас. После пол-литровки на двоих глаза у деда не косели, а молодели, задорно сверкая. Он, хорохорясь, поводя плечами, сбрасывал на койку свой затрапезный гусарский доломан и, чуть не протыкая пальцем потолок, провозглашал:
– А не послать ли нам гонца за бочкою винца!
Гомоюн, когда первый раз услышал, обалдело покачал головой.
– Мать моя родина! – захохотал. – И они хотели нас победить!
– Х-то? – вскидывая серую мочалку бороды, ерепенился дед. – Х-то на нас? На вятских.
– Кому ты нужен? Ложись, дедуля, мы укроем тебя доломаном, жирандоль погасим.
– А за шкаликом сгонять?
– Вот зашкалило тебя. Хрен уторкаешь.
– А ты привози не одну поллитровку, – простодушно подсказал Тысячелетник. – Ты раскошелься, не жадай.
– Я не жадую, дед. Я просто не знал твой аппетит. Стародубцев, глядя на него, всё никак не мог отделаться от ощущения, что этот старикан – из кержаков, ушедших когда-то в сибирское глухое боголесье. Хотя, какой там, к лешему, кержак? И водочку хлещет, и самокрутку смолит, и ядрёным словечком не брезгует.
– Дед, – напрямую спросил Гомоюн, – а ты в Сибири был? Жил на обском берегу?
– Где я тока не жил, – уклончиво ответил Тысячелетник. – И на Волге жил, и на Оби.
– И было у тебя три сына? Да?
– Трясина, трясина, – сказал старикан, рукою махнув на окно. – Тут надо тропку знать, а то трясина мигом тебя проглотит.
«Глухой? Или прикидывается?» – Гомоюн испытующе смотрел на него.
– А почему же ты от старой веры отказался? А? – Староверы? – Помолчав, Тысячелетник крепким ногтем щёлкнул по стакану. – Я безбожник. Я горбатый. Меня тока могила исправит. А вот ты ещё можешь исправиться. Тока не жадай.
– Договорились, – уходя, прошептал Гомоюн, – я не жадую, а ты мне не мешаешь.
И вот однажды тихим летним вечером, когда над рекой, над болотистой поймой черёмуховым цветом заклубились густые туманы, Гомоюн «исправился» – в сумке глухо побрякивали стеклянные снаряды с белыми боеголовками. Он молча, деловито сел за стол и набуровил полные стаканы. Дед Кикима от радости чуть не приплясывал – только уши ходором ходили, по щекам плескались как лопухи под ветром.
Стародубцев угощал его безжалостно, ожесточённо. «Как бы только не помер!» – мимоходом подумалось. И Марфуту он, конечно, угостил. И после этого поманил её на сеновал. Бабёнка после рюмки раскраснелась, разохотилась, но всё ещё делала вид, что она – девушка строгая. Она даже частушку скороговоркой выдала, выходя во двор:
Тонкий месяц выгнул бровь
За рекою чистой,
Расскажи мне про любовь,
Мальчонка мой речистый!
– Расскажу! – пообещал «мальчонка», взволнованно сопя около лестницы на сеновал. – Полезай, чего стоишь?
Остановившись, Стародубцев закурил. Посмотрел в небеса. На западном склоне уже догорали остатки желтовато-красного заката – солносяд придавливало тучами. А на восточной стороне ещё виднелись голубые не закрывшиеся окна. И во мгле проступали ещё тонконогие березняки на дальнем краю чернозёмного поля, над которым кружилась какая-то птица. Может, орёл-могильник, может, коршун-куроцап. Но Солдатеичу вдруг показалось, что это проклятая «рама» летает – фоторазведчик, «Фокке-Вульф».
И совсем уж ему стало не по себе, когда кусты неподалёку зашевелились и затрещали.
Фигура мужика в дождевике – будто привидение – возникла.
– Что ты бродишь всю ночь одиноко? Что ты девушкам спать не даёшь? – угрюмо спросил мужик, бесцеремонно застёгивая ширинку и добавляя весёлым голосом: – Ну, здорово, Гомоюн. Чуть на задницу не наступил.
Стародубцев от неожиданности даже папиросу выронил. – А ты чего здесь окопался? Ночевать, что ли, негде? – Тихо! – Бригадир наклонился и прошептал: – Я тут не один. У меня горизонталка под кустом. Солдатеич присвистнул.
– Ну, ты даёшь!
– Это не я даю – это она. – Купидоныч хихикнул. – Отваливай, потом поговорим.
Добираясь до дому, Гомоюн изумлённо качал головою и думал: Бог шельму метит.
Неспроста и не случайно Святослав Капитоныч на фронте стал «Купидоныч», как будто роднёю заделался древнеримскому мифологическому Купидону, божеству любви, который горячими стрелами обжигает сердца людей. Правда, Рукосталь стрелял отлично, несмотря на то, что половину указательного пальца оттяпали на правой руке. Только дело всё же не в стрельбе. Он был ходок от природы, ходок по холостячкам, разведёнкам, вдовам или брошенкам. «Горизонталки» – так он называл всех баб, легко принимающих горизонтальное положение.
В мирной жизни сделавшись строгим бригадиром, бывший старшина, запрягая свой «русский виллис» – так называл он лошадёнку с таратайкой – через день да каждый день объезжал свою «прифронтовую полосу»: Сенокосное, Ягодное, Сухое Зерновое и другие селения. А там – куда ни плюнь – вдова грустит, тоскует молодая разведёнка, кровь с молоком. Мужиков-то мало, побили на войне. А женская природа не только что просит, но даже и требует – вынь да положь. Вот и приходилось бригадиру вынимать «золотую стрелу купидона». Мужик неутомимый, здоровила, какие поискать, – на всех любви и ласки хватит вдоволь.
Однажды Солдатеич полушутя, полусерьёзно сказал: – Ох, ты и жадный до бабьего мяса.
Бывший старшина тогда сидел за рюмкой водки – разоткровенничался:
– Лично мне так много баб не надо. Но я как только вспомню Васю Вологодского, Ивана Черемных, Серёгу Фомина. Да разве можно всех перечислить. Вологодский перед смертью уже белый, уже отходит… И вдруг приподнимается и говорит… Ты, дескать, Купидоныч, если жив останешься, так ты, мол, постарайся не тока за себя, но и за нас, когда будешь с бабой это самое… Ну, вот я и стараюсь. А так-то я не жадный.
Может, он оправдывал разгульную натуру, а может, и в самом деле исполнял наказы тех бойцов, которые из жизни ушли «не долюбив, не докурив последней папиросы», как сказал поэт. Так или иначе, только он старался чуть ли не за целый взвод – за сорок, сорок пять гвардейцев, полных силы и огня. Да так старался, что порою даже умудрялся лишку прихватить – замужнюю какую-нибудь сдобную бабёнку прижимал средь белого дня в перелеске или где-нибудь в густых, васильками пересыпанных колосьях.
Эту странную жадность до бабьего мяса Стародубцев не понимал и понемногу начинал досадовать на фронтового друга.
«Куда ты порох тратишь?! – думал Солдатеич. – А если вдруг завтра война?»
Но больше того Стародубцев досадовал и даже злился на бывшего старшину вот по какой причине.
Рукосталь – хороший когда-то, бесстрашный боец – постепенно превращался в обыкновенного сельского мужика, в такую размазню, из которой трудно будет вылепить настоящего русского воина. И доказательством этому служил тот печальный факт, который Купидоныч сам продемонстрировал, нисколько не стесняясь.
Каждый день на своей таратайке объезжая окрестные деревеньки, новоиспечённый бригадир иногда натыкался на оружие на полях стародавних боев. И однажды попался ему пулемёт, вполне ещё приличный. Бригадир отмыл его от грязи, очистил от ржавчины и решил приспособить под мирную, весёлую жизнь. Купидоныч был далёк от смекалки русского гения Кулибина, только всё же хватило ума сотворить из пулемёта самогонный аппарат: к водяному охлаждению смертоносного агрегата он приспособил эмалированную кастрюлю и что-то там ещё присочинил. И пулемёт, в конце концов, стал потихонечку стрелять сырыми пулями – капля за каплей падала, наполняя стеклянную тару. А потом наполнялись стаканы, и душа наполнялась весельем.
И вот этот пулемёт, поставленный в амбаре, бывший старшина продемонстрировал Солдатеичу, как достижение своей гениальной смекалки.
И после этого Стародубцев, оскорблённый в самых лучших своих чувствах, с полгода, наверное, стороной обходил дом фронтового друга – не хотелось ни видеть, ни разговаривать с человеком, похожим на предателя Отечества.
3
Интерес к рыбалке с каждым днём становился всё больше. В доме появились поплавки и удочки. «Табакерка» с червями наготове стояла в сенях.
Добросовестно отпахавшись под вечер, Гомоюн загонял свой трактор куда-нибудь в чащобу, подальше от глаз. Доставал из загашника водку, удилище бросал на плечо – и по краю болота, по кочкам, резиново пляшущим под сапогами, по сырой луговине, широким шагом шуровал на переправу.
И покуда он шагал – смелость города брала. А как только оказывался на пороге избы – робел, телёнком делался и почти враждебно смотрел на старика: вот кто мешал ему.
Старик этот был – дед Марфуты, дед Кикима. Плешивый, древний, он не помнил своих лет и сам себя именовал Тысячелетником. И судя по тому, каким старинным языком он выражался – это было очень близко к истине.
Жилище своё дед называл не совсем теперь приятным словечком – «кубло». Деревянный ящичек – «досканец». Старый офицерский китель, давно кем-то подаренный, засаленный, а вдобавок ещё и прожженный махоркой – это был не китель, а «доломан»; так называли когда-то гусарский мундир, расшитый густыми шнурами; даже вместо погон и эполет на доломане были наплечные шнуры. Драная шапка из серого зайца была у него – «ерихонка». Хотя на самом деле «ерихонка» – это что-то вроде шлема или даже стального наголовника воеводы. Керосиновая лампа у него – жирандоль. Хотя в действительности это большой и фигурный подсвечник для нескольких свеч.
Короче говоря, в лобастой голове Тысячелетника всё уже давненько перепуталось. Наивный как ребёнок, и такой же незлобивый и бесполезный, он постоянно под ногами путался. Но вот что странно. Замшелый как пень, этот дедуля, казалось, вот-вот на гнилушки развалится. Ан да нет. Тысячелетник был такой могучий насчёт выпивки – ну, просто ужас. После пол-литровки на двоих глаза у деда не косели, а молодели, задорно сверкая. Он, хорохорясь, поводя плечами, сбрасывал на койку свой затрапезный гусарский доломан и, чуть не протыкая пальцем потолок, провозглашал:
– А не послать ли нам гонца за бочкою винца!
Гомоюн, когда первый раз услышал, обалдело покачал головой.
– Мать моя родина! – захохотал. – И они хотели нас победить!
– Х-то? – вскидывая серую мочалку бороды, ерепенился дед. – Х-то на нас? На вятских.
– Кому ты нужен? Ложись, дедуля, мы укроем тебя доломаном, жирандоль погасим.
– А за шкаликом сгонять?
– Вот зашкалило тебя. Хрен уторкаешь.
– А ты привози не одну поллитровку, – простодушно подсказал Тысячелетник. – Ты раскошелься, не жадай.
– Я не жадую, дед. Я просто не знал твой аппетит. Стародубцев, глядя на него, всё никак не мог отделаться от ощущения, что этот старикан – из кержаков, ушедших когда-то в сибирское глухое боголесье. Хотя, какой там, к лешему, кержак? И водочку хлещет, и самокрутку смолит, и ядрёным словечком не брезгует.
– Дед, – напрямую спросил Гомоюн, – а ты в Сибири был? Жил на обском берегу?
– Где я тока не жил, – уклончиво ответил Тысячелетник. – И на Волге жил, и на Оби.
– И было у тебя три сына? Да?
– Трясина, трясина, – сказал старикан, рукою махнув на окно. – Тут надо тропку знать, а то трясина мигом тебя проглотит.
«Глухой? Или прикидывается?» – Гомоюн испытующе смотрел на него.
– А почему же ты от старой веры отказался? А? – Староверы? – Помолчав, Тысячелетник крепким ногтем щёлкнул по стакану. – Я безбожник. Я горбатый. Меня тока могила исправит. А вот ты ещё можешь исправиться. Тока не жадай.
– Договорились, – уходя, прошептал Гомоюн, – я не жадую, а ты мне не мешаешь.
И вот однажды тихим летним вечером, когда над рекой, над болотистой поймой черёмуховым цветом заклубились густые туманы, Гомоюн «исправился» – в сумке глухо побрякивали стеклянные снаряды с белыми боеголовками. Он молча, деловито сел за стол и набуровил полные стаканы. Дед Кикима от радости чуть не приплясывал – только уши ходором ходили, по щекам плескались как лопухи под ветром.
Стародубцев угощал его безжалостно, ожесточённо. «Как бы только не помер!» – мимоходом подумалось. И Марфуту он, конечно, угостил. И после этого поманил её на сеновал. Бабёнка после рюмки раскраснелась, разохотилась, но всё ещё делала вид, что она – девушка строгая. Она даже частушку скороговоркой выдала, выходя во двор:
Тонкий месяц выгнул бровь
За рекою чистой,
Расскажи мне про любовь,
Мальчонка мой речистый!
– Расскажу! – пообещал «мальчонка», взволнованно сопя около лестницы на сеновал. – Полезай, чего стоишь?