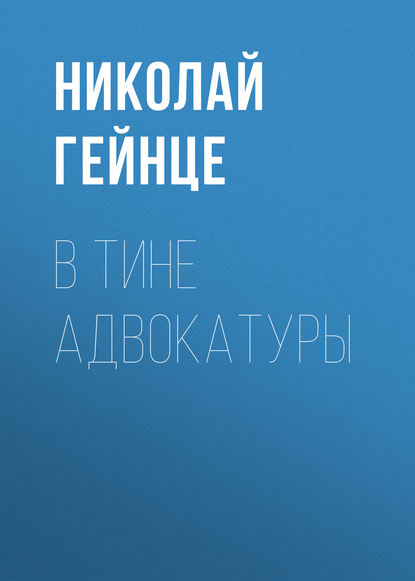По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В тине адвокатуры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Николай Ильич сам только урывками сидел за своим столом, перебегая от одной знакомой компании к другой, такие знакомые ему компании восседали почти за всеми столами трактира, а затем, наскоро пообедав, шел играть на биллиарде. О приглашенных он даже позабывал, зная, что половые знают порядки «петуховского стола».
Этим пользовались многие из сотрудников и являлись весьма часто в урочный час в этот трактир без всякого приглашения, чтобы сытно и вкусно пообедать за счет хлебосола-редактора.
За все это сотрудники любили и почитали Петухова, старательно работали для его газеты, многие не работали уже более нище, а посвящали ей все свои силы. Не было ли одною из причин колоссального успеха издания это отношение к нему главных его участников? В результате у Николая Ильича от всего этого были одни громадные барыши и слава тароватого издателя. Весьма понятно, что ему не от чего было быть в дурном настроении.
В этот же день, когда застает его наш рассказ, была суббота и он вечером собирался ехать на последнюю в этом сезоне рыбную ловлю. Предстоящая охота радовала его, как страстного рыболова. Ему, по обыкновению, подали в кабинет стакан чаю, кипу полученных газет и письмо из Петербурга.
Он распечатал последнее и стал читать. По временам он покачивал головой.
– Как веревку ни вить, а все концу быть, – сказал он вслух, окончив чтение.
Письмо оказалось обширной корреспонденцией из Петербурга о привлечении присяжного поверенного округа Московской судебной палаты Николая Леопольдовича Гиршфельда в качестве обвиняемого по делу князя Шестова и Луганского. В ней подробно рассказывались оба дела, скандал, учиненный Гиршфельдом в камере следователя, и наконец его арест. Корреспонденция была написана одним из любимейших Николаем Ильичей его петербургских сотрудников, человеком, имевшим громкое газетное имя, к которому Петухов питал безусловное доверие.
Несмотря на это, перечитав еще раз письмо, он разорвал его в мелкие клочки и бросил в корзину, стоявшую под письменным столом.
– А все-таки жаль молодца, коли не выпутается! – снова вслух произнес он.
– Да нет, вывернется, парень – выжига! – добавил Николай Ильич после некоторой паузы.
Затем он принялся за чай и газеты.
Петербургские газеты были переполнены подробностями о деле и аресте Гиршфельда. В московских не говорилось еще ни слова.
Прочитав их и напившись чаю, Петухов как был в халате, захватив газеты, прошел в редакцию, которая, как и контора, переведена была снизу, занятого под типографию, в соседнюю квартиру наверху, соединенную с квартирой редактора вновь устроенным внутренним ходом. В редакции он застал одного секретаря, еще довольно молодого человека с зеленовато-бледным лицом и маленькими усиками.
Тот быстро вскочил из-за стола, за которым сидел, вооруженный ножницами, и почтительно с ним поздоровался.
– Напишите самое краткое сообщение об аресте в Петербурге присяжного поверенного Гиршфельда и поместите под рубрикой: «нам пишут». Из газет по этому делу вырезок на делать, – сказал Николай Ильич, подавая ему газеты.
– А корреспонденция из Петербурга есть-с? – подобострастно спросил секретарь.
– Получена, но запоздала, все о том же деле Гиршфельда, – хмуро отвечал Николай Ильич и сел.
Скоро чело его вновь прояснилось.
– Попался, как кур во щи, кажется, влопался! – обратился он к секретарю.
– Рискованные дела вел-с! – выразил тот свое мнение, поняв, что речь идет о том же Гиршфеяьде, деятельность которого была ему знакома по корреспонденциям, которые получались в редакции, но не были помещаемы.
– Рискованные! – передразнил его Петухов. – На рискованных-то не наживешься, а надо умеючи…
– Значит оплошал!
– То-то и есть, что оплошал, а жаль – парень оборотистый. Так помните, ничего, кроме краткого известия об аресте не печатать, – повторил он.
– Слушаю-с!
– Может, Бог даст, и выдерется! – добавил Николай Ильич и, не дождавшись мнения секретаря, ушел к себе.
Вернувшись в кабинет, он сел к письменному столу и задумался.
– Ни полслова о нем более печатать не стану! Не мне бросать в него камень! – вслух произнес он и принялся за работу.
XXIV
Знакомые лица
Реальное училище, учрежденное в Москве бывшим учителем Николая Леопольдовича Гиршфельда, Константином Николаевичем Вознесенским, процветало. Оно помещалось в том же громадном доме на Мясницкой и, не смотря на строгие условия приема, количество учеников его год от году увеличивалось. Сам энергичный и деятельный директор училища мало изменился с тех пор, как со смерти княжны Лидии Шестовой, поступления любившего беспредельно покойную инспектора его училища Ивана Павловича Карнеева послушником в Донской монастырь и наконец отъезда Антона Михайловича Шатова в Сибирь, порвал последние нити, связывавшие его с частью того кружка, в котором вращался его бывший ученик и даже любимец, Гиршфельд. Изредка слышал он стороной об его деятельности, но старался даже малейшим намеком не показать, что знаком с этим дельцом новой формации.
Погруженный в заботы о своем заведении, он и жил, впрочем, совершенно замкнутою жизнью, вращаясь в тесном кругу представителей московского педагогического мира. Желанным, но редким гостем был у него отец Варсонофий, имя, принятое Иванов Павловичем Карнеевым, принявшим схиму и бывшим уже казначеем Донского монастыря.
Константин Николаевич любил беседу с этим умным, развитым, образованным, по убеждению, ушедшим из мира, но и в стенах монастыря усердно служившим наукам, человеком. Достигнув поста монастырского казначея, считавшегося вторым лицом после игумена, отец Варсонофий остался в своей послушнической келье, не изменив ни на йоту режима своей жизни. Келья эта была невдалеке от могилы княжны Лиды, и отец Варсонофий по прежнему проводил ежедневно несколько часов на этой могиле в горячей молитве. На стене его кельи по прежнему висел портрет покойной княжны, затянутый черным флером. Последний только немного порыжел от времени. Изредка, лишь по обязанности службы, выезжал он из монастыря, а потому посещения им Константина Николаевича, к которому он продолжал питать искреннюю любовь и уважение были не часты.
Было воскресенье, второй час дня.
Вознесенский сидел в своем кабинете и просматривал «Московские Ведомости». На одной из страниц газеты ему мелькнула в глаза фамилия Гиршфельда. Он заинтересовался и стал читать.
Это было перепечатанное из Петербургских газет известие об аресте Николая Леопольдовича со всеми подробностями как дел Шестова и Луганского, вследствие которых он был арестован, так и самого ареста. Статейка была довольно большая. Константин Николаевич только что окончил чтение, как вошедший в кабинет лакей доложил о приезде отца Варсонофия.
Обрадованный Вознесенский бросился навстречу уже входившему в кабинет гостю. После горячих приветствий он усадил его на диван.
– А я вам могу сообщить новость, пожалуй грустную, а пожалуй и отрадную, – сказал Вознесенский.
Отец Варсонофий поглядел на него вопросительно.
Константин Николаевич подал ему газету и указал на только что прочитанную им статью.
– Прочтите!
Гость углубился в чтение.
– Знаете ли что, – встал с дивана отец Варсонофий и положил газету на стол, – эта новость положительно отрадна.
«Однако, сколько в нем злобы!» – подумал Вознесенский, но не высказал своей мысли и только посмотрел на него с удивлением.
– Не потому, – продолжал тот, как бы отвечая на эту мысль, – что я злорадствую его несчастью, храни меня Бог от возможности допустить себя до такого настроения даже относительно моего врага. Бог видит мое сердце и знает, что я давным давно безусловно простил ему все то, что он сделал не лично мне, но близким мне людям – я говорю об Антоне и княжне Лиде.
При произнесении последнего имени две крупные слезы мелькнули на его ресницах. Он сморгнул их.
О судьбе Шатова отец Варсонофий знал через одного их общего товарища, который наводил справки и получил известие об его грустной кончине. Знал, конечно, и Константин Николаевич.
– Но почему же вы считаете это известие отрадным? – полюбопытствовал он.
– А потому, – отвечал отец Варсонофий, перестав ходить и усаживаясь снова на диван, – что оно доказывает, что Гиршфельд еще не в конец испорчен, что при несчастии, при неудаче, при нужде, он может исправиться и найдет для этого в себе силы, что только удача на преступном пути заставляла его не покидать его, вдыхала в него энергию и отвагу.
Он остановился. Вознесенский глядел на него недоумевающим взглядом.
– Мы переживаем такое время, – продолжал тот развивать свою мысль, – когда только попавшиеся преступники могут считаться еще способными к исправлению. Значит у них не хватило спокойной твердости всесторонне обдумать не только совершение преступления, но и тщательно скрытие его следов. Значит у них дрогнул ум при преступном замысле, как дрожит рука непривычного убийцы. Значит они добродетельнее тех ходящих на свободе и умело хоронящих концы своих беззаконий преступников. Не должны ли мы в этом смысле все-таки порадоваться за первых.
Этим пользовались многие из сотрудников и являлись весьма часто в урочный час в этот трактир без всякого приглашения, чтобы сытно и вкусно пообедать за счет хлебосола-редактора.
За все это сотрудники любили и почитали Петухова, старательно работали для его газеты, многие не работали уже более нище, а посвящали ей все свои силы. Не было ли одною из причин колоссального успеха издания это отношение к нему главных его участников? В результате у Николая Ильича от всего этого были одни громадные барыши и слава тароватого издателя. Весьма понятно, что ему не от чего было быть в дурном настроении.
В этот же день, когда застает его наш рассказ, была суббота и он вечером собирался ехать на последнюю в этом сезоне рыбную ловлю. Предстоящая охота радовала его, как страстного рыболова. Ему, по обыкновению, подали в кабинет стакан чаю, кипу полученных газет и письмо из Петербурга.
Он распечатал последнее и стал читать. По временам он покачивал головой.
– Как веревку ни вить, а все концу быть, – сказал он вслух, окончив чтение.
Письмо оказалось обширной корреспонденцией из Петербурга о привлечении присяжного поверенного округа Московской судебной палаты Николая Леопольдовича Гиршфельда в качестве обвиняемого по делу князя Шестова и Луганского. В ней подробно рассказывались оба дела, скандал, учиненный Гиршфельдом в камере следователя, и наконец его арест. Корреспонденция была написана одним из любимейших Николаем Ильичей его петербургских сотрудников, человеком, имевшим громкое газетное имя, к которому Петухов питал безусловное доверие.
Несмотря на это, перечитав еще раз письмо, он разорвал его в мелкие клочки и бросил в корзину, стоявшую под письменным столом.
– А все-таки жаль молодца, коли не выпутается! – снова вслух произнес он.
– Да нет, вывернется, парень – выжига! – добавил Николай Ильич после некоторой паузы.
Затем он принялся за чай и газеты.
Петербургские газеты были переполнены подробностями о деле и аресте Гиршфельда. В московских не говорилось еще ни слова.
Прочитав их и напившись чаю, Петухов как был в халате, захватив газеты, прошел в редакцию, которая, как и контора, переведена была снизу, занятого под типографию, в соседнюю квартиру наверху, соединенную с квартирой редактора вновь устроенным внутренним ходом. В редакции он застал одного секретаря, еще довольно молодого человека с зеленовато-бледным лицом и маленькими усиками.
Тот быстро вскочил из-за стола, за которым сидел, вооруженный ножницами, и почтительно с ним поздоровался.
– Напишите самое краткое сообщение об аресте в Петербурге присяжного поверенного Гиршфельда и поместите под рубрикой: «нам пишут». Из газет по этому делу вырезок на делать, – сказал Николай Ильич, подавая ему газеты.
– А корреспонденция из Петербурга есть-с? – подобострастно спросил секретарь.
– Получена, но запоздала, все о том же деле Гиршфельда, – хмуро отвечал Николай Ильич и сел.
Скоро чело его вновь прояснилось.
– Попался, как кур во щи, кажется, влопался! – обратился он к секретарю.
– Рискованные дела вел-с! – выразил тот свое мнение, поняв, что речь идет о том же Гиршфеяьде, деятельность которого была ему знакома по корреспонденциям, которые получались в редакции, но не были помещаемы.
– Рискованные! – передразнил его Петухов. – На рискованных-то не наживешься, а надо умеючи…
– Значит оплошал!
– То-то и есть, что оплошал, а жаль – парень оборотистый. Так помните, ничего, кроме краткого известия об аресте не печатать, – повторил он.
– Слушаю-с!
– Может, Бог даст, и выдерется! – добавил Николай Ильич и, не дождавшись мнения секретаря, ушел к себе.
Вернувшись в кабинет, он сел к письменному столу и задумался.
– Ни полслова о нем более печатать не стану! Не мне бросать в него камень! – вслух произнес он и принялся за работу.
XXIV
Знакомые лица
Реальное училище, учрежденное в Москве бывшим учителем Николая Леопольдовича Гиршфельда, Константином Николаевичем Вознесенским, процветало. Оно помещалось в том же громадном доме на Мясницкой и, не смотря на строгие условия приема, количество учеников его год от году увеличивалось. Сам энергичный и деятельный директор училища мало изменился с тех пор, как со смерти княжны Лидии Шестовой, поступления любившего беспредельно покойную инспектора его училища Ивана Павловича Карнеева послушником в Донской монастырь и наконец отъезда Антона Михайловича Шатова в Сибирь, порвал последние нити, связывавшие его с частью того кружка, в котором вращался его бывший ученик и даже любимец, Гиршфельд. Изредка слышал он стороной об его деятельности, но старался даже малейшим намеком не показать, что знаком с этим дельцом новой формации.
Погруженный в заботы о своем заведении, он и жил, впрочем, совершенно замкнутою жизнью, вращаясь в тесном кругу представителей московского педагогического мира. Желанным, но редким гостем был у него отец Варсонофий, имя, принятое Иванов Павловичем Карнеевым, принявшим схиму и бывшим уже казначеем Донского монастыря.
Константин Николаевич любил беседу с этим умным, развитым, образованным, по убеждению, ушедшим из мира, но и в стенах монастыря усердно служившим наукам, человеком. Достигнув поста монастырского казначея, считавшегося вторым лицом после игумена, отец Варсонофий остался в своей послушнической келье, не изменив ни на йоту режима своей жизни. Келья эта была невдалеке от могилы княжны Лиды, и отец Варсонофий по прежнему проводил ежедневно несколько часов на этой могиле в горячей молитве. На стене его кельи по прежнему висел портрет покойной княжны, затянутый черным флером. Последний только немного порыжел от времени. Изредка, лишь по обязанности службы, выезжал он из монастыря, а потому посещения им Константина Николаевича, к которому он продолжал питать искреннюю любовь и уважение были не часты.
Было воскресенье, второй час дня.
Вознесенский сидел в своем кабинете и просматривал «Московские Ведомости». На одной из страниц газеты ему мелькнула в глаза фамилия Гиршфельда. Он заинтересовался и стал читать.
Это было перепечатанное из Петербургских газет известие об аресте Николая Леопольдовича со всеми подробностями как дел Шестова и Луганского, вследствие которых он был арестован, так и самого ареста. Статейка была довольно большая. Константин Николаевич только что окончил чтение, как вошедший в кабинет лакей доложил о приезде отца Варсонофия.
Обрадованный Вознесенский бросился навстречу уже входившему в кабинет гостю. После горячих приветствий он усадил его на диван.
– А я вам могу сообщить новость, пожалуй грустную, а пожалуй и отрадную, – сказал Вознесенский.
Отец Варсонофий поглядел на него вопросительно.
Константин Николаевич подал ему газету и указал на только что прочитанную им статью.
– Прочтите!
Гость углубился в чтение.
– Знаете ли что, – встал с дивана отец Варсонофий и положил газету на стол, – эта новость положительно отрадна.
«Однако, сколько в нем злобы!» – подумал Вознесенский, но не высказал своей мысли и только посмотрел на него с удивлением.
– Не потому, – продолжал тот, как бы отвечая на эту мысль, – что я злорадствую его несчастью, храни меня Бог от возможности допустить себя до такого настроения даже относительно моего врага. Бог видит мое сердце и знает, что я давным давно безусловно простил ему все то, что он сделал не лично мне, но близким мне людям – я говорю об Антоне и княжне Лиде.
При произнесении последнего имени две крупные слезы мелькнули на его ресницах. Он сморгнул их.
О судьбе Шатова отец Варсонофий знал через одного их общего товарища, который наводил справки и получил известие об его грустной кончине. Знал, конечно, и Константин Николаевич.
– Но почему же вы считаете это известие отрадным? – полюбопытствовал он.
– А потому, – отвечал отец Варсонофий, перестав ходить и усаживаясь снова на диван, – что оно доказывает, что Гиршфельд еще не в конец испорчен, что при несчастии, при неудаче, при нужде, он может исправиться и найдет для этого в себе силы, что только удача на преступном пути заставляла его не покидать его, вдыхала в него энергию и отвагу.
Он остановился. Вознесенский глядел на него недоумевающим взглядом.
– Мы переживаем такое время, – продолжал тот развивать свою мысль, – когда только попавшиеся преступники могут считаться еще способными к исправлению. Значит у них не хватило спокойной твердости всесторонне обдумать не только совершение преступления, но и тщательно скрытие его следов. Значит у них дрогнул ум при преступном замысле, как дрожит рука непривычного убийцы. Значит они добродетельнее тех ходящих на свободе и умело хоронящих концы своих беззаконий преступников. Не должны ли мы в этом смысле все-таки порадоваться за первых.