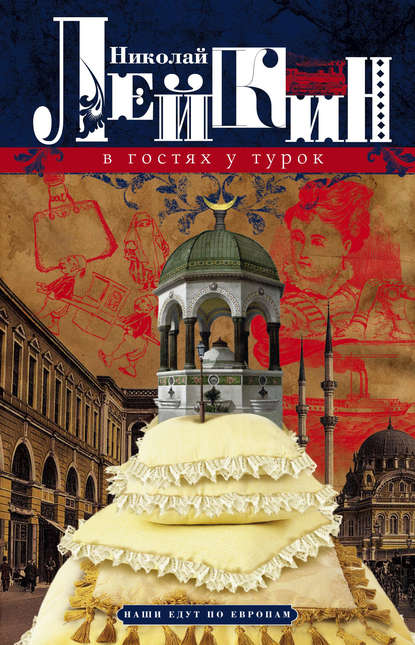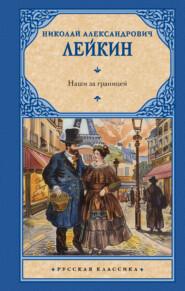По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В гостях у турок. Юмористическое описание путешествия супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых через славянские земли в Константинополь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Стали подниматься еще выше. Показались казармы, затем еще здание.
– Госпиталь, – пояснил возница. – Ключ, кладенац[20 - Колодец (серб.).], – указал он на третье облупившееся и обсыпавшееся зданьице.
Проехали еще. Стояла часовня.
– Русьица црква… – сказал опять возница.
– Как русская? – воскликнул Николай Иванович. – Глаша! Русская церковь. Зайдем посмотреть?
Но Глафира Семеновна ничего не ответила. Ей не нравилось, что муж по-прежнему продолжает переводить сербские слова.
На пути была башня «Не бойся». Возница и на нее указал, назвав ее.
– Так она и называется «Не бойся»? – спросил Николай Иванович.
– Есте, господине.
– Отчего так называется? Почему? Зачем?
Возница понял вопросы и стал объяснять по-сербски, но супруги ничего не поняли. Глафира Семеновна тотчас же уязвила мужа и спросила:
– Профессор сербского языка, все понял?
– Нет. Но вольно ж ему так тараторить, словно орехи на тарелку сыплет. Все-таки, я тебе скажу, он хороший чичероне.
Достигнув верхней крепости, начали спускаться вниз к Дунаю.
– Ну, теперь пусть свезет в меняльную лавку, – сказала Глафира Семеновна мужу. – Ведь у тебя сербских денег нет. Надо разменять да пообедать где-нибудь в ресторане.
– Братушка! В меняльную лавку! – крикнул Николай Иванович вознице. – Понял?
Тот молчал.
– К меняле, где деньги меняют. Деньги… Неужели не понимаешь? Русски деньги – сербские деньги.
В пояснение своих слов Николай Иванович вытащил трехрублевую бумажку и показал вознице.
– Вексельбуде… – пояснила Глафира Семеновна по- немецки.
– А пара… Новце…[21 - Деньги (серб.).] Сараф…[22 - Меняла (серб.).] Добре, добре, господине, – догадался возница и погнал лошадей.
Возвращались уж через базар. Около лавчонок и ларьков висели ободранные туши баранов, бродили куры, гуси, утки. По мере надобности их ловили и тут же резали для покупателя. На базаре все-таки был народ, но простой народ, а интеллигентной, чистой публики, за исключением двух священников, и здесь супруги никого не видали. К экипажу их подскочила усатая фигура в опанках и в бараньей шапке и стала предлагать купить у нее пестрый сербский ковер. Подскочила и вторая шапка с ковром, за ней третья.
– Не надо, не надо! – отмахивался от них Николай Иванович.
Глафира Семеновна смотрела на народ на базаре и дивилась:
– Но где же чистая-то публика! Ведь сидит же она где-нибудь! Я только двух дам и видела на улице.
Наконец возница остановился около лавки с вывеской: «Сараф». Тут же была и вторая вывеска, гласившая: «Дуван»[23 - Табак (серб.).] (то есть «Табак»). На окне лавки лежали австрийские кредитные билеты и между ними русская десятирублевка, а также коробки с табаком, папиросами, мундштуки, несколько карманных часов, две-три часовые цепочки и блюдечко с сербскими серебряными динариями.
– Сафар, сафар! – твердил Николай Иванович, выходя из экипажа. – Сафар. Вот как меняла-то по-сербски. Надо запомнить.
Вышла и Глафира Семеновна. Они вошли в лавочку. Запахло чесноком. За прилавком сидел средних лет черный как жук бородатый человек в сером пиджаке и неимоверно грязных рукавчиках сорочки и, держа в глазу лупу, ковырял инструментом в открытых часах.
– Молим вас менять русски деньги, – начал Николай Иванович ломать русский язык, обращаясь к ковырявшему часы человеку.
– Разменять русские деньги? Сколько угодно. Люблю русские деньги, – отвечал с заметным еврейским акцентом чернобородый человек, вынимая из глаза лупу и поднимаясь со стула. – У вас что, сторублевова бумажка?
– Вы говорите по-русски? Ах, как это приятно! – воскликнула Глафира Семеновна. – А то здесь так трудно, так трудно с русским языком.
– Я говорю, мадам, по-русски, по-сербски, по-немецки, по-болгарски, по-итальянски, по-турецки, по-французски, по-венгерски… – поклонился меняла. – Даже и по-армянски…
– Ну, нам и одного русского довольно, – перебил его Николай Иванович.
– Нет, в самом деле, я на какова угодно языка могу… Я жил в Одесса, жил в Константинополь… Ривка! – крикнул меняла в комнату за лавкой, откуда слышался стук швейной машины. – Ривке! Давай сюда два стул! Хорошие русские господа приехали! Так вам разменять сторублевова бумажку на сербская бумажки? Сегодня курс плох. Сегодня мы мало даем. Не в счастливый день вы приехали. А вот позвольте вам представить моя жена. По-русскому Софья Абрамовна, – указал он на вышедшую из другой комнаты молодую, красивую, но с грязной шеей женщину в ситцевом помятом платье и с искусственной розой в роскошных черных волосах. – Вот, Ривке, наши русскова соотечественники из Одесса.
– Нет, мы из Петербурга, – сказала Глафира Семеновна.
– Из Петербурга? О, еще того лучше!
Ривка поклонилась как институтка, сделав книксен, и стала просить присесть посетителей на стулья.
– Стало быть, вы русский подданный, что называете нас своими соотечественниками? – спросил Николай Иванович, садясь и доставая из кармана бумажник.
– О, я был русскова подданный, но я уехал в Стамбул, потом уехал в Каир, потом уехал в Вена… Я и сам теперь не знаю, какой я подданный, – отвечал меняла улыбаясь. – В самом деле, не знаю, какой я подданный. Жена моя из Румыния, из Бухарест, но говорит по-русски. Ривке! Говори, душе моя, по-русскому.
– Теперь в Петербурге очень холодно? – задала вопрос Ривка.
– Да, когда мы недели полторы тому назад уехали из Петербурга, было десять градусов мороза, – отвечал Николай Иванович и вынул из бумажника сотенную новенькую бумажку.
Еле вырвались
– Вам что же: серебром выдать, золотом или банковыми билетами? – спросил меняла, любуясь на новую сторублевую бумажку.
Николай Иванович замялся.
– Да куда же все серебром-то? Это уж очень много будет. У меня и в кошелек не влезет, – отвечал он. – Дайте золотом, серебром и билетами.
– А по скольку? Здесь в Белграде курс разный! На золото один, на серебро другой, на кредитнова билеты третий. Золотом дают сегодня за сто рублей 263 с половиной динара, серебром 266, а билетами 270.
– Бери билетами и серебром. Ведь это же выгоднее, – сказала мужу Глафира Семеновна и спросила менялу: – А билеты везде берут?
– Везде, везде, мадам. Как в России ваши кредитные билеты везде ходят отлично, так точно здесь билеты сербского банка. Разумеется, вам и билетами выгоднее платить. Я вам дам так: на десять рублей серебром, а на девяносто билетами, – обратился меняла к Николаю Ивановичу. – И так как вы мой соотечественник, то и серебро и билеты буду считать по 270 динаров за сто. Это я делаю для того, что люблю русских.
– Ну, давайте.
– Едан, два, три… – начал отсчитывать меняла, звеня серебряными динарами. – Седам, осам, девет… еданаест, дванаест, тринаест… двадесять, двадесять и едан, двадесять и два… Тут вот есть с маленькова дырочки, но в Сербии и с дырочки серебряные динары ходят, – сказал он и, отсчитав серебро, полез в ящик прилавка за билетами.
– Госпиталь, – пояснил возница. – Ключ, кладенац[20 - Колодец (серб.).], – указал он на третье облупившееся и обсыпавшееся зданьице.
Проехали еще. Стояла часовня.
– Русьица црква… – сказал опять возница.
– Как русская? – воскликнул Николай Иванович. – Глаша! Русская церковь. Зайдем посмотреть?
Но Глафира Семеновна ничего не ответила. Ей не нравилось, что муж по-прежнему продолжает переводить сербские слова.
На пути была башня «Не бойся». Возница и на нее указал, назвав ее.
– Так она и называется «Не бойся»? – спросил Николай Иванович.
– Есте, господине.
– Отчего так называется? Почему? Зачем?
Возница понял вопросы и стал объяснять по-сербски, но супруги ничего не поняли. Глафира Семеновна тотчас же уязвила мужа и спросила:
– Профессор сербского языка, все понял?
– Нет. Но вольно ж ему так тараторить, словно орехи на тарелку сыплет. Все-таки, я тебе скажу, он хороший чичероне.
Достигнув верхней крепости, начали спускаться вниз к Дунаю.
– Ну, теперь пусть свезет в меняльную лавку, – сказала Глафира Семеновна мужу. – Ведь у тебя сербских денег нет. Надо разменять да пообедать где-нибудь в ресторане.
– Братушка! В меняльную лавку! – крикнул Николай Иванович вознице. – Понял?
Тот молчал.
– К меняле, где деньги меняют. Деньги… Неужели не понимаешь? Русски деньги – сербские деньги.
В пояснение своих слов Николай Иванович вытащил трехрублевую бумажку и показал вознице.
– Вексельбуде… – пояснила Глафира Семеновна по- немецки.
– А пара… Новце…[21 - Деньги (серб.).] Сараф…[22 - Меняла (серб.).] Добре, добре, господине, – догадался возница и погнал лошадей.
Возвращались уж через базар. Около лавчонок и ларьков висели ободранные туши баранов, бродили куры, гуси, утки. По мере надобности их ловили и тут же резали для покупателя. На базаре все-таки был народ, но простой народ, а интеллигентной, чистой публики, за исключением двух священников, и здесь супруги никого не видали. К экипажу их подскочила усатая фигура в опанках и в бараньей шапке и стала предлагать купить у нее пестрый сербский ковер. Подскочила и вторая шапка с ковром, за ней третья.
– Не надо, не надо! – отмахивался от них Николай Иванович.
Глафира Семеновна смотрела на народ на базаре и дивилась:
– Но где же чистая-то публика! Ведь сидит же она где-нибудь! Я только двух дам и видела на улице.
Наконец возница остановился около лавки с вывеской: «Сараф». Тут же была и вторая вывеска, гласившая: «Дуван»[23 - Табак (серб.).] (то есть «Табак»). На окне лавки лежали австрийские кредитные билеты и между ними русская десятирублевка, а также коробки с табаком, папиросами, мундштуки, несколько карманных часов, две-три часовые цепочки и блюдечко с сербскими серебряными динариями.
– Сафар, сафар! – твердил Николай Иванович, выходя из экипажа. – Сафар. Вот как меняла-то по-сербски. Надо запомнить.
Вышла и Глафира Семеновна. Они вошли в лавочку. Запахло чесноком. За прилавком сидел средних лет черный как жук бородатый человек в сером пиджаке и неимоверно грязных рукавчиках сорочки и, держа в глазу лупу, ковырял инструментом в открытых часах.
– Молим вас менять русски деньги, – начал Николай Иванович ломать русский язык, обращаясь к ковырявшему часы человеку.
– Разменять русские деньги? Сколько угодно. Люблю русские деньги, – отвечал с заметным еврейским акцентом чернобородый человек, вынимая из глаза лупу и поднимаясь со стула. – У вас что, сторублевова бумажка?
– Вы говорите по-русски? Ах, как это приятно! – воскликнула Глафира Семеновна. – А то здесь так трудно, так трудно с русским языком.
– Я говорю, мадам, по-русски, по-сербски, по-немецки, по-болгарски, по-итальянски, по-турецки, по-французски, по-венгерски… – поклонился меняла. – Даже и по-армянски…
– Ну, нам и одного русского довольно, – перебил его Николай Иванович.
– Нет, в самом деле, я на какова угодно языка могу… Я жил в Одесса, жил в Константинополь… Ривка! – крикнул меняла в комнату за лавкой, откуда слышался стук швейной машины. – Ривке! Давай сюда два стул! Хорошие русские господа приехали! Так вам разменять сторублевова бумажку на сербская бумажки? Сегодня курс плох. Сегодня мы мало даем. Не в счастливый день вы приехали. А вот позвольте вам представить моя жена. По-русскому Софья Абрамовна, – указал он на вышедшую из другой комнаты молодую, красивую, но с грязной шеей женщину в ситцевом помятом платье и с искусственной розой в роскошных черных волосах. – Вот, Ривке, наши русскова соотечественники из Одесса.
– Нет, мы из Петербурга, – сказала Глафира Семеновна.
– Из Петербурга? О, еще того лучше!
Ривка поклонилась как институтка, сделав книксен, и стала просить присесть посетителей на стулья.
– Стало быть, вы русский подданный, что называете нас своими соотечественниками? – спросил Николай Иванович, садясь и доставая из кармана бумажник.
– О, я был русскова подданный, но я уехал в Стамбул, потом уехал в Каир, потом уехал в Вена… Я и сам теперь не знаю, какой я подданный, – отвечал меняла улыбаясь. – В самом деле, не знаю, какой я подданный. Жена моя из Румыния, из Бухарест, но говорит по-русски. Ривке! Говори, душе моя, по-русскому.
– Теперь в Петербурге очень холодно? – задала вопрос Ривка.
– Да, когда мы недели полторы тому назад уехали из Петербурга, было десять градусов мороза, – отвечал Николай Иванович и вынул из бумажника сотенную новенькую бумажку.
Еле вырвались
– Вам что же: серебром выдать, золотом или банковыми билетами? – спросил меняла, любуясь на новую сторублевую бумажку.
Николай Иванович замялся.
– Да куда же все серебром-то? Это уж очень много будет. У меня и в кошелек не влезет, – отвечал он. – Дайте золотом, серебром и билетами.
– А по скольку? Здесь в Белграде курс разный! На золото один, на серебро другой, на кредитнова билеты третий. Золотом дают сегодня за сто рублей 263 с половиной динара, серебром 266, а билетами 270.
– Бери билетами и серебром. Ведь это же выгоднее, – сказала мужу Глафира Семеновна и спросила менялу: – А билеты везде берут?
– Везде, везде, мадам. Как в России ваши кредитные билеты везде ходят отлично, так точно здесь билеты сербского банка. Разумеется, вам и билетами выгоднее платить. Я вам дам так: на десять рублей серебром, а на девяносто билетами, – обратился меняла к Николаю Ивановичу. – И так как вы мой соотечественник, то и серебро и билеты буду считать по 270 динаров за сто. Это я делаю для того, что люблю русских.
– Ну, давайте.
– Едан, два, три… – начал отсчитывать меняла, звеня серебряными динарами. – Седам, осам, девет… еданаест, дванаест, тринаест… двадесять, двадесять и едан, двадесять и два… Тут вот есть с маленькова дырочки, но в Сербии и с дырочки серебряные динары ходят, – сказал он и, отсчитав серебро, полез в ящик прилавка за билетами.