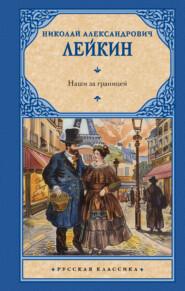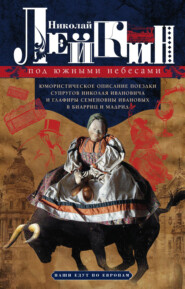По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На заработках. Роман из жизни чернорабочих женщин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я гладких люблю.
Ардальон Сергеев опять улыбнулся, встал с места и шутя треснул Арину ладонью по спине. Та взвизгнула и проговорила:
– Ой, чтой-то вы деретесь!
– Это я любя. Это я жир пробую.
– Уж и жир!
– Погоди, на наших хлебах еще круглее огуляешься. У нас ешь вволю, харчи хорошие, – сказал Ардальон Сергеев.
– Денег-то уж очень мало за работу даете, – пробормотала Арина. – Шутка ли: всего пятиалтынный!
– Такая цена, Аришенька, такая цена. А цены Бог строит. Да и немало это. Месяц проживешь у меня – четыре рубля на руки получишь.
– Дома-то у нас уж очень нудно. Отец-то с матерью теперь как бьются! У нас пять ртов дома осталось.
– Что делать, умница! Везде теперь нудно, везде теперь бьются. Это уж от Бога…
Арина, слыша ласковую речь, опять обернулась к Ардальону Сергееву и, улыбнувшись, застенчиво проговорила:
– Ты бы, господин хозяин, дал мне три рубля вперед, чтобы родителям в деревню послать. Дай, пожалуйста, будь милостивцем.
– Это ничего-то не видя, да три рубля давать! Нет, милая, не те ноне времена. Я уж и так добр, что больничные за вас вперед плачу да паспорты прописываю.
– Дай, господин хозяин. Я тебе в ножки поклонюсь. Пожалей нас.
– Нельзя. Хоть ты и гладкая, а я гладких до смерти обожаю, а нельзя, умница. Погодить надо. Ты погоди. Вот месяц прослужишь и старанье твое я увижу, тогда дам.
– Экой ты какой, господин хозяин!
– Я добрый. Я ох какой добрый, а денег сразу давать нельзя, – отвечал ласково Ардальон Сергеев, ухмыляясь, подошел к Арине, схватил ее в охапку за плечи, покачал из стороны в сторону и прибавил: – Нельзя, ангелка, подождать надо.
Арина вырвалась из его объятий, ударила его по руке и, сделав строгое лицо, стала к печке, сказав:
– А зачем же рукам волю-то даешь? Это ты оставь. Этого я не люблю. Я не затем в Питер пришла. Да… Брось.
Ардальон Сергеев взглянул на нее и скосил глаза.
– А тебя убыло, что ли? «Не люблю»… А ты будь с хозяином поласковее, хозяин может пригодиться. Сама денег вперед просит, а тут не смей и шутками с ней пошутить. Ах, дура, дура девка! Вот уж неразумная-то!
Он махнул рукой, снял с гвоздя картуз и вышел на огород.
VII
В полдень Ардальон Сергеев скликал рабочих к обеду. Мужики и бабы побросали работу около парников, прикрыли их стеклами, оттенили от солнца рогожами на кольях и пришли в избу. На двух некрашеных столах, ничем не покрытых, лежали уже накромсанные Ариной толстые ломти хлеба и по грудке деревянных ложек. Ардальон Сергеев был тут же. Как хозяин, он первый перекрестился на икону, висевшую в углу, и сел за стол. Вслед за ним, помолившись на образ, поместились за двумя столами и рабочие. Мужики и женщины живо разобрали ложки. Арина подала на каждый стол по деревянной чашке щей. Зажевали уста, началось схлебывание с ложек. Ели до того усердно, что на лицах показался пот. В особенности усердствовали женщины, пришедшие вчера из деревни.
– Четыре дня, сударушки вы мои, мы горячего-то не видали, – проговорила Акулина, облизывая ложку. – С самой деревни не видали. Да и в деревне-то последнее время до того дошли, что не каждый день горячее. Ведь крупы-то надо купить, картошки надо купить. Пожуем хлеба, тем и сыты.
– Так проси у стряпухи, чтобы еще тебе в чашку плеснула. У нас на этот счет хорошо, у нас и хлеба, и хлебова вволю. Хозяин не запрещает. Хлебай сколько хочешь, – отвечала баба, уже раньше Акулины определившаяся на огород и успевшая несколько отъесться на хозяйских харчах. – Проси, – прибавила она.
– Да одной-то мне, милая, чтой-то как будто совестно, – отвечала Акулина.
– Зачем одной? И я еще похлебаю, – отозвался работник Спиридон. – Умница! Как тебя кликать-то? Плесни-ка нам еще в чашечку щец, – обратился он к Арине.
Арина вопросительно взглянула на хозяина. Тот кивнул и сказал:
– Плескай, плескай. У нас на это запрету нет. Только бы в работе старались.
И опять захлебали уста из вновь налитой чашки.
– Картошки-то нешто у вас своей не осталось в деревне с осени, что давеча говорила, что покупать надо? – спросила Акулину баба, раньше ее определившаяся на огород.
– Какая, мать моя, картошка! Картошка у нас какая была, так после Покрова еще продали.
– Стало быть, и капустки квашеной не осталось?
– У нас капусту по деревням вовсе и не садят.
– Ну?! С чего ж это так? У нас, в нашем Новоладожском уезде, все садят.
– А у нас не заведено. Да и откуда взять рассады? Ведь на рассаду нужен парник. Только лавочник да кабатчик и садят. Те рассаду из города привозят, а нам где же!
За щами явилась гречневая каша. Хозяин сходил за перегородку, вынес оттуда четвертную постного масла и экономно налил его в две чашки с кашей.
Снова зажевали уста – и минут через десять чашки опорожнились. Хозяин громко икнул, встал из-за стола и начал креститься на образ. Его примеру последовали и рабочие.
– За хлеб за соль, хозяин, – проговорил работник Панкрат, отирая губы и бороду рукавом рубахи.
– За хлеб за соль, Ардальон Сергеич. Спасибо, – повторили остальные рабочие.
Хозяин еще раз икнул и, закурив трубку, удалился к себе за перегородку, откуда послышался скрип досок его койки, показывающий, что он заваливается для послеобеденного сна. Закурили трубки и три работника. Изба наполнилась махорочным дымом. Бабы начали чихать.
– Хоть бы вы, мужики, на дворе курили, что ли, а то от дыма не продохнешь, – говорили они.
– Дай потеплеет, будем на дворе под навесом отдыхать, на дворе тогда и курить будем, – отвечали мужики, занимая места на лавках для послеобеденного отдыха.
Женщины, вытащив из-под лавок свои котомки вместо подушек, также валились на пол, чтобы соснуть часок-полтора. От двенадцати до двух часов, по заведенному порядку, на огороде не работали. Икота раздавалась то в том, то в другом углу. Мужики и женщины так и перекликались друг с другом.
– А ты, Арина Пелагевна, теперь поешь да посуду-то вымой и прибери – вот как у нас стряпухи делают, – послышался из-за перегородки голос Ардальона Сергеева.
Кой-где раздавалось уже всхрапывание, когда Арина принялась хлебать щи и кашу. По заведенному порядку, стряпуха ела отдельно, последняя. Поевши в охотку, она принялась мыть и убирать посуду, гремя котлом и чашками, но это не мешало уснувшим уже рабочим спать крепчайшим сном. Храпение и присвистывание носом сливалось изо всех углов воедино. Убравшись с посудой, Арина присела на лавку в головах одного из мужиков и, прислонившись к стене, и сама начала дремать. Она вскоре заснула. Виделась ей родимая деревня, вконец покосившаяся их старая изба с закопченными стенами, хрюканье двух тощих поросят под лавкой, которых перед самым ее отъездом продали кабатчику за полтинник, чтоб эти деньги дать ей, Арине, на харчи в дороге. Представлялась ей плачущая ее мать, прощающаяся с ней и благословляющая ее в путь. Слышались ей слова матери: «Смотри, Арина, соблюдай себя в Питере, береги себя». А отец стоял мрачный поодаль и прибавил: «А коли ежели мы что про тебя от земляков узнаем непутевое, то ты так и знай, что я шкуру с тебя спущу, когда ты домой по осени вернешься». Виделось ей, как ее вместе с товарками по путешествию всей семьей проводили до околицы, как отец и мать опять прощались с ней, как она, Арина, и сама плакала, как она шла и оборачивалась к околице, как там стояла ее мать с грудным ребенком в пазухе армяка и долго-долго крестила ее вслед.
– Вставать, вставать, любезные! Полно вам дрыхнуть! Два часа уже… За работу пора! – раздавался хозяйский голос из-за перегородки – и Арина проснулась.
Мужики и бабы медленно поднимались с пола и скамеек и почесывались. Вскочила и Арина с лавки и стала протирать глаза. Хозяин вышел из-за перегородки и заходил по избе, стуча новыми сапогами и набивая себе трубку. Акулина распахнула дверь на двор – и в избу ворвалась струя свежего весеннего солнечного воздуха. Акулина первая поплелась на работу, за ней стали выходить и другие женщины и мужики. Ардальон Сергеев говорил:
– А стряпка пусть в избе останется. Ужотка надо будет самовар ставить, а теперь пусть-ка возьмет мои две рубахи, что вчера вымыла, да хорошенько на скалке вальком их прокатает. Ариша! Слышишь?