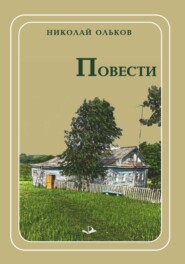По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чистая вода
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Семнадцать. Раньше все было понятно, был калым, был жених. Теперь все смешалось, татарки за русских замуж выходят, в соседней деревне парень русскую привел. А ты разве не хочешь побыть моим женихом?
Ты опять растерялся и сказал:
– Пойдем туда, поужинаем, потом решим.
– Подожди! – девушка взяла твое лицо в руки и посмотрела в глаза. – Какой ты чистый и красивый, Лаврик! – и крепко впилась в твои губы, упираясь тугими грудями и нежно поводя ими. – Все, теперь пойдем.
Когда они вернулись, бешбармак был готов, полные пиалы горячей шурпы стояли перед каждым. Естай разрешил налить всем:
– Сегодня у меня праздник, приехали мои русские друзья, пусть эта вода веселит нас до утра.
Пили самогонку и пили шурпу, горстями ели жирное молодое мясо. Газис принес маленькую татарскую гармонь, заиграл незнакомую мелодию, сестры в спокойном и медленном танце прошли несколько кругов по поляне. Взошла луна. Отец попросил, и Рустем спел жалобную песню. Старик прослезился. Ляйсан наклонилась к твоему уху:
– Это любимая песня мамы, она умерла год назад. Я уйду вон в те сосны, когда отец прикажет подать чай. И ты туда приходи.
Ляйсан сидела спиной к толстому дереву на обширной и толстой кошме. Ты осторожно сел рядом. Девушка наклонилась к твоему плечу, потом положила головку на грудь. Оба молчали. Волосы Ляйсан пахли лесной травой, ты уже без стеснения поцеловал ее глаза, щеки, губы. Ни одним движением не ответила девушка.
– Тебе не нравится, как я тебя целую?
– Шибко нравится, потому молчу, притихла. Вся ночь наша, я тоже тебя буду целовать. Я сниму свои одежды, так заведено было нашими предками, чтобы женщина входила к мужчине нагой и чистой.
Ты снял рубашку и штаны, сдернул кальсоны. Ляйсан спустила с плеч халат и, поднявшись на цыпочки, повесила его на нижний сучок. Как она красива голая на фоне полной луны! Вы обнялись и долго лежали, чувствуя каждый стук сердца, каждый вдох, всякое движение мышцы. Ляйсан чуть приподнималась и целовала твое тело, никем не тронутое, пугливое. Ты выскользнул из легких объятий и принялся выискивать самые щекотливые ее места, Ляйсан вздрагивала всем телом, шептала:
– Груди, сладкий, груди… Живот… Я сойду с ума. Пупок шевельни языком, еще, сладкий… – потом поймала твою голову: – Все, дальше не надо пока.
Ты запыхался, словно сено метал или дрова рубил, нашарил свою рубаху, вытер лицо.
Ляйсан улыбнулась:
– Устал, сладкий мой. Отдохни. Я тоже сердце свое найти не могу.
– Скажи, Ляйсан, почему нельзя, ты же сама меня позвала?
– Разве тебе плохо со мной целоваться? Или ты хочешь, чтобы я впустила тебя? Я тоже хочу, только боюсь. Ты ласкай меня, целуй, как хочешь, только пока не проси меня всю.
…Кто-то грубым пинком ударил тебя в ноги, в большие отцовские пимы. Видение исчезло, не стало Ляйсан, теплого вечера, мягкой кошмы. Пожилой милиционер сказал громко:
– Вставай, пошли.
Мать стояла у запертой двери того кабинета, в который уходила вместе с офицером. Ты быстро пришел в себя:
– Мама, виделись вы с Филей?
– Виделись, – за маму ответил милиционер. – Пошли, и ты повидашься.
Он повел тебя коридором во двор, потом в амбар, откинул незащелкнутый замок и распахнул дверь. Филя лежал на спине, сложив на груди руки, и спал. Нет, как он может спать на таком морозе? Хотел сказать милиционеру, но тот опередил:
– Загоняйте свою упряжку в ограду, и забирайте.
Ты поймал его за полу шинели и все хотел отругать, что бросили брата на холодном полу, пока тот не ухватил тебя за шапку:
– Ты контуженый или как? Убит твой брат. Матери следователь все объяснил.
– Меня, правда, контузило, ты меня за голову не шибко хватай, там местами черепа нет.
– В Бога мать! – выругался милиционер. – Ну и семейка! Один дезертир, та онемела и столбом стоит, этот дуру гонит! Убили твоего брата, при аресте побежал, вот при попытке стрельнули.
Ты понял. Они его просто убили. Они не говорить с ним приехали, а убить. Как же ты упустил, почему не настоял, что с ними поедешь? Стоял и думал.
Гальян подъехал к самому амбару, толкнул в плечо:
– Айда, поможешь вытащить.
Вы подняли тяжелое тело Фили и положили на дровни.
Гальян крикнул милиционеру:
– Дай кусок мешковины, хоть прикрыть его.
– Ага, сейчас, на вас мешковины не напасешься. Буду я на дезертира казенное имущество тратить.
Филю накрыли дедушкиным тулупом, выехали со двора, офицер в накинутой шинели придерживал мать, подвел ее к саням. Мать почернела, рот скривился, она пыталась что-то сказать. Ты кинулся к ней, а она вытянула руки и не допустила. Пробормотала невнятно:
– Сгинь с глаз моих, христопродавец! Уйди, чтобы я тебя больше не видела.
Ты все слова разобрал, только понять не мог: куда идти и что делать?
– Не хочет она, чтобы ты с братом ехал, – пояснил Гальян. – Мне конюх ихний рассказал, что ты навел на Филю, он сам возил троих, и команда им была живым не брать, а ухлопать на месте, чтобы не возиться да народ не злить. Матери все и рассказали. Ты заночуй здесь, пешком не ходи, волки шастают по ночам. А утричком, можа, кто из наших приедет. Все, тронулись мы, лошадь покойника чует, гужи рвет.
Все смешалось: мертвый Филя, убитая горем мать, прятавший глаза Гальян, уехавшая подвода и он один в районном центре, где не только ночевать негде, где вообще никого не знает. Пошел в сторону больницы – может, пустят перекантоваться в тепле, он уж бывал тут на проверках. В полутемном коридоре осмотрелся, подошел к регистратуре: вечер, никого нет, только женщина в белом халате пишет бумагу. Она подняла на тебя глаза и долго смотрела, улыбаясь:
– Лавруша Акимушкин, ты ли это?
Лицо знакомое, а признать не можешь.
– Лавруша, бывшая матушка Полина я.
Ты смутился, но поздравствовался.
– А что так поздно в больницу? Приема уже нет.
Было неловко признаваться, но пришлось.
– В тепло хотел попроситься, мне ночевать негде, а домой пешком далеко, да и волки, мне сказали.
Полина вышла из-за перегородки – вроде поправилась с того времени, с лица гладкая и веселая, как тогда.
– Я помогу твоему горю, Лавруша. У меня переночуешь. Не бойся, батюшку отправили на Урал, не ведомо, выпустят ли. А мы домик успели купить, так что живу пока одна. Пойдешь?