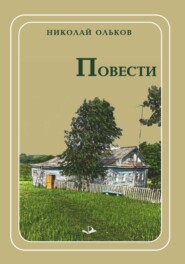По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чистая вода
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Чистая вода
Николай Максимович Ольков
Впервые увидевшая свет в Беларуси книга известного писателя Николая Олькова включает произведения, высоко оцененные читателями после публикации в лучших русских журналах. Его называют мастером большого масштаба, а его прозу – гениальными произведениями XX–XXI веков. Лаврентий Акимушкин, герой повести «Праведная душа», страдает, встречая в ответ на свою искренность и доброту смех, грубость и хамство окружающих. Возможный выход – пребывать в состоянии, близком к безумству. Григорий Канаков, главный герой повести «Чистая вода», – представитель поколения тех, кто одержал победу в Великой Отечественной войне и кто после строил новую жизнь. Повествование о том времени – это не ностальгия по прошлому, а, скорее, саднящая боль, что тревожит наши души и сегодня.
Николай Ольков
Чистая вода
Повести
© Ольков Н. М., 2024
© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2024
* * *
Праведная душа
Дед Максим любил рассказывать эту историю, он был самым старым в деревне и, пожалуй, один помнил деда Маркела и его повествование:
– Деревня наша как будто убегала от кого. Да она и на самом деле пыталась от большой воды схорониться, спервоначалу обосновалась между двух озеринок, так, ежели сурьезно, то лужицы, не больше того. На этом берегу чихни – с того здоровья пожелают. Но рыбешка в них водилась, опять же не из благородных, но едовая, во всех видах съедобная. Имя ей будет карась, ни седни, ни вчерась. О рыбе этой и как ее добывают, а пуще того, как поедают наши деревенские, я как-нинабудь особо распространюсь, а сейчас – про деревню. Сказывал эту быль дедушка покойный, а он сто пять годиков прошарашился по земле, в семьдесят женился на молодухе, да еще двоих ребятишек изладил. Знамо, шептались, что помогли, мол, добры люди, но, когда ребятишки подрастать стали, сумлений не сделалось: наших кровей, что парень, что девка. И взгляд суровый, и речь с хрипотцой, как будто скомандовать чего хотят либо дельное посоветовать. Тогда и разговоры утихли. Да чего об этом, молодуха каженное утро с улыбочкой на крыльцо выходила, потянется, бывало, аж в пояснице хрустнет.
– Ты бы, Апросинья, морду-то с утра не кривила, все хошь чего-то изобразить непонятного, – проворчит поране вставшая Евдокея, снохой она доводится Апроше, хотя годков-то поболе будет. Двор один, управа у каждого своя. Вот надо же, как жили: отцов дом – как корень, сынов – рядом, другого сына – обочь, дочь замуж выдали – желательно и зятя припрячь, и ему дом. А ограда больша, заплотом обнесена, в каждом углу навес, рядом тепляк для коров с телятишками и легкий двор для лошадей. Так вот, дед Маркел Епифантьевич как-то рассказывал, мы еще сопливые были, а слушали люди справные, солидные, и мы между них. Сказывал, что отец его, Епифан Демидович, шел в эти края аж от Онежского моря, он грамоте был обучен сурьезно, показывал мужикам холстину, по которой изображен был тот путь. И за место это земельному начальнику преподнесена была икона древнего северного письма, вся в золотой ризе и каменьями изукрашена. Начальник тот за подарок поклонился, икону развернул от рукотерта расшитого и приложился трижды с крестным знамением. Сказал, что примет и сохранит, а как церковь построит общество, то привезет икону и на коленях к иконостасу приставит. Так и сделал потом, не обманул.
Первые дома срубили по внутренним берегам озерков, хоть тот человек упреждал:
– Мужики, не льститесь на видимую удобицу, не жмитесь к воде, потому как бывает в пять годов раз большая вода.
Наши, конечно, понятия не имеют, с водой знались с мальства, вперед плавать умели, чем ходить, а тут пужают. Но человек разъямачил, что большая вода стихийно приходит и все забирает, и живое, и недвижимое. А приходит потому, что в дальних китайских краях с гор истекают ручьи, в казахских горах весной воды вниз падают, тихой рекой приходит вода в долину и так же тихо вытекает к северным морям. Только случается, много снега и льдов плавится под горным солнцем, воды смывают и скот, и посевы, людей смывают, аулы и кишлаки, под заунывный плач осиротевших баб вода скатывается в долину, и нет тут ей никаких преград. Высоченным валом идет, со льдом, звуки издает пугающие. Диковинные и жуткие рассказывал человек истории, что и стога неслись, и бани, и мосты сланские со скотиной, и даже волчица с выводком спасалась на вывороченном плетне. Через три лета случилось: ночью загрохотало, как майский гром, хотя какой гром – апреля середина. Повыскакивали, и при ясной луне узрели наиболее глазастые, что белый вал идет на деревню. Ну, вал – дело знакомое, только в море можно баркас в лоб волне поставить, а тут дома, скотина и ребятишки. Сообразили, запрягли телеги, орду побросали, барахло какое – и в гору. Скот тоже погнали, лошадей выпустили, те поумнее, сами спасенье найдут. Двух улиц лишились, вот тогда и подалась деревня в гору. Получилось, как будто разбежалась, да силов не хватило, так на полдороге и остановилась.
Вот так мы в этих краях образовались, так и род наш попер, слободный да работящий. Акимушкины далеко знамениты были маслом коровьим живым и топленым, купцы, сказывали, для чужих земель сторговывала пудами. А еще мясом, да пашеничкой, да мукой-крупчаткой, такой, что булки из той муки, бывало, хозяйки из печи вынуть не могут – так поднялись, что не входят в печное устье. А отчего? Оттого, что робили мы от зари до зари, на солнышко не заглядывали, а только по команде старейшего можно было остановиться. Вот и вам, робята, предстоят дни и годы трудов и радостей на родной матушке сырой земле.
Ты, Лавруша, совсем маленький, слушаешь, и сладко тебе от той истории и того завтрашнего радостного дня, который обещает дед Максим, старый и седой с головы до бороды, даже брови кустистые взялись белизной.
Сможешь ли ты вспомнить, Лаврентий, напряги тугой звенящей струной свою память, до мозгового простука, до физической боли напряги, отринь все земное, но вспомни, накормил ты тогда солдат пригоревшей своей кашей? Накормил или нет? Если опять придет убитый ротный, что ты ему скажешь? И нет тебе покоя, тысячу раз проклятый и прославленный простым солдатом повар, от которого зависела половина жизни ребят! Они всегда ругали тебя, что в санчасть бегаешь к девчонкам, а каша в это время от возмущения вся горит. Ругали, конечно, шутейно, у кого на войне язык повернется против повара, а тем паче – рука. Поваров не били. Но ты-то знаешь, что следовало бы иногда выправлять нехорошую линию ихнего поведения, когда, к примеру, в соседнем батальоне повар сахар вполовину стаскал связисткам, и масло тоже. Ты ведь тоже получил ко дню рождения товарища Сталина пол-ящика молосного, у вас в деревне не называют сливочным, а молосным, ну, молочным бы надо, да и так ладно. Ты все поделил и раздал, рядом со старшиной – тот спирт разливал. Так и отпраздновали хорошо, если не считать вечерней атаки налетевших мотоциклистов и троих наших, которым ты тоже копал неглубокие ямки.
А в тот злопамятный день варил ты перловку с зайчатиной, что утром снайпер Вася из северных народов принес, бросил у тележного колеса:
– Вот, Лаврик, добавка к паре фрицев, уже на свету выскочили порезвиться, ну, я и не устоял. То ли охотничья заросшая страстишка пробилась, то ли мясного захотел. Обладить-то умеешь?
Ты тогда сильно возмутился:
– Да я этого зверя столько туш перевешал, что счету нет! Что мне заяц? Я кабанов драл, лося самолично свежевал, до медведя дело доходило…
– Не дался медведь? – устало спросил снайпер Вася, широколицый, узкоглазый, суровый с виду, добрый, как ребенок, а вот кто научил под шкуру лезть? Конечно, около русского брата нахватался, приемыш хренов. Пришлось отвечать, иначе при ребятах припозорит:
– Я, Вася, на медведя не ходил, это он на меня вышел, когда мы с семьей сена косили в лесах. Вечерком пошел я в кусты, присел, как положено, тоскую. Тишина такая, что даже комаров нет. Выпротался я во весь рост, а он передо мной стоит, и морду приподнял, нюхает. Думаю, и спасло то, что сотворил дух ему неприятный, фыркнул он от брезгливости и подался в лес.
Вася не смеялся, только ощерил свои желтые кривые зубы и чиркнул слюной:
– Медведь умный.
Ты так возмутился, аж соскочил со своей чурочки:
– Умный! А я потом с кукорок не вставал всю ночь.
Вася уже почистил винтовку и котелок подает. Осталось с утра каши на донышке, остатки сладки заскреб, к огню поставил, ложку масла плеснул из бутыли.
– А куда батарею девал, повар? Разбежался народ?
Ты объяснил, что дан был приказ сниматься с позиции и уходить в направлении поселка, это километров пять. А ты оставлен готовить обед, потому что после перехода, возможно, батарея сразу вступит в бой, а после боя у солдата две нужды: пожрать и поспать. Вот первую и обязан удовлетворить – так, кажется, сказал капитан, ухвативший на всякий случай банку американской тушенки.
Ты еще вчера заметил под леском кучки земли от сусличиных норок – значит, живут большим семейством. Место высокое, хлеба года два никто не сеял, но из падалика наросло, сам на ходу ухватил горсть – пшеничка никакая, колосок жалкий, зернышко сморщилось, усохло, но все хлеб, если совсем ничего. Тем и пробивалась сусличиная порода. Ты же в молодости на всякую охоту был способен, особенно после коллективизации, когда и корову, и овечек, и все тягло забрали, и землю, и запас зерна. Кто похитрей, сбагрил пашеничку втихую киргизам петропавловским, и скота много сумели увести, пока доперла власть, что очищается единоличник от содержания, как умирающий при последнем издыхании выгоняет из себя все, чтобы пред Богом предстать в чистоте телесной, а до душевной – другое дело. И твой отец был не из праведников, сказал, что хоть всякая власть и от Бога, но дожидаться не стал, все хозяйство спустил с рук, в сусеках можно в чику играть. Пришлось голодовать вместе со всеми, вот тогда и подсказал старик Шатила, одинокий, безобразный:
– Пошли, Ларька, со мной, научу тебя от голода спасаться.
Пошли вы вечером на Кизиловку, тут раньше ребятишками сусликов из нор выливали. Днем зверьки по домам сидят, вот ребетня и льет в нору воду. Бывало, что папаша ихний хлебает, сколько может, а потом вылазит и бежит в сторону, раздутый и страшный. Ткнет кто палкой в брюхо – вся вода вытечет. А семейство той минутой в разбег, кто куда. Выходит, спасал папаша семью свою, во как. Бывало, выльют в нору одно ведро, за другим сбегают в соседнюю лягу, а нора уж полная. Только потом объяснил Шатила, что суслик своим телом перекрывает нору в узком месте, а другие тем временем спасательный ход роют.
Шатила показал, как надо петли вязать, чтобы суслик обязательно попался, как петлю крепить, чтобы зверек с ней не убежал. Ты тогда все перенял и тех сусликов носил домой по паре, а то и по две в день. Мать поначалу отказалась суп варить из нечистого мяса, но отец – молодец, растолковал, что суслик есть суть чистейшей животины, потому как пташка божия, питается природным зернышком. Ты тоже поначалу брезговал, морду воротил, а с голодухи как-то хлебанул ложку, вослед другую – ничего, получилось. А суп в самом деле наваристый был, приходилось на засов запираться, чтобы не увидел кто случайно да не сдал властям, что свинину жрут втихоря от остальных голодных колхозников. Кроме того, Шатила научил выкапывать по осени сусличьи гнезда, в которые они натаскивали запас зерна на зиму. Ты сильно удивил и напугал отца, когда приволок в мешке не меньше пудовки пшеницы. Перехвати недобрый человек – тюрьма…
Вася поел каши и выпил кружку чаю с сахаром, винтовку свою рядышком положил и, как с молодой женой в обнимку, уснул. Велел только разбудить и с собой взять, когда к поселку поедешь.
Что же дале? Ага, сходил на свой помысел, трех штук принес, быстро освежевал, в отдельном котелке сварил, обобрал мясо, а кости прикопнул: не дай Бог, кто увидит – со свету сживут. Варево то в котел кинул, смотришь – и зайчатина повеселела, верх мелкими звездочками подернулся. Хлебнул ты того кондера и удивился: до чего к душе, вот порадуются мужики!
Ты тогда еще насобирал дровец, валежника разного да прутьев. Это хорошая была привычка, потому что на новом месте, случалось, вообще никакого топлива не оказывалось, а то еще чище – дождь пойдет. А солдат и в ненастье есть хочет, похлеще, чем в ясный день. Потом Васю поднял, тот на повозке приспособился за теплым термосом и захрапел. Ты тогда еще травки подкосил для Серухи – лишней не будет, запас карман не трет, поймал гулявшую рядом кобылу, запряг в повозку, сел на облучок и покатил. На ходу соображал, что хлеба еще и на завтра хватит, а если не подвезут, то мешок сухарей всегда в запасе, заварка есть, да для чая сейчас смородинный лист – милое дело, кто понимат. И неожиданно для себя улыбнулся: елки-палки, это же тебе шибко повезло, что бывшего кашевара особист увел, сказал, что лазутчики кинули в батарейный котел какую-то яду, от которой сдохли бы все мужики, а повар то ли в сговоре, то ли бдительность посеял. Жранину ту вывалили в яму и зарыли, солдатиков тушенкой отоварили, банку на двоих, а повара того больше никто и не видел. Поговаривали, что офицеры трехлитровую фляжку спирта ночью под ей-богу выпросили у кошевара, а после трекнулись. Почему фляжка у повара сохранялась? Да, видно, старшина попросил придержать, сам куда-то отлучался. Вот отчего старшина именно тебя изобрал изо всех – то неведомо. Угодил, видно, когда-то, вот и поручил. Сказал, что варить научишься по ходу жизни. Пару дней терся тут паренек вихрастенький из соседней батареи, подучивал. Конечно, кое-что ты ухватил, а там понеслась.
Вон батарея, под деревней обосновалась – удобная позиция, фашистам за домами не видать. Ребята уж земли нарыли горы, тут и под орудия, и для землянок, и ходы сообщения. Кухню увидели издалека, кое-кто приветно пилоткой помахал. Ты уже и место выбрал, где остановиться, и термос открыл, и даже запах мясной вкусный уловил, вроде даже двоим-троим успел в котелки положить… Или не успел?
…В мирной еще жизни случались в деревне драки. Были два братца Казаковы, Илья да Григорий, как подопьют, непременно драку надо учинить. Да не просто так, а чтобы на всю деревню. Колья из огородной изгороди выламывают – и искать себе супротивников. Ведь находились! Совсем из другой кампании мужики, слова против не сказали казачатам, а тоже – жердь пополам, и в Бога мать! Вот при такой драке ввязался твой дядя Проня, не из драчливых, но шибко выпивши был, баба не усмотрела, как он кол сгреб и Гришку повдоль спины отоварил. Гришка взревел, Ильюха орет: «Кто брата хряснул, не жить тому на белом свете!» Тетка твоя и взмолилась: «Ларя, родной, выдерни ты мово из бучи! Убьют его казачата!» Ты и метнулся. Вот тогда первый раз сознанье отлетело, потому что по голове, хоть и со скользом, прошлась Гришкина жердина, вместе со шкурой прическу шибко испортила, но до мозгов не достала.
И тут точно такая же жердина вдруг сильно ударила тебя по голове. Черпак выпал, Серуха взметнулась и пала, брюхо ей разворотило, повозка опрокинулась, ты упал в вывалившееся еще теплое варево. Потом снаряды падали еще и еще, но ты уже ничего не слышал, был высоко над боем, над этой равниной, над Россией. И летал ты как бы безразлично, наблюдал за всем без содрогания, а надо бы. Кончили батарею. Целиком. Как упал на землю, не помнишь, но была боль по всему телу, как нарыв. Только вечером пришла полуторка, похоронная команда зарыла весь личный состав батареи, только тебя признали живым и кинули в кузов.
И что он тебе помнился, этот тобою не виденный бой, временами в ушах вязли крики «Мама!» и рев искалеченных мужиков, мат, прорывавшийся сквозь взрывы, и грохот такой, как будто вся фашистская артиллерия нашла эту точку и обозлилась. Помнится и варево это ценнейшее, что вез ребят порадовать. И как зайцев драл, и как сусликов трусовато обрабатывал, чтоб, не дай Бог, не застукали. Одно время являлась в памяти картинка, что хлебают братцы кондер, да еще хвалят находчивого кормильца. Потом совсем другое: взрыв, котел – на землю, лошадь лежа рвет гужи, а сам ты летишь, и так долго, что даже удивился. Ничего, пал-то рядом, это душа взлетала, по ошибке на свой счет команду приняла. Тоже ничего, вернулась. Все обошлось, но пришлось по госпиталям потаскаться, все-таки случай, сказывали, редкий, что с человека черепушку сняло, а он живой. Мозги всякий желающий может при перевязке посмотреть, а Лаврик при этом спокойно шаренками вертит. Если Гришка тогда только кожу снял и прическу навсегда изгадил, то фашист дальше пошел, кость сковырнул. Одни доктора говорили, что не жилец теперь солдат, другие проталкивали все дальше от фронта, в городской госпиталь. И погодись там в эту пору молодой хирург, что он сотворил, разве где в бумагах занесено, только при выписке сказал:
– Я тебе, Акимушкин, такую пластину вставил, что ей сносу не будет. Только поимей в виду: в одном месте не рассчитал, не хватило до кости, получилось как бы полое место. И будет теперь у тебя до скончания века бить родничок.
– Откуль? – испугался ты. – Не из башки же?
– Да нет, – успокоил доктор. – Видел ты у новорожденных на маковке родничок?
Кто же не видел, конечно, знакомое дело, ты даже обрадовался:
– Щупал у младшеньких братишков. Еще говорили, что темечко не заросло.
Врач радости твоей не одобрил, предостерег:
– Так вот, у братишков, как ты говоришь, заросло, а у тебя всегда будет. Место это береги, потому как там до мозгов одна пленочка, соломинкой можно проткнуть. Шапку носи или кепку, иными словами, все в твоих руках.
Правда, руки-то остались, потрескавшиеся, обожженные кипятком и углями из костра, поознобленные в лютые степные морозы, когда даже штрафбат лежит вон за соседней полосой, и немец тоже не дурак в такую погоду «хайлю» кричать, тихо сидит. Один раз унюхал носатый повар, что пахнуло вкусно, так у него на кухне пахло, когда старшина принес банку порошка, велел заварить, к батальонному какой-то начальник приехал. Осталась банка и слово новое для тебя: кофей. Не доводилось больше, да и так ладно. А повару и в такой мороз суп надо варить либо кашу, потому что русский мужик в мороз жрать горазд. Вот работы никакой, а кашу клади с горкой, да чтоб сало…
Николай Максимович Ольков
Впервые увидевшая свет в Беларуси книга известного писателя Николая Олькова включает произведения, высоко оцененные читателями после публикации в лучших русских журналах. Его называют мастером большого масштаба, а его прозу – гениальными произведениями XX–XXI веков. Лаврентий Акимушкин, герой повести «Праведная душа», страдает, встречая в ответ на свою искренность и доброту смех, грубость и хамство окружающих. Возможный выход – пребывать в состоянии, близком к безумству. Григорий Канаков, главный герой повести «Чистая вода», – представитель поколения тех, кто одержал победу в Великой Отечественной войне и кто после строил новую жизнь. Повествование о том времени – это не ностальгия по прошлому, а, скорее, саднящая боль, что тревожит наши души и сегодня.
Николай Ольков
Чистая вода
Повести
© Ольков Н. М., 2024
© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2024
* * *
Праведная душа
Дед Максим любил рассказывать эту историю, он был самым старым в деревне и, пожалуй, один помнил деда Маркела и его повествование:
– Деревня наша как будто убегала от кого. Да она и на самом деле пыталась от большой воды схорониться, спервоначалу обосновалась между двух озеринок, так, ежели сурьезно, то лужицы, не больше того. На этом берегу чихни – с того здоровья пожелают. Но рыбешка в них водилась, опять же не из благородных, но едовая, во всех видах съедобная. Имя ей будет карась, ни седни, ни вчерась. О рыбе этой и как ее добывают, а пуще того, как поедают наши деревенские, я как-нинабудь особо распространюсь, а сейчас – про деревню. Сказывал эту быль дедушка покойный, а он сто пять годиков прошарашился по земле, в семьдесят женился на молодухе, да еще двоих ребятишек изладил. Знамо, шептались, что помогли, мол, добры люди, но, когда ребятишки подрастать стали, сумлений не сделалось: наших кровей, что парень, что девка. И взгляд суровый, и речь с хрипотцой, как будто скомандовать чего хотят либо дельное посоветовать. Тогда и разговоры утихли. Да чего об этом, молодуха каженное утро с улыбочкой на крыльцо выходила, потянется, бывало, аж в пояснице хрустнет.
– Ты бы, Апросинья, морду-то с утра не кривила, все хошь чего-то изобразить непонятного, – проворчит поране вставшая Евдокея, снохой она доводится Апроше, хотя годков-то поболе будет. Двор один, управа у каждого своя. Вот надо же, как жили: отцов дом – как корень, сынов – рядом, другого сына – обочь, дочь замуж выдали – желательно и зятя припрячь, и ему дом. А ограда больша, заплотом обнесена, в каждом углу навес, рядом тепляк для коров с телятишками и легкий двор для лошадей. Так вот, дед Маркел Епифантьевич как-то рассказывал, мы еще сопливые были, а слушали люди справные, солидные, и мы между них. Сказывал, что отец его, Епифан Демидович, шел в эти края аж от Онежского моря, он грамоте был обучен сурьезно, показывал мужикам холстину, по которой изображен был тот путь. И за место это земельному начальнику преподнесена была икона древнего северного письма, вся в золотой ризе и каменьями изукрашена. Начальник тот за подарок поклонился, икону развернул от рукотерта расшитого и приложился трижды с крестным знамением. Сказал, что примет и сохранит, а как церковь построит общество, то привезет икону и на коленях к иконостасу приставит. Так и сделал потом, не обманул.
Первые дома срубили по внутренним берегам озерков, хоть тот человек упреждал:
– Мужики, не льститесь на видимую удобицу, не жмитесь к воде, потому как бывает в пять годов раз большая вода.
Наши, конечно, понятия не имеют, с водой знались с мальства, вперед плавать умели, чем ходить, а тут пужают. Но человек разъямачил, что большая вода стихийно приходит и все забирает, и живое, и недвижимое. А приходит потому, что в дальних китайских краях с гор истекают ручьи, в казахских горах весной воды вниз падают, тихой рекой приходит вода в долину и так же тихо вытекает к северным морям. Только случается, много снега и льдов плавится под горным солнцем, воды смывают и скот, и посевы, людей смывают, аулы и кишлаки, под заунывный плач осиротевших баб вода скатывается в долину, и нет тут ей никаких преград. Высоченным валом идет, со льдом, звуки издает пугающие. Диковинные и жуткие рассказывал человек истории, что и стога неслись, и бани, и мосты сланские со скотиной, и даже волчица с выводком спасалась на вывороченном плетне. Через три лета случилось: ночью загрохотало, как майский гром, хотя какой гром – апреля середина. Повыскакивали, и при ясной луне узрели наиболее глазастые, что белый вал идет на деревню. Ну, вал – дело знакомое, только в море можно баркас в лоб волне поставить, а тут дома, скотина и ребятишки. Сообразили, запрягли телеги, орду побросали, барахло какое – и в гору. Скот тоже погнали, лошадей выпустили, те поумнее, сами спасенье найдут. Двух улиц лишились, вот тогда и подалась деревня в гору. Получилось, как будто разбежалась, да силов не хватило, так на полдороге и остановилась.
Вот так мы в этих краях образовались, так и род наш попер, слободный да работящий. Акимушкины далеко знамениты были маслом коровьим живым и топленым, купцы, сказывали, для чужих земель сторговывала пудами. А еще мясом, да пашеничкой, да мукой-крупчаткой, такой, что булки из той муки, бывало, хозяйки из печи вынуть не могут – так поднялись, что не входят в печное устье. А отчего? Оттого, что робили мы от зари до зари, на солнышко не заглядывали, а только по команде старейшего можно было остановиться. Вот и вам, робята, предстоят дни и годы трудов и радостей на родной матушке сырой земле.
Ты, Лавруша, совсем маленький, слушаешь, и сладко тебе от той истории и того завтрашнего радостного дня, который обещает дед Максим, старый и седой с головы до бороды, даже брови кустистые взялись белизной.
Сможешь ли ты вспомнить, Лаврентий, напряги тугой звенящей струной свою память, до мозгового простука, до физической боли напряги, отринь все земное, но вспомни, накормил ты тогда солдат пригоревшей своей кашей? Накормил или нет? Если опять придет убитый ротный, что ты ему скажешь? И нет тебе покоя, тысячу раз проклятый и прославленный простым солдатом повар, от которого зависела половина жизни ребят! Они всегда ругали тебя, что в санчасть бегаешь к девчонкам, а каша в это время от возмущения вся горит. Ругали, конечно, шутейно, у кого на войне язык повернется против повара, а тем паче – рука. Поваров не били. Но ты-то знаешь, что следовало бы иногда выправлять нехорошую линию ихнего поведения, когда, к примеру, в соседнем батальоне повар сахар вполовину стаскал связисткам, и масло тоже. Ты ведь тоже получил ко дню рождения товарища Сталина пол-ящика молосного, у вас в деревне не называют сливочным, а молосным, ну, молочным бы надо, да и так ладно. Ты все поделил и раздал, рядом со старшиной – тот спирт разливал. Так и отпраздновали хорошо, если не считать вечерней атаки налетевших мотоциклистов и троих наших, которым ты тоже копал неглубокие ямки.
А в тот злопамятный день варил ты перловку с зайчатиной, что утром снайпер Вася из северных народов принес, бросил у тележного колеса:
– Вот, Лаврик, добавка к паре фрицев, уже на свету выскочили порезвиться, ну, я и не устоял. То ли охотничья заросшая страстишка пробилась, то ли мясного захотел. Обладить-то умеешь?
Ты тогда сильно возмутился:
– Да я этого зверя столько туш перевешал, что счету нет! Что мне заяц? Я кабанов драл, лося самолично свежевал, до медведя дело доходило…
– Не дался медведь? – устало спросил снайпер Вася, широколицый, узкоглазый, суровый с виду, добрый, как ребенок, а вот кто научил под шкуру лезть? Конечно, около русского брата нахватался, приемыш хренов. Пришлось отвечать, иначе при ребятах припозорит:
– Я, Вася, на медведя не ходил, это он на меня вышел, когда мы с семьей сена косили в лесах. Вечерком пошел я в кусты, присел, как положено, тоскую. Тишина такая, что даже комаров нет. Выпротался я во весь рост, а он передо мной стоит, и морду приподнял, нюхает. Думаю, и спасло то, что сотворил дух ему неприятный, фыркнул он от брезгливости и подался в лес.
Вася не смеялся, только ощерил свои желтые кривые зубы и чиркнул слюной:
– Медведь умный.
Ты так возмутился, аж соскочил со своей чурочки:
– Умный! А я потом с кукорок не вставал всю ночь.
Вася уже почистил винтовку и котелок подает. Осталось с утра каши на донышке, остатки сладки заскреб, к огню поставил, ложку масла плеснул из бутыли.
– А куда батарею девал, повар? Разбежался народ?
Ты объяснил, что дан был приказ сниматься с позиции и уходить в направлении поселка, это километров пять. А ты оставлен готовить обед, потому что после перехода, возможно, батарея сразу вступит в бой, а после боя у солдата две нужды: пожрать и поспать. Вот первую и обязан удовлетворить – так, кажется, сказал капитан, ухвативший на всякий случай банку американской тушенки.
Ты еще вчера заметил под леском кучки земли от сусличиных норок – значит, живут большим семейством. Место высокое, хлеба года два никто не сеял, но из падалика наросло, сам на ходу ухватил горсть – пшеничка никакая, колосок жалкий, зернышко сморщилось, усохло, но все хлеб, если совсем ничего. Тем и пробивалась сусличиная порода. Ты же в молодости на всякую охоту был способен, особенно после коллективизации, когда и корову, и овечек, и все тягло забрали, и землю, и запас зерна. Кто похитрей, сбагрил пашеничку втихую киргизам петропавловским, и скота много сумели увести, пока доперла власть, что очищается единоличник от содержания, как умирающий при последнем издыхании выгоняет из себя все, чтобы пред Богом предстать в чистоте телесной, а до душевной – другое дело. И твой отец был не из праведников, сказал, что хоть всякая власть и от Бога, но дожидаться не стал, все хозяйство спустил с рук, в сусеках можно в чику играть. Пришлось голодовать вместе со всеми, вот тогда и подсказал старик Шатила, одинокий, безобразный:
– Пошли, Ларька, со мной, научу тебя от голода спасаться.
Пошли вы вечером на Кизиловку, тут раньше ребятишками сусликов из нор выливали. Днем зверьки по домам сидят, вот ребетня и льет в нору воду. Бывало, что папаша ихний хлебает, сколько может, а потом вылазит и бежит в сторону, раздутый и страшный. Ткнет кто палкой в брюхо – вся вода вытечет. А семейство той минутой в разбег, кто куда. Выходит, спасал папаша семью свою, во как. Бывало, выльют в нору одно ведро, за другим сбегают в соседнюю лягу, а нора уж полная. Только потом объяснил Шатила, что суслик своим телом перекрывает нору в узком месте, а другие тем временем спасательный ход роют.
Шатила показал, как надо петли вязать, чтобы суслик обязательно попался, как петлю крепить, чтобы зверек с ней не убежал. Ты тогда все перенял и тех сусликов носил домой по паре, а то и по две в день. Мать поначалу отказалась суп варить из нечистого мяса, но отец – молодец, растолковал, что суслик есть суть чистейшей животины, потому как пташка божия, питается природным зернышком. Ты тоже поначалу брезговал, морду воротил, а с голодухи как-то хлебанул ложку, вослед другую – ничего, получилось. А суп в самом деле наваристый был, приходилось на засов запираться, чтобы не увидел кто случайно да не сдал властям, что свинину жрут втихоря от остальных голодных колхозников. Кроме того, Шатила научил выкапывать по осени сусличьи гнезда, в которые они натаскивали запас зерна на зиму. Ты сильно удивил и напугал отца, когда приволок в мешке не меньше пудовки пшеницы. Перехвати недобрый человек – тюрьма…
Вася поел каши и выпил кружку чаю с сахаром, винтовку свою рядышком положил и, как с молодой женой в обнимку, уснул. Велел только разбудить и с собой взять, когда к поселку поедешь.
Что же дале? Ага, сходил на свой помысел, трех штук принес, быстро освежевал, в отдельном котелке сварил, обобрал мясо, а кости прикопнул: не дай Бог, кто увидит – со свету сживут. Варево то в котел кинул, смотришь – и зайчатина повеселела, верх мелкими звездочками подернулся. Хлебнул ты того кондера и удивился: до чего к душе, вот порадуются мужики!
Ты тогда еще насобирал дровец, валежника разного да прутьев. Это хорошая была привычка, потому что на новом месте, случалось, вообще никакого топлива не оказывалось, а то еще чище – дождь пойдет. А солдат и в ненастье есть хочет, похлеще, чем в ясный день. Потом Васю поднял, тот на повозке приспособился за теплым термосом и захрапел. Ты тогда еще травки подкосил для Серухи – лишней не будет, запас карман не трет, поймал гулявшую рядом кобылу, запряг в повозку, сел на облучок и покатил. На ходу соображал, что хлеба еще и на завтра хватит, а если не подвезут, то мешок сухарей всегда в запасе, заварка есть, да для чая сейчас смородинный лист – милое дело, кто понимат. И неожиданно для себя улыбнулся: елки-палки, это же тебе шибко повезло, что бывшего кашевара особист увел, сказал, что лазутчики кинули в батарейный котел какую-то яду, от которой сдохли бы все мужики, а повар то ли в сговоре, то ли бдительность посеял. Жранину ту вывалили в яму и зарыли, солдатиков тушенкой отоварили, банку на двоих, а повара того больше никто и не видел. Поговаривали, что офицеры трехлитровую фляжку спирта ночью под ей-богу выпросили у кошевара, а после трекнулись. Почему фляжка у повара сохранялась? Да, видно, старшина попросил придержать, сам куда-то отлучался. Вот отчего старшина именно тебя изобрал изо всех – то неведомо. Угодил, видно, когда-то, вот и поручил. Сказал, что варить научишься по ходу жизни. Пару дней терся тут паренек вихрастенький из соседней батареи, подучивал. Конечно, кое-что ты ухватил, а там понеслась.
Вон батарея, под деревней обосновалась – удобная позиция, фашистам за домами не видать. Ребята уж земли нарыли горы, тут и под орудия, и для землянок, и ходы сообщения. Кухню увидели издалека, кое-кто приветно пилоткой помахал. Ты уже и место выбрал, где остановиться, и термос открыл, и даже запах мясной вкусный уловил, вроде даже двоим-троим успел в котелки положить… Или не успел?
…В мирной еще жизни случались в деревне драки. Были два братца Казаковы, Илья да Григорий, как подопьют, непременно драку надо учинить. Да не просто так, а чтобы на всю деревню. Колья из огородной изгороди выламывают – и искать себе супротивников. Ведь находились! Совсем из другой кампании мужики, слова против не сказали казачатам, а тоже – жердь пополам, и в Бога мать! Вот при такой драке ввязался твой дядя Проня, не из драчливых, но шибко выпивши был, баба не усмотрела, как он кол сгреб и Гришку повдоль спины отоварил. Гришка взревел, Ильюха орет: «Кто брата хряснул, не жить тому на белом свете!» Тетка твоя и взмолилась: «Ларя, родной, выдерни ты мово из бучи! Убьют его казачата!» Ты и метнулся. Вот тогда первый раз сознанье отлетело, потому что по голове, хоть и со скользом, прошлась Гришкина жердина, вместе со шкурой прическу шибко испортила, но до мозгов не достала.
И тут точно такая же жердина вдруг сильно ударила тебя по голове. Черпак выпал, Серуха взметнулась и пала, брюхо ей разворотило, повозка опрокинулась, ты упал в вывалившееся еще теплое варево. Потом снаряды падали еще и еще, но ты уже ничего не слышал, был высоко над боем, над этой равниной, над Россией. И летал ты как бы безразлично, наблюдал за всем без содрогания, а надо бы. Кончили батарею. Целиком. Как упал на землю, не помнишь, но была боль по всему телу, как нарыв. Только вечером пришла полуторка, похоронная команда зарыла весь личный состав батареи, только тебя признали живым и кинули в кузов.
И что он тебе помнился, этот тобою не виденный бой, временами в ушах вязли крики «Мама!» и рев искалеченных мужиков, мат, прорывавшийся сквозь взрывы, и грохот такой, как будто вся фашистская артиллерия нашла эту точку и обозлилась. Помнится и варево это ценнейшее, что вез ребят порадовать. И как зайцев драл, и как сусликов трусовато обрабатывал, чтоб, не дай Бог, не застукали. Одно время являлась в памяти картинка, что хлебают братцы кондер, да еще хвалят находчивого кормильца. Потом совсем другое: взрыв, котел – на землю, лошадь лежа рвет гужи, а сам ты летишь, и так долго, что даже удивился. Ничего, пал-то рядом, это душа взлетала, по ошибке на свой счет команду приняла. Тоже ничего, вернулась. Все обошлось, но пришлось по госпиталям потаскаться, все-таки случай, сказывали, редкий, что с человека черепушку сняло, а он живой. Мозги всякий желающий может при перевязке посмотреть, а Лаврик при этом спокойно шаренками вертит. Если Гришка тогда только кожу снял и прическу навсегда изгадил, то фашист дальше пошел, кость сковырнул. Одни доктора говорили, что не жилец теперь солдат, другие проталкивали все дальше от фронта, в городской госпиталь. И погодись там в эту пору молодой хирург, что он сотворил, разве где в бумагах занесено, только при выписке сказал:
– Я тебе, Акимушкин, такую пластину вставил, что ей сносу не будет. Только поимей в виду: в одном месте не рассчитал, не хватило до кости, получилось как бы полое место. И будет теперь у тебя до скончания века бить родничок.
– Откуль? – испугался ты. – Не из башки же?
– Да нет, – успокоил доктор. – Видел ты у новорожденных на маковке родничок?
Кто же не видел, конечно, знакомое дело, ты даже обрадовался:
– Щупал у младшеньких братишков. Еще говорили, что темечко не заросло.
Врач радости твоей не одобрил, предостерег:
– Так вот, у братишков, как ты говоришь, заросло, а у тебя всегда будет. Место это береги, потому как там до мозгов одна пленочка, соломинкой можно проткнуть. Шапку носи или кепку, иными словами, все в твоих руках.
Правда, руки-то остались, потрескавшиеся, обожженные кипятком и углями из костра, поознобленные в лютые степные морозы, когда даже штрафбат лежит вон за соседней полосой, и немец тоже не дурак в такую погоду «хайлю» кричать, тихо сидит. Один раз унюхал носатый повар, что пахнуло вкусно, так у него на кухне пахло, когда старшина принес банку порошка, велел заварить, к батальонному какой-то начальник приехал. Осталась банка и слово новое для тебя: кофей. Не доводилось больше, да и так ладно. А повару и в такой мороз суп надо варить либо кашу, потому что русский мужик в мороз жрать горазд. Вот работы никакой, а кашу клади с горкой, да чтоб сало…